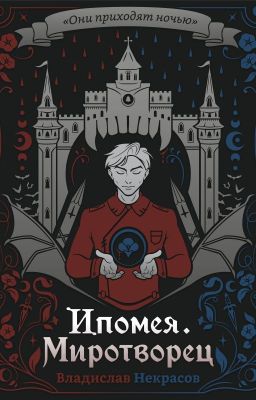Глава X. Подвал
От света рябило в глазах. Геродот скинул его на пол. От стука упавшего тела – чужеродного в таком затхлом месте – на секунду усилился нечеловеческий шёпот. Он шелестел – повсюду, до самого тёмного провала в другом конце широкого коридора, – как трава, потревоженная ветром. Чуть повернув голову, Коршун действительно увидел едва шатавшиеся – нет, не травинки, – тени. Тёмные даже на электрическом свету от длинных ламп на потолке.
– Вставай, – Геродот ткнул Коршуна носком ботинка в плечо. Прикосновение отдалось тупой болью. Будто опять ножом проткнули. Коршун зашевелился.
Гортензия, оставшаяся на лестнице под защитой стальной решётки – одной из многих в ярко освещённом продолговатом помещении под залом Собора, куда вёл тайный ход за пыльными трубами, – прикрывавшая Геродота Мадам-мэр просунула между прутьев револьвер и взвела курок. Коршун схватился за плечо, усаживаясь.
– Не сто́ит, – махнул Гортензии Геродот. Он к ней не обернулся, и хотя Мадам-мэр отвела ладонь, оружие она не убрала. Как и пристального взгляда – с Коршуна. Тот ответил ей тем же, пронзительным прищуром, выражавшим презрение и закипавшую жажду.
– Что? – среагировал Геродот, скрестив руки и склонив голову. – Не нравится, что она со мной?
Коршун не ответил. Всё читалось по его лицу – хмурому не только от боли и зарождавшегося внутри дикого чувства недостаточности, но и от вполне оправданной злости: на Геродота, давно погибшего Платона, не вовремя пропавшую Ифигению, на пресмыкающуюся перед первым Гортензию – бывшего Миротворца! Нынешнюю Мадам-мэр! Официальную главу города! – и даже неожиданно на Снега. На всех, но особенно именно на папу, съевшего его маму. Коршун понял всё без уточнений. Их с Золой матери таинственно пропали. Так бывало и с другими – теми, кто сталкивался на улицах города с прорвавшимися извне вампирами, слишком голодными, чтобы остановиться. И Снег – «умерший и оставшийся жить» – прорвался. До самого Собора с двумя башнями. С тремя – некогда – портретами. С тремя вампирами.
– Тогда, знаешь, – Геродот неожиданно присел на корточки, – тебе станет ещё неприятнее от того факта, – он всё же обернулся, глянув одним глазом, на Мадам-мэр, – что я её никак не заставлял. Она сама решила мне помогать.
От Гортензии взор Коршуна перешёл к Геродоту. К гневу примешивалась растерянность. «Добровольно прислуживать... Чудовищу?» Он опять посмотрел на Гортензию – морщинистое лицо как застывшая глина, засохшая с успевшими отпечататься старческими бороздами.
– Удивлён? – Геродот листал его как открытую книгу. Он сцепил в замо́к пальцы. – А не надо. Всё вполне естественно: как любое живое существо, мадам Гортензия руководствуется желаниями. – Геродот облизнул пересохшие губы. Они оба давно не пили.
– Например, – продолжил вампир, – они ведомы крайне обыденным желанием не стареть и, как следствие, не умирать. – Геродот хмыкнул. Если бы не глаза – слишком тёмные, слишком... усталые? – и не борода, его вполне можно было бы принять за ровесника Золы или даже младше.
Коршун невольно поморщился от того, что поставил их вместе.
– Не кривись, – поддел его Геродот. – Ты сам обратился, потому что... Ну, кто-то, может, не ты сам, захотел, чтобы ты так или иначе жил. – Он дёрнул плечами. – Вот и Гортензия впервые в жизни делает, что хочет. Не то, что должна – как женщина, как мать, как Миротворец! – Он повысил голос, всплеснув руками, и тут же притих, опуская ладони на колени. – Она делает, что хочет, как человек. Смертный, стареющий человек, у которого слишком много «надо» и так мало «хочу». Несправедливо и потому совершенно неудивительно, ведь даже здесь, в Ипомее, после стольких лет, тоже полно несправедливости. Неравенства.
Он ощерился. Коршун глянул в сторону. Трава за другими решётками – «клетками», подсказало сознание, – шевелилась, тихо перешёптываясь.
Что-то – «Мухи слетаются на сахар...» – Коршун даже разобрал. Но смысла не уловил.
– И знаешь, – Геродот заглушил любые звуки, – что плохого в том, что Гортензия исправляет неравенство для себя? Что такого в том, что она хочет вернуть молодость – пускай ценой собственного сердца и за счёт помощи такому, как я, такому, каким она сама не против стать?
От упоминания сердца Коршун схватился за грудь. Слева. За пустоту. Она чесалась, пусть не билась, и Коршун с трудом давил в себе порыв разорвать самого себя, чтобы хоть чем-то – пусть рукой – заполнить внутреннюю... Пустошь. Похожую на ту, что за городом, мёртвую и без рытвин от бомб, зато с дырой. И давил не потому, что это глупо – он бы только поранился и истратил силы, – а потому что мог. Всерьёз мог вскрыть собственное тело, чтобы... Чтобы что? Вот именно. На ногтях нет серебра.
– Вы не понимаете, – выговорил он, поймав глазами дуло револьвера. Гортензия опять вскинула оружие, увидев, как Коршун, опережая Геродота, пытается встать. – Вы не понимаете, чего хотите. – Он поднялся. Геродот снова одним жестом велел Гортензии не вмешиваться.
– О, – протянул он, упирая руки в бока и широко улыбаясь, – тут я с тобой согласен.
Геродот опять – ну сколько можно! – схватил Коршуна за шею. Он её не свернул – на удивление обращался относительно бережно, даже не оставив царапин, – лишь взялся, чтобы впихнуть Коршуна в ближайшую клетку.
Шёпот – самый внятный, «Мухи привлекают пауков», – раздался совсем близко и умолк, когда за Коршуном захлопнулась решётка. Геродот запер её – дверь камеры, – на обычный железный замо́к и повернулся обратно к лестнице. Гортензия только тогда спрятала револьвер в карман брюк. Как Коршун ни старался, он не сумел поймать её взгляд, а вскоре – со звоном опускавшегося рычага, – он уже не видел ничего.
Ничего, кроме них.
Его бросили в траву – покачивающихся теней, в отличие от настоящих травинок, к свету наверху не тянувшихся, а наоборот, по возможности его избегая, сильно наклоняя головы и облепляя впалые, местами уже оголявшие череп лица спутанными, гнившими вместе с телами волосами. Коршун оказался в клетке с другими вампирами. Они на него, пустого и тихого, не реагировали – даже когда он задевал их плечом, протискиваясь вглубь клетки, к каменной стене, – и приглушённо сопели, шептали, рычали, не в силах от света ламп даже вскинуть макушку. Они – Коршун легко сопоставил их с тенями за городом, с теми, с кем сталкивался он сам и иные Миротворцы, ждавшие нападения ночных хищников, а не обезумевших, до неузнаваемости изменившихся людей, настолько голодных, что лезли под пули, стрелы, колья, – вампиры, собранные под самым носом у жителей города, в подвале центрального Собора Ипомеи, находились на такой пугающей стадии истощения, когда их могло «оживить» лишь непреодолимое желание есть. Одно большое, необъятное – как пустота в груди – «хочу»... Коршун лбом вжался в прохладную стену.
Он не знал, наступил ли рассвет, завяли ли цветы – всё равно здесь не выключали слепящий, ещё сильнее давивший свет, – однако ему отчётливо казалось, что на него буквально насел целый мир. Когда-то его – человека – мир, где всё пространство сужалось либо до города-лабиринта либо маленькой квартирки. Коршун и не подозревал, что под его домом мог быть целый... Гадюшник – иначе его новое пристанище, хоронившее ещё живые, шатавшиеся стебли-трупы не назовёшь. Это была братская могила, где, дёргая спинами, копошились черви, охочие до чужой плоти. Или – Коршун задумался, вспомнив пресловутую окровавленную бородку, – здесь гнили неприглядные, по-своему питавшие верх корни последнего города людей. Того самого, что почти каждую ночь отбивался от вампиров. Вампиров, невозможных без людей. И от людей, превращённых в вампиров. Людей, нужных вампирам.
«Поэтому, – всплыл в памяти низкий голос Геродота, – твой папа, юный Коршун, решил избавиться сразу от всех – и от вампиров, нас, и от вас, Миротворцев».
Если уцелел лишь один город на всей планете, то откуда же появляются каждую ночь новые вампиры? Только оказавшись в тайном подвале, Коршун вдруг осознал жуткую истину – по сути, всё это время последние люди сражались с самими собой... Истребляли, не догадываясь, друг друга. Как... Как глупые мухи слетались на... Что?
Коршун вскинул голову, резко прикрыв глаза рукой. Сверху, перекрывая шелест внизу, доносилось повторяющееся бормотание:
– Мухи слетаются на сахар. Мухи привлекают пауков.
По потолку, заслоняя обжигающую лампу, ползло огромное насекомое. «Нет». Коршун прищурился. По потолку, докуда не доходили решётки, передвигалось... Тело. Вампир.
– Мухи...
У тела появилось лицо. Оно блеснуло – линзами очков – и неожиданно накрыло Коршуна тенью. Тот вжался в стену, прикрываясь руками, когда незнакомец – в длинном плаще, с завязанными в хвост волосами, жёлтыми, как те же лампочки, глазами – плавно, с разлившимся задетым им шипением, приземлился на пол. Трава смялась и тут же разгладилась, переместившись и освободив неизвестному место.
– Мухи слетаются на сахар, – повторил мужчина, беззвучно постучав пальцами о пальцы и изучающе глянув поверх них на Коршуна. Тот опустил руки, вглядевшись в ответ.
Если не считать бледного цвета лица и чёрной мути вокруг рта, вампир выглядел сносно – по крайней мере, он вполне нормально видел и даже говорил. Ну, не совсем нормально, но всё же.
– Мухи привлекают пауков, – договорил незнакомец свою мантру и неожиданно втянул носом воздух. До Коршуна не сразу дошло, что к нему принюхиваются.
– А, – выдохнул странный вампир в круглых очках что-то новое. – Свежий образец. – Он поправил на переносице очки.
Коршун нахмурился. Что-что, а такое было слышать неожиданно. Причём ладно «образец» – вампир не то чтобы одушевлённый, – но «свежий»? Коршун ощущал себя каким угодно – побитым, смятым, придавленным к асфальту подошвой древесным листиком, – но никак не свежим. Он же в конце концов не еда – тем более ни для вампира.
Мужчина в очках вновь поправил дужку. «И как они не слетели от таких манёвров?» – закралась Коршуну мысль. На потолках решёток не наблюдалось. «На стене одного дома, – тут же напомнил он себе, стиснув кулаки, – тоже». И тем не менее вампиры по ним ползали. Как настоящие насекомые.
– Наверху... – Мужчина дёрнулся, хлюпнув. Он прижал подбородок к плечу и, по-змеиному изогнувшись, встал ровно, сумев продолжить: – Осень? Наверху?
Коршун, создав ладонями козырёк над бровями, кивнул. От света тут жарило как летом.
– Плохо, – прошипел незнакомец, снова ненадолго выгнувшись. – Скверный с-с-сезон. Нас-с-секомые впадают в спячку.
Он облизнул губы, высунув чернильный язык, и Коршун переставил ладони ко рту. Когда мужчина неожиданно протянул свою руку, он не сразу ответил на рукопожатие. Сперва научился не смотреть на лицо, когда тот говорил:
– Наверху меня звали Муравей.
Коршун неохотно потянулся к ладони – слишком уж долго Муравей её держал.
– Но ты, – его пальцы взлетели и сомкнулись, оставив Коршуна своими хватать воздух, – здесь, можешь звать меня Марк.
Коршун опять нахмурился. Ему вдруг кое-что – кое-кто – вспомнился:
– Аврелий?
На лице Муравья-Марка растянулась улыбка, чёрная и растёкшаяся гноем. Коршун еле удержался, чтобы не отвернуться.
– Мне н-н-нравится. – Он пожал Коршуну руку. Ненадолго дрожь Муравья передалась и ему.
– Коршун, – представился Коршун и, поразмыслив – даром, затянувшееся рукопожатие позволяло, – добавил: – Аполлон.
Два имени. Человеческое и вампирское. Живое и мёртвое. Новое и древнее. Марк-Муравей опять облизнул губы.
– Славно! – встрепенулся он, отпуская чужую ладонь. Украдкой присмотревшись, Коршун обнаружил у себя на коже чёрный след.
Форма Миротворца моментально пополнилась новым оттенком. Вытираясь о карман, Коршун вдруг вспомнил про зажигалку. Правда, непонятно зачем – металл не подожжёшь, себя и других обжигать больно, да и найди он где-то трубку, всё равно бы не смог закурить. Лёгкие больше не воспринимали и дым. Даже жаль, что Коршун впредь не встретит Остролиста – тот бы его, во-первых, мгновенно убил как обычного вампира, а во-вторых, это же ещё выбраться надо. И за исключением прикрытой лестницы, откуда Коршуна привели, и терявшегося в противоположной темноте провала, выхода отсюда не наблюдалось. Всё, что ему оставалось, это теребить бесполезную зажигалку и слушать такого же, как он, ещё вменяемый, одинокого Муравья Аврелия. И тому, на удивление, нашлось, что рассказать. Во-первых: про тех же насекомых.
Марк ими питался. «В них тоже есть кровь, – пожал он плечами в ответ на отразившееся недоверие (или отвращение) на лице Коршуна. – Очень-очень мало, но это лучше, чем н-н-ничего». Коршун не спорил. Однако от мух всё же отказался. Муравей, регулярно залезая наверх, находил их в лампах. Они липли к свету (вовсе не к сахару), как вампиры от него сжимались всем телом. Ну, кроме Муравья, то ли из-за линз очков – ненужных после обращения, – то ли просто привыкнув (что вполне возможно, учитывая, сколько он тут пробыл), менее восприимчивого к жару.
Во-вторых же, Марк Аврелий Муравей поведал ему о прошлом – о своём и всего города, неразрывно, как оказалось, связанном с ним самим, а вернее, с его, Муравья, бывшей, человеческой должностью. Вернувшись к теме имени: «Нас давно наверху называют в честь низших с-с-существ или обычных вещей, ведь для т-т-трёх владык Ипомеи мы всё равно что скот-т-т, взращиваемый на убой, или примитивные восполняемые рес-с-сурсы, неодушевлённые объекты», Марк поправил блеснувшие очки и сказал, что некогда приходился Министром Хозяйства. Он, входящий в Совет, следил, чтобы город не умер от голода.
– Ты з-з-знал, что в сое полно питательных веществ? – спросил он, причмокивая от очередной проглоченной мухи. – Куда больше, чем в насекомых, – добавил Муравей не без грусти.
Обычно говорил именно он, а Коршун, ещё не забывший чужую человеческую речь, слушал. Они не спали, свет никогда не гас, и ничто не могло заглушить шипящее бормотание Муравья, жадно утолявшего голод по пускай одностороннему, но общению, – ничто и даже собственные мысли, настойчиво создававшие в висках несуществующее в реальности урчание желудка. Коршун всё чаще облизывался, глядя на мелких мух под чёрными ногтями Марка. Сколько он ещё выдержит?
– Меня пос-с-стоянно терзал голод, – признался Аврелий. – Но не об-б-быденный – на своём месте я мог раздобыть даже фрукты! Например, груши! Обожаю г-г-груши! – Он закрыл глаза, обхватив ладонью живот. – Обожал, – поджал Марк губы и продолжил: – Но, если честно, куда сильнее я жаждал знаний. Ещё в детстве я задавался вопросом, откуда берутся вампиры? Если мы, ну тогда ещё мы – последние люди, – каждую ночь успешно отбиваемся, сжигая точно убитых мертвецов, т-т-то почему тех не становится меньше?
Коршун уже знал ответ, оглядывая шелестящие оборванные, заросшие тени. Людей, гниющих и внутри, и снаружи. Неужели – Коршун содрогнулся – его ждёт то же самое? Он без понятия, сколько прошло времени, однако ни Геродот, ни Гортензия – ни кто-либо ещё – больше не появлялся. Коршун, пускай ещё и на ногах, действительно ощущал себя «умершим» – как и сказал когда-то Клеверу, – и действительно был уместно похороненным под землёй. Не сожжённым – к сожалению, – хотя в кармане всегда оставалась зажигалка и тряпья, слившиеся с бывшими людьми, выглядели довольно подходящими для растопки...
– ... Узнав правду, – Муравей не замолкал, – я решил, что куда питательнее с-с-сои всегда была и будет человеческая же к-к-кровь, и потому попросил Геродота с-с-с Платоном обратить меня...
– Вы что? – Коршун дёрнулся – от резкого движения усилилось урчание.
Марк-Муравей, засмотревшийся на лампу, заморгал и уставился на Коршуна, будто только сейчас вспомнив, что его вообще-то вполне осознанно слушают.
– Вы попросили себя сделать вампиром? – уточнил Коршун, крепко сжимая в кармане зажигалку. Муравей, казалось, не понял столь пылкой реакции – первой за часы одностороннего разговора, пожалуй, вполне привычного для нередко бурчавшего под нос и проглатывавшего целые слова с насекомыми Марка.
– А ты разве нет? – вздёрнул бывший Министр брови, и Коршун мотнул головой.
Марк Аврелий хлопнул в ладоши – у Коршуна от неожиданности заложило уши, не переставшие, впрочем, слышать урчание – и прислонил обе ладони ко рту. Когда он опустил руки, с уголков его губ текли чёрные трещинки. К своему неувядающему удивлению Коршун отнюдь не скривился – наоборот, непроизвольно высунул язык. Пить хотелось неимоверно. Хоть ту же черноту.
– Но... – Коршун заставил себя поднять глаза. – Почему? Зачем вам это?
Муравей, облизнув пальцы, ответил просто и в то же время запутанно:
– Я же не з-з-знал, что Геродот меня обманет и не захочет делиться в-в-властью.
Коршун вдруг понял, что ему напоминали потрескавшиеся губы и подбородок Муравья – морщины, неумолимые, как время, голод и жажда. Мелкие, как суматошные желания быть вечно молодым и красивым. Сытым. Коршун в бессчётный раз облизнул губы.
«Вы не понимаете, чего хотите», – вспомнил он свои же слова. Правда, теперь не совсем ясно, по отношению к кому. Вряд ли Муравей понимал, к чему стремился. Точно не к тому – Коршун с усилием, встряхнувшим всё тело, глянул на свет, – чтобы ловить мух в безвестном подвале.
– Их всегда было трое, – заговорил Муравей, оттопырив три грязных ногтя. – Геродот, Платон, Артемида. Они основали город, обустроили себе з-з-загон, спасая и людей, и, главное, с-с-себя, ведь без первых нет вторых. Без людей нет крови и нет т-т-троих главных вампиров. Нет Архитекторов, проектирующих...
– Двоих. – Коршун взглядом вынудил Марка загнуть один палец. – Платона больше нет. – Глаза Марка стали шире линз. – А одну из них сейчас зовут...
Стоило – наконец – подумать об Ифигении, как во всём подвале – кажется, аж до самого провала, – звякнула решётка. Коршун вскинул голову – и да, его ослепило, однако не лампой, а белыми, как снег, волосами. Ифигения – не изменившаяся (хотя почему он думал, что она должна была измениться?), в не снимаемой форме Миротворца, с гремевшими карманами, – доползла по потолку к клетке и спрыгнула, зашипев на Муравья и всех остальных вампиров, копошившихся вокруг точно черви, не находящие себе места. Ифигения разворошила гнилое гнездо. И Коршун не догадывался, почему, вернее, как. Они – «мы» – не реагировали так на Геродота или даже стоявшую поодаль Гортензию.
Только когда Ифигения опустошила карманы, до него дошло: в них гремели, ударяясь друг о друга, маленькие колбы. Она принесла ему – только ему – кровь. Звериную, если сравнивать с той, что Коршун уже пил. Ифигении пришлось сломать двоим вампирам руки, пока Коршун не опустошил целые две колбы и не взял закрытую третью. Недолго думая, он подал её притихшему в углу Муравью.
– Это лучше, чем у насекомых, – обратился к нему Коршун, вслух не упомянув «людей». Он не знал их вкус – он о нём грезил – и потому закусил губу, сосредоточившись на той крови, что уже была в нём. – Намного питательнее.
Сердце постучало с чужим кадыком и замерло. Коршун с упоением следил, как Муравей пьёт. Его чёрное смешалось с красным. Ифигения забрала пустые колбы.
– Это не для всех, – процедила она, и Коршун повёл плечами. Он больше не мог смотреть, как кто-то употребляет мух. Уж лучше кровь животных – да? Как быстро он привык. Ифигения не обманула.
Не врала она и дальше, когда говорила, что пришла за Коршуном. Ифигения не открыла клетку – другие её не волновали – и помогла бывшему Миротворцу, тому, кого она обратила, пересечь решётку поверху. Про Муравья, вальяжно чувствовавшего в подвале и до её появления, он решил не напоминать. Только обернулся – всего раз – и неожиданно заметил, как Марк вильнул головой. «Нет» – сияли его глаза, прикрытые очками. Муравей с ними не пошёл. И, что странно, он ни разу не пытался уйти сам.
– Не туда, – окликнула Коршуна Ифигения, когда тот повернулся к двери на лестницу. – Тебе нельзя в город. Мы уйдём иначе.
«Мы». Она имела в виду только двоих – себя и Коршуна. Не троих, пусть вместе с Муравьём, не всех иных вампиров, не людей, а лишь их обоих. Двух Миротворцев, двух вампиров. Двух живых мертвецов, не способных жить без крови. Не способных жить.
Коршун встал, как вкопанный, стискивая сквозь ткань зажигалку.
«Яблоко от яблони», – вспыхнул в висках бас Геродота. Коршун оглянулся на дверь. Там – никого, ни бороды, ни револьвера. Что если он не попытается сбежать, а?.. Ифигения прочла его как открытую книгу:
– Нет, – замотала она головой. – Не надо. Ты ничего не изменишь... Снежинка. Геродот слишком сильный, потому что никого не жалеет. Он не Платон, который всегда знал чувство меры. Он никогда...
– Артемида. – Коршун вскинул подбородок. Белые волосы всколыхнулись, но остались на месте. – Я – не мой отец.
Вот. Он это признал. Коршун – не Снег и никогда им не был. Он носил его форму, повторял за ним крылатую фразу перед уходом и всё равно был другим. Коршун с самого начала не верил в идеалы Миротворцев, сводившиеся к тому, чтобы стать живым щитом и принять на себя основной удар. Он просто недоедал и не хотел сидеть без дела. Коршун всегда боялся вампиров – он убивал их, потому что имелись стрелы и не оставалось выбора. Он обратился в одного из них, хотя мог спокойно умереть. Его не заразили – не случайно – и ему не хотелось срывать со стены Собора цветы.
Коршун просто – сложно, если перейти к выполнению задуманного – жаждал отомстить. Геродоту, Платону, всем вампирам на земле – за то, что они существуют и обрекли его на точно такое же выживание с пустотой в груди. За то, что им, а теперь и ему, требовалась кровь.
Коршун желал убивать и, лишённый этого, со временем умереть. Коршун хотел жить. Не убегать. Бороться, пока позволяло насыщение. Он зло посмотрел на Ифигению. Та ответила взглядом – хмурым, но не злым. В нём скорее таял снег.
– Аполлон, – позвала она глухо.
– Артемида, – прошипел он под нос.
Ифигения покачала головой. Волосы скрыли глаза и открыли. Две луны засияли ярче ламп.
– Пожалуйста, зови меня Диа...
Пуля прошила Коршуна насквозь. Вторая громогласно утонула в дальнем тёмном провале. Ифигения увернулась, прыгнув под потолок. Треснула лампа, на пол прыснули тени. Коршун, свалившийся на колени, развернулся. Между решёток вился дымок. Большой палец повторно вздёрнул курок.
– Хватит, – мерзкий бас жестом отодвинул Гортензию. Геродот первым, толкнув дверь, вышел в коридор между клетками. – Непослушных птичек я ловлю сам.
Коршун попытался подняться. С рукава капала кровь, и с каждым движением ручей ослабевал. Пуля не ошпарила – просто застала врасплох. Рана затянулась, оставив после себя лишь дырочку в форме. Никакого серебра в патроне не было. Гортензия не могла его убить. Только неприятно задержать.
Зато – Геродот вышагивал прямо, глядя на всё сверху вниз – это под силу другому вампиру. Коршун для уверенности нащупал в кармане зажигалку. Ну вот, бежать уже некуда. Цель прямо перед ним.
Или – Коршун моргнул – за Ифигенией. Она встала между ними, вытянув назад руку, между Коршуном и Геродотом.
– Стой! – крикнула она, и последний действительно замер. Ифигения неуверенно потопталась, бросая косые взгляды на Коршуна.
– Да? – издевательски протянул Геродот, склонив голову набок. – Тебе есть, что сказать, Ди...
– Не называй меня так! – Белые волосы обернулись вихрем.
Геродот рассмеялся, и от одного этого лающего звука Коршун стиснул кулаки. Вдвоём – с Ифигенией – они могли вступить с ним в схватку. Как настоящие Миротворцы, призванные сражаться с вампирами. Как против Кота. Как они уже делали.
Вот только – дымок всё вился и вился – Геродот тоже не был один.
– А то что, Ифигения? – Он сцепил на поясе руки. – Убьёшь меня? Мы оба знаем, что ты не сможешь.
Коршун медленно шагнул. «Она – нет, – думал он. – Но мы – да». Коршун краем глаза поискал Муравья. Трое против двух?
– Никто из вас не сможет. – Геродот повысил голос, будто предвидя. Он посмотрел ровно туда, где в клетке за чужими спинами сидел Муравей. – Нельзя убить то, что уже мертво.
Геродот усмехнулся. Коршун шагнул ещё – в сторону, давая себя рассмотреть.
– Да? – бросил он, встречаясь с тёмно-синими колодцами взглядом. – Платон считал так же?
Колодца вспыхнули и потонули. Улыбка ушла, к зрачкам прилила кровь. Геродот расцепил руки.
– А вот это, – он медленно поднял напрягшееся лицо к лампам, – ты зря.
Свет опять качнулся. Коршун успел моргнуть. Ифигения – вскрикнуть. Геродот, быстрее тени, ветерка, света, метнулся к ней и сгрёб за загривок, развернув её к Коршуну лицом.
Белые волосы, как облака, скрыли сияющие луны.
– Полло! – донеслось до Коршуна перед тем, как Геродот обхватил чужую шею.
– Я тебя обратил...
Белые волосы свернулись в комок. Лампу закрыла маленькая круглая тень. На мгновение пол осветили луны и, больше не моргнув, упали одновременно с телом. Одновременно, но не вместе. Голова Ифигении, потускнев и уменьшившись, рухнула ближе к Коршуну.
На миг исчезло всё. Потухли все лампы, стёрлись все вампиры, растворились клетки. Осталась лишь она – Ифигения, чьи пустые, ввалившиеся глаза мерцали как звёзды в безоблачном выцветшем небе.
Коршун так давно не видел луны...
И больше не увидит. Ярость выплеснулась с кровью. Она потекла по полу – из тела в форме Миротворца, – и Коршун прыгнул, перелетев и труп, и лужу. Тёмно-синий внимательный взор скрыли окровавленные руки.
Он так и не услышал грома. Сразу возникла молния. Она вошла в Коршуна откуда-то сверху, выше глаз, ниже макушки. И войдя, опрокинула его на пол. Прямо в кровь, которую он почти перелетел.
– Не убивай! – услышал он сиплый бас. Геродот сплюнул одновременно со скрипнувшей решёткой.
– Пули не серебряные, – непринуждённо оповестила Мадам-мэр, громыхнув дверью, ведущей на лестницу.
Коршун, видя только перед собой, узнал вьющийся дымок. Скрывшее его дуло револьвера наклонилось ещё и прижалось ко лбу. Туда, где застряла пуля.
– Выбрось его, пока он слаб, – раздался приказ-бас.
Револьвер громыхнул опять (теперь слышно), заглушив скребущие по металлу когти вампиров, почуявших живую кровь. Коршун шарахнулся. Пуля сквозь него и ещё одну пулю долетела до пола. Только тогда Гортензия убрала оружие.
– Скоро закат, – обернулась она. Внутри клеток надрывались, не в силах до неё дотянуться, ожившие тряпья.
Геродот не ответил – может быть, небрежно махнул рукой. Коршун расслышал лишь шаги. Гортензия схватила его за руку. За ту самую, что когда-то перевязывала.
– Тебе повезло, – сказала она вдруг, с кровавым, вытянувшимся линией следом потащив его по полу. Даже не глядя, Коршун догадался, что она направилась к тёмному провалу в другом конце подвала. – Обычно мы выпускаем вас на рассвете.
«Мы, вас», – всё звучало инородно. Коршун попытался прикрыть глаза. Гортензия щёлкнула тумблером и провал осветило красным. Она втащила его на платформу, грохот голодных вампиров отдалился.
– Прокатимся, – отпустила его Мадам-мэр и уселась за пределами видимости.
Очень скоро перед Коршуном задвигался потолок, превращаясь в сплошную смазанную линию, цветом сочетавшуюся с оставленным клеймом на полу. Подвал неожиданно вырос туннелем.
– Ненавижу катакомбы, – со вздохом поправила его мысли Гортензия. – Слишком длинные, слишком мрачные.
Её лицо – слишком длинное, слишком мрачное – склонилось над Коршуном.
– Но тебе должно быть в самый раз.
Гортензия откинулась назад. «Жаль, конечно, – донеслось сверху. – Я всё же не думала, что до этого дойдёт».
И больше она не проронила ни слова. Следующим, что услышал Коршун, стал его собственный крик снаружи. Ему померещилось, что он умрёт, однако это оказалось лишь убийственным обманом.