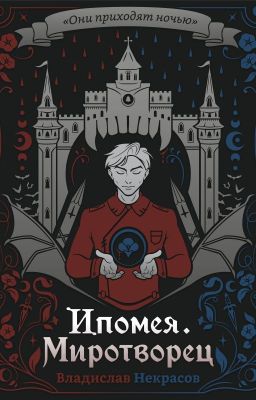Глава IV. Собор
«Ифигения!» – слетело с губ, едва он очнулся. Вернее, Коршун так подумал: имя, застряв в горле, закончилось на первой же букве, сорвавшейся в хрип. Тем не менее она откликнулась:
– Я здесь.
Он не ощутил тяжести. Ни во сне, ни в момент пробуждения. Ифигения в полумраке, не освещаемом большим разноцветным окном чуть ли не во всю стену, убрала голову с его груди и поднялась. Её белые волосы спутались, и она разгладила локоны, слабо улыбнувшись. По её красным глазам Коршун понял, что она не спала.
– Я ждала, пока ты проснёшься, – ответила девушка на незаданный вопрос. – Слышала, как бьётся твоё сердце.
Ифигения отошла. Коршун, скривившись и приложив ладонь к груди, приподнялся на кровати. Сверху, будто в ответ на движения, засветились огоньки. Ифигения включила свет – такой разноцветный, что Коршун от неожиданности зажмурился. Повязка на левой кисти сверкнула красным. Коршун испугался – опять кровотечение, – но быстро сообразил, что пятно старое. Ему ничего не грозило. Сейчас.
Сперва – проморгавшись – он связал разноцветные блики с отражением в витраже, однако воздев взгляд к потолку, Коршун охнул. Весь верх утопал в протянутых из угла в угол гирляндах, неуместных осенью, но таких ярких после сна.
– Я обожаю Новый год, – поделилась Ифигения, тоже задрав голову.
По окну – замысловатому рисунку на нём – Коршун догадался, что оказался в Соборе, в одной из башен. Он озирался, пока Ифигения что-то высыпала в кружку.
– Интересно, что тебе снилось, – обратилась она через плечо. – Ты так хмурился, что я было подумала, тебя мучает кошмар. Но сердце стучало спокойно, так что вряд ли снилось что-то ужасное?
Коршун согласился: если отсутствие снов в его случае считать за благо, а не проклятие. Он не помнил, видел что-то или нет. Более того – он не помнил, как очутился в Соборе. Коршун в принципе с трудом воссоздавал в пухнущей голове последние события. Повязка на руке довольно быстро освежила воспоминания о Коте – сразу о двух, маленьком и большом, – однако то, что случилось перед самой тьмой, ускользало, как пар над принесённой ему кружкой.
– Не знала, как ты любишь, – говорила Ифигения, устраиваясь в изножье. Коршун поджал ноги, накрытые пледом. Его почти не трогали, пока он был без сознания – форма, с одним закатанным рукавом, всё ещё на нём (в отличие от оружия) – с засохшей кровью в чистой постели. Он смущённо уткнулся в мутный напиток.
– Я добавила всё сразу, – продолжила Ифигения, наблюдая. – Молоко, сахар, даже сливки, – улыбнулась она. – Достала из старых запасов.
Коршун пригубил. И горячо, и сладко, и горько – действительно всё сразу.
– Ох, – не сдержался он. Напиток бодрил даже от одного глотка.
– Нравится? – усмехнулась Ифигения, явно довольная. – Когда-то я больше жизни любила кофе – до того, как перестала чувствовать его вкус...
Она осеклась, и Коршун, не зная, что делать, одновременно протянул кружку ей и недоумённо спросил:
– Что такое «кофе»?
Она не стала пить. Оставила всё ему. Зато своеобразно рассказала о новом слове:
– Это как чай, только лучше.
Коршун глотнул ещё. Как минимум, с сахаром это явно не хуже.
Он, медленно потягивая сладкий кофе, ещё раз осмотрелся. Ифигения, не отрывавшая от него взгляда, больше смотрела на кружку, чем на Коршуна, и его внимание к окружению с книжными полками, шкафами, толстыми ящиками, оканчивающимися черными квадратами (похожими на те школьные, через которые Коршун видел архивные фильмы) сопровождалось лишь хлюпаньем – без единого слова, описывающего предметы чужого дома. То, что башня принадлежала всецело Ифигении, он понял ещё до того, как увидел её же портрет, висевший прямо напротив окна, выше закрытого люка, и сначала принятый за фотографию – настолько живо передал девушку художник. Сравнив с оригиналом, Коршун нашёл лишь два отличия (не считая едва выпиравшей над нижней рамой другой одежды, синеватой на холсте) – на картине вечно белые волосы были длиннее, и на шее сквозь распущенную причёску проступали два сиреневых кругляша, соединявшиеся сзади ободком такого же окраса. От них, уходя за край рамы, тянулся узенький чёрный провод, чем-то похожий на лиану гирлянд. Нарисованная Ифигения улыбалась – почти как настоящая, перед ним, – и на щеках, в отличие от реальности, у неё проступал румянец. Практически такой же красный, как на его повязке.
Рана вернула Коршуна к насущному. Поставив недопитый кофе на колени, он спросил:
– А как... как я здесь оказался?
Улыбка Ифигении сжалась, над её серыми глазами пролегла тень, подсветив сонливость. Коршун замолчал, прикусив язык. Наконец, отвернувшись к окну, Ифигения заговорила, отрывисто, словно плюясь:
– У тебя шла кровь. Очень сильно. Я схватила тебя и унесла. Наверное, по привычке, не зная, куда ещё податься, я пришла к Собору. – «С ним на руках?» – не то подивился, не то ужаснулся Коршун. Хорошо, он не такой уж высокий и тяжёлый... – К счастью, мне встретилась Гортензия. Ей даже не пришлось ничего объяснять. Она сама занялась твоей раной – я смогла тебя отпустить. Когда Гортензия... Мадам-мэр закончила, она ушла, а я осталась. У тебя больше не шла кровь.
Коршун увидел, как она облизнула губы. В свете окна лицо Ифигении выглядело бледнее обычного. Ей тоже нужно отдохнуть. Коршун молча допил кофе.
– Ты появилась очень вовремя... – нахмурился он. – Как ты меня нашла?
Она вновь улыбнулась, потянувшись за пустой кружкой.
– Я знала, что ты пошёл на север...
Их пальцы переплелись. Коршун вздрогнул – но даже не от холода её руки. Ему вспомнился один момент. После него, кажется, на кисти Ифигении – ледяной и всё же гладкой, как мрамор, – тоже должна была быть повязка.
– Я ранил тебя, – прошептал он, не поднимая голову. Она забрала кружку, повертев в ладони. – Когда... когда хотел вонзить стрелу себе в сердце.
Глупо. От кровопотери он не понимал, что творит. Да, обращённый Кот его укусил, но при этом сам остался цел – Коршун его, не считая малополезного чеснока, никак не задел. Их кровь не перемешалась. Коршун впитал лишь свою. Повторять за Бараном не требовалось. И всё равно... Он убил бы себя, если бы Ифигения не подставила руку.
«Как она появилась так быстро? И откуда?» На стене дома за спиной не было ни одного окна. Ни одной решётки, за которую можно ухватиться. «Она как будто летала... Как летучая мышь с белыми крыльями».
– Никогда, слышишь? – зашипела она, ухватив его за подбородок. – Никогда так больше не делай. Не замахивайся на себя стрелой. Не губи своё громкое сердце, когда это легко могут сделать другие.
Ифигения встала. Глаза – горящие, как гирлянды под остроконечным потолком, – взирали сверху вниз. Он поёжился, чувствуя, несмотря на жар комнаты с закрытым окном и её пылавшего взгляда, сплошной холод.
– Что-то тебе нехорошо, – заметила она и подошла к витражу. Створка – одна из многих, поделённых на цвета зелёного и сине-красного оттенков, – раскрылась, впустив морозный воздух. Вечерело, осенний ветер к темноте набирал обороты. – Знаешь, тут открывается замечательный вид. Несмотря на соседнюю башню через крышу.
Ифигения – всё ещё с пустой чашкой – присела на подоконнике. Коршун, уже натурально плавясь, сбросил плед и поднялся. Голова кружилась, и он облокотился здоровой рукой на окно. Остужающая свежесть высоты не шло ни в какое сравнение с пейзажем. Из башни дома́ по бокам Собора своими чистыми белёсыми крышами напоминали свежевыпавший снег. Коршун перемахнул через подоконник. Протиснулся в окно, не оборачиваясь на Ифигению. Та молчала, не препятствуя, наверное, посчитав, что он решил осмотреть готовые распуститься цветы. Они росли по крутой части крыши Собора. Там, где соединялись две башни, проходила дорожка, усыпанная лепестками, в угасающем свете похожими на ещё одни гирлянды – разбившиеся, смятые и всё равно мерцавшие. Как угасающие мотыльки.
Коршун медленно двинулся вперёд. Отсюда весь город как на ладони – от его лабиринтной структуры, запутанной даже сверху, рябило в глазах. Здания, точно не проросшие продолговатые клумбы, очерчивали улицы, петлявшие и уходившие в тупики. Или обрывавшиеся там, где росли в ночи горящие столбы с сейчас опущенной цепью. За ними, отмерявшими границу города и тем создававшими неровный круг или овал, пустое пространство утопало в желтизне. Он впервые вживую – пусть издалека – разглядел черневшие рытвины на самой выжженной земле. Не мелкую копоть, копившуюся, как прибитая к водостоку грязь, у городской границы, а дальше, ближе к плоскому горизонту.
Их, согласно Истории Прошлого, оставили бомбы – слишком большие, чтобы не повредить саму землю. И недостаточно эффективные, чтобы избавить мир от вампиров. Ипомею строили уже после них – когда закончились все взрывы, но остались люди. С теми же вампирами.
Коршун шёл к другому витражу. Только снаружи он разглядел разноцветный рисунок на окне – то был цветок ипомея, поделённый на окошки-лепестки. Он прорастал из башни и вечно тянулся к небу, цветя в любое время, невзирая на свою всё отражавшую полую «стеклянность». Коршун лишь раз обернулся на Ифигению. Он стоял ближе к закрытой башне, чем к ней.
«Как она меня нашла?» – спросил Коршун молча и тряхнул головой. Нет. «Как она меня спасла?» Кот прогрыз его кисть, а он, Коршун, проткнул её. Она, Ифигения, позапрошлой ночью проткнула рукой вампира. Голой, как и тогда, оттолкнув Кота. Безоружной, на самом деле без кола, и сильной, как... Как Кот, одними пальцами сломавший древко копья и оторвавший Коршуна от земли.
Он не осознал, что произошло первее: Коршун с перекошенным от ужаса лицом сорвался с места или разбилась кружка. Он не знал, насколько именно она быстра, и, тем не менее, первым добрался до соседнего окна. Коршун его не разбил – створка поддалась, стоило надавить. Он свалился на пыльный пол, закашлявшись и задохнувшись. В отличие от соседней башни, здесь светило лишь окно. И алые глаза за ним.
– Коршун, – Ифигения осталась снаружи. – Ты чего?
Он перевернулся, схватившись за живот. От резкой пробежки в глазах вспыхнули искры, сковало горло, сдавило грудь.
– Тебе плохо, – говорила Ифигения над ухом. Через открытое окно. – Тебе нельзя так двигаться. Ты ещё не поправился. Твоё сердце...
Он вскинул взгляд, слезившийся не от страха, но злости. Рука с повязкой болела.
– Ты его слышишь. Моё сердце, – сказал он, утверждая, не вопрошая. Невозможно... Тут. И вот, пожалуйста.
Ифигения могла быть быстрой. Могла быть сильной. Даже могла быть Миротворцем... Но ей не под силу всего лишь переступить порог.
Коршун встал, пошатнувшись. Он прислонился ладонью к окну, ровно там, где цветного стекла касалась она.
– Так помоги мне, – прошептал Коршун, морщась и не отпуская грудь. Витраж скрыл её проступивший красный цвет, оставил лишь серый. Цвет луны. Её красивых, даже в ночи, глаз. – Встань... рядом. Дотронься, поддержи. Пожалуйста.
Его голос сорвался. Он стукнул ладонью по стеклу, и в воздух поднялось ещё немного пыли. Коршун закрылся локтем.
– Я не могу, – ответила Ифигения одними губами, красными, как кровь. – Как бы ни хотела. – Её ладонь, белая, как снег, потянулась к пустоте открытого окна и замерла, уткнувшись в барьер, разделявший мёртвых и живых. Гостей и жильцов.
Чистых и нечистых. Коршуна и Ифигению. Человека и вампира. Миротворца и его врага.
Даже разбитая кружа не заглушила бы треск его буйного сердца. Оно вырывалось из груди, не давая отдышаться. Почему именно она?
– Где мой лук? – процедил Коршун уже вслух, сжимая кулаки. – И воротник?
Шею ничего не сдавливало и всё равно дышалось с трудом.
– У меня, – прошептала Ифигения. – Я отдам, только пойдём со мной.
Он мотнул головой. Лучше в темноте, чем с...
– Тебе нужно уходить оттуда, – ещё понизила голос Ифигения, опасливо вскинув взгляд в недоступный для неё мрак башни. – Ты не знаешь, куда, к кому ты зашёл, Коршун.
У него округлились глаза. Стрела осознания, пущенная без натяжения, попала точно в цель. Никто её не перехватил.
«Ну разве не прекрасно?»
Образ человека – нет, вампира, такого же, как она, не могло быть иначе, – вырос перед ним ослепляющей тенью. Геродот, отец Ифигении, его тёмно-синие глаза, его белоснежные зубы, тонкие пальцы потянулись к нему из ночи. Коршун развернулся. Сумрак, медленно осевший пылью, развеялся и приоткрыл пустоту. В башне никого.
Коршун отошёл от окна.
– Я знаю, что здесь есть выход, – отважился он и, помня планировку прошлой башни, повторявшей эту, двинулся вперёд. Ровно к люку, освещённому окном.
Вместо выхода он наткнулся на портрет. Не Геродота – но тоже, как запечатлённая в рамке Ифигения с длинными волосами, отличавшийся обманчивой живостью. Со стены, рядом со светлым прямоугольником, окружённым налётом, но ещё не поддавшимся, пыли, Коршуну улыбался, чуть прищурившись, светловолосый парень. Почти подросток, едва, судя по виду, старше Коршуна. Его льняные волосы словно развевались от невидимого, навеки застывшего ветра, и румяные, показавшие ямочки щёки блестели как от росы. Всё в его внешности напоминало весну – цветущую, ветреную и тёплую, как солнце. Даже полу-прикрытые глаза выдавали мягкий зелёный цвет. Коршун засмотрелся, попав в ловушку любопытства.
– Птичка вырвалась из клетки. – Звучный бас, казалось, доносился из-под потолка. – Отыскать кусочек ветки. – Резко развернувшись, Коршун распознал примостившуюся в углу высокую двухъярусную кровать. С верхней койки плавно спустилась тень. – Но вернуться не смогла. Потонула лодка навсегда.
Геродот – такой же, как и в день присяги, высокий, темноволосый, с заострённой эспаньолкой и светившимися во тьме чёрно-синими, глубоко зловещими глазами – вышел под оконный свет. Коршун бесшумно сглотнул. Белые волосы на крыше вовремя скрылись. Он остался один. Как и до этого, с ней, но... Геродот был другим. Старше. Ещё сильнее. Страшнее.
– Всемирный Потоп, – загадочно произнёс он, заведя за спину руки. – Это очень давнее массовое бедствие. Как у нас сейчас, – усмехнулся Геродот, покосившись на витраж. – Только лучше. Потому что закончилось. С возвращением птицы, принёсшей веточку и доказавшей самозванцу-капитану существование суши.
Коршун старался не дрожать. Он до боли сжал кулаки и прикусил губу, чтобы не выругаться. Предательски острые ногти покрылись кровавым лаком, и Геродот шмыгнул носом.
– Его зовут Платон, – внезапно сменил он тему, кивнув на потрет за Коршуном. – Вернее, звали, – от былой усмешки не осталось ни следа. Синие глаза сверкнули, на миг укрыв бледную сушу вокруг мрачными колодцами внутри. – Эта картина – моя лучшая работа – единственное, что от него осталось.
Коршун, пользуясь случаем, через плечо – так, чтобы не выпустить из виду грозного, сдерживаемого, судя по всему, лишь неведением вампира – покосился на стену. Чистый прямоугольник по соседству с Платоном обнажил новый слой пыли: раньше она оседала на ещё один портрет – автобиографический, если допустимо так выразиться. Геродот шагнул – едва пошевелился, – и Коршун, моргнув, врезался в стену. Тише шелеста, быстрее моргания приблизившийся Геродот, не обращая на него внимание, потянулся к портрету.
– Ни вещей, ни одежды... Ни формы. – Пятившийся Коршун успел добраться до подоконника, когда Геродот презрительно оскалился, повернув голову к нему и приоткрыв зубы. – В отличие от некоторых.
Коршун практически по инерции ударился о стекло. Створка раскрылась, и он вывалился наружу. Его тут же подхватили крепкие – ледяные – руки.
– Идём! – шикнула Ифигения и дёрнула его за локоть.
Коршун вырвался, но не ослушался. Он замедлился лишь раз, когда сзади, на подоконник сел Геродот.
– Коршун, – позвал тот, и безоружный Миротворец не смог не обернуться. Не смог не проверить. – Знаешь, что бывает с подбитыми птицами? – спросил Геродот, утерев нос, и небрежно указал на перевязанную кисть. – Они разбиваются.
Коршун влетел в башню Ифигении, раскидав перед окном осколки кружки. Он оглянулся, проверить вампиршу, и с удовлетворением отметил, что внутрь она не зашла. Уселась – на манер отца – возле окна и, демонстративно вздохнув, со скучающим видом принялась собирать чашку из-под некогда её любимого напитка.
Помедлив, Коршун вернулся к окну.
– Ты... Где лук и воротник?
Ифигения не ответила. Даже голову не подняла.
– Ты теперь меня убьёшь? – спросил Коршун так тихо, что понадеялся остаться неуслышанным. Для человека – не вампира.
– Я – нет. – Белая макушка чуть вскинулась по направлению к соседней башне. Окно там до сих пор оставалось открытым. Хотя и без незаметно исчезнувшего хозяина. Или и жильца почти во всех смыслах этого слова.
Коршун попытался сам отыскать свои вещи. Он ничего не трогал, только смотрел и неожиданно заметил нечто сиреневое – тот странный ободок, видневшийся на шее нарисованной Ифигении. Убранный на верхнюю полку, но не пыльный, сохранивший «портретный» вид.
– Раньше через них слушали музыку, – рассказала гулко заметившая его интерес Ифигения, отделённая от своего странного сиреневого устройства стеклом. – Когда музыка ещё была.
Коршун не стал уточнять, что такое «музыка». Наверняка это как тот же кофе с молоком и сахаром – горько, сладко, горячо одновременно. Или как фильм – иллюзорная запись былого, только не для глаз, а для ушей. Коршун продолжил более значимые поиски.
– Я скажу, – снова заговорила приглушённая, но не уходившая, прилипшая точно снег к окну, Ифигения, – где лук, если потом – с оружием – ты меня впустишь и я дам тебе воротник.
Коршун недоверчиво на неё посмотрел. Не дождавшись его согласия, она указала на кровать. Лук – с целым колчаном сияющих из-за гирлянд многоликим серебром, – оказался под ней. Коршун сразу приладил одну стрелу к тетиве. Он отошёл к люку, встав ровно между двумя Ифигениями – живой, потому что с румянцем, и мёртвой, бледной, не пересекающей высокий порог.
Глубоко вдохнув, Коршун нацелил лук.
– Заходи, – выдохнул он, и Ифигения, подвинув створку, аккуратно перешагнула подоконник. К его удивлению, она, пускай и медленно, двинулась к нему, не отводя не моргавших, серых могильных глаз.
– Ты меня убьёшь? – почти повторила она его вопрос, остановившись в шаге от натянутой стрелы. Короткий лук – как раз подходящий для такого расстояния, – едва различимо задрожал. Щёку Коршуна неприятно холодил кончик древка. – Ты можешь это сделать, – зачем-то надавила Ифигения. – Можешь. Да. Но не хочешь, как и я.
Коршун шумно выдохнул. С дыханием ушли все силы, и лук, короткий, да тяжёлый, поник. Тетива ослабела. Стрела вернулась в колчан.
– Ну зачем... – пробормотал он, уткнувшись руками в колени. – Зачем?..
Ифигения достала из кармана своей формы сложенный воротник.
– Зачем ты меня спасла? – наконец выдавил он, за горечью скрывая удивление.
Их пальцы соприкоснулись на красной плотной ткани. Ифигения погладила его кожу, а он не убежал. Остался, затаив дыхание, с голой шеей, обнажёнными ладонями, с хрупким как кружка... Как снежинка, сердцем.
– У всего есть причины, – прошептала она, глядя на воротник, доставшийся Коршуну от отца Снега. – От них остаются следы, как... Как...
Она опустила руку. Её пальцы открыли две маленькие точки, изначально принятые за следы от иголок.
– Как от зубов, – прохрипел Коршун, не силах сдержать дрожь в голосе.
Ифигения мрачно улыбнулась. Два зуба показались из-под верхней губы – слишком длинные от переплетённого сияния гирлянд и меркнувшего за окном вечернего солнца, совершенно безвредного для неё...
– Клыков, – поправила она, и Коршун в ужасе отпрянул.
Он всё-таки побежал – спотыкаясь, больно съехав по лестнице в люке, – и на выходе из Собора, пронёсшись мимо выпуклого строения с трубами в центре дальней стены и сегодня пустых рядов гостевых скамеек, наткнулся на Гортензию. Мадам-мэр, нетипично с красным шарфом на шее, напоминавшим об обмундировании Миротворцев, перехватила его руку – с повязкой на кисти. Он еле сдержал крик – не от боли, от неожиданности. Женщина, чьё лицо напоминало оконный витраж – с неопределёнными морщинами вместо чёткого рисунка, – не выглядела настолько сильной. Впрочем – пойманный, как птица в клетке, Коршун быстро успокоился, – от бывшего Миротворца нечего ожидать другого. Если только... Нет, мысль о её связи с Ифигенией и тем более с Геродотом Коршун гнал от себя со строгостью примерного Цыплёнка.
– Тише, мальчик, – окончательно развеяла его опасения чуткая Гортензия. – Я, конечно, далеко не в первый раз останавливала кровотечение, но после любой кровопотери пострадавшему надлежит лежать, а не носиться сломя голову.
Коршун стыдливо опустил глаза.
– Я как раз собирался... Лечь, у себя дома.
Это приходилось правдой лишь наполовину: Коршун всерьёз намеревался вернуться в свою квартиру, однако после сегодняшних откровений ему точно было не до сна. По крайней мере, пока он с кем-нибудь всё случившееся не обсудит. Например – на ум сразу пришёл ближайший сосед, любивший поболтать, но никогда не говоривший лишнего, – с одиноким Ветром, который только обрадуется его визиту и ошеломляющей беседе. Если, конечно, он перестал дуться после вчерашнего. Хотя – и в ином случае – повязка на кисти всё равно должна его смягчить. Как ту же Гортензию, у которой от жалости разгладились несколько морщин.
– Я передам Остролисту, что ты у себя, – сказала она, отпуская Коршуна. – Цыплёнок, кстати, тоже о тебе беспокоился, но тут давай уже сам – как сможешь.
И она ушла, напоследок посуровев и мигом постарев. Коршун, едва перейдя на шаг, на улице опять бросился наутёк. Он постоянно, не выпуская лук и стрелу, посматривал на крыши: ему то и дело мерещилась тёмно-синяя тень.
Наконец Коршун юркнул в подъезд под защиту порога. Не отдышавшись, он, хмурый и вспотевший, моментально застучал в снова закрытую дверь Ветра.
Вместо синеволосой макушки спустя время, под шум в квартире, выдавший присутствие, в проёме появилась зелёная – такая же бритая и крашеная, как у самого Ветра.
– Добрый вечер, – поздоровался незнакомец. По имени, не по лицу – его Коршун узнал, хотя раньше, до того как неизвестный облачился в форму Миротворца и подстригся, волосы, достававшие до плеч, отливали каштаном. Он виделся с ним в Соборе, когда был маленьким, но ни разу не заговаривал. До сего дня. – Ты, наверное, Коршун?
Брови Коршуна поползли вверх. Всё ещё безымянный незнакомец улыбнулся. Он, скрывая странный розоватый синяк на шее, на ходу застёгивал воротник.
– Ветер о тебе рассказывал, – хмыкнул он на выходе из подъезда. – А про меня он, видно, не говорил... Я Клевер. Зелёный, – парень с ухмылкой пригладил волосы и глянул на улицу. – Ладно, мне пора, солнце садится, ещё увидимся.
Он вышел, а Коршун, толкнув прикрытую дверь квартиры, вошёл. Ветер сидел на кухне. На столе горели свечи, и ещё оставалась еда – вскрытые консервы. Сосед ни угостил, ни позволил сесть, и Коршун встал в проёме, переминаясь с ноги на ногу.
– Привет, – обратился он к Ветру.
Сосед кивнул, смотря в стену, такую же, как почти вся обстановка, хмурую. Стол между ними стоял преградой всё равно как дверь. Запертая, незапертая – уже неважно.
– Мне нужно тебе кое-что сказать... – начал Коршун и замолчал.
Что ему нужно сказать? А главное, кому? Ну, другу. Близкому? Тогда надо идти к Золе. Да и друг ли Ветер? Обычно Коршун считал его соседом, ведь так проще – меньше приходится о ком-то думать, слабее переживать. Соседи меняются, а друзья, исчезнув, всё равно остаются. Как родители. Или сестра. Как плотно осевшие, подобно въедливой пыли, воспоминания. Коршун не мог... Не хотел, чтобы они оставались. Особенно как воспоминание. Как воротник. Если только память не лжёт...
Он задумчиво погладил две точки. Если они действительно от зубов – если прокусить воротник возможно, как у Цветка, – то что тогда с телом? С Миротворцем, носившим этот воротник? Он исчез, как сосед или остался?.. Как не друг. Как враг. Для Миротворца – любого, будь это Коршун или сидевший перед ним Ветер. Как вампир. Как Ифигения и... Нет, только она. Не такая, как он.
«Не такой, как твой отец».
Не такие, как Геродот. Как безликие тени и голодные монстры.
– Она помогла тебе? – Ветер его как будто не услышал. Он повернул голову, но остался сидеть. Только бросил взгляд на перевязанную кисть.
Коршун одними губами выдавил «Да».
– А я нет. Не успел, – почти так же тихо проговорил Ветер. – Не я, а она.
Коршун сильнее нахмурился. Причём тут это? И почему Ветер не похож на самого себя? Тихий, поникший, без своего ножа, и это когда у него были гости! Хотя – Коршун оглянулся – раньше здесь почти никто не бывал. Разве что сам Коршун и Зола. Обычно Ветер никого больше и не приглашал, а тут этот Клевер – так не вовремя! А что если Ветер потом расскажет обо всём новому другу? Или – хуже – донесёт Остролисту.
Коршун вдруг осознал, что не готов делиться секретом Ифигении. Да и вдобавок, что она – да и куда более опасный Геродот – могла сделать, пока они, люди, в доме?.. Коршун отпустил воротник. Здесь – внутри – никто ничего не узнает. Пока. До следующего рассвета.
Наскоро попрощавшись, Коршун развернулся.
– Скажи, – Ветер остановил его в проходе, – она тебе нравится?
От неожиданности Коршун забыл, как глотать.
– Кто? – судорожно протолкнул он ком в горле.
Ветер облокотился на стол. От его дыхания подёрнулось пламя свечей – сразу обеих, с двух концов стола.
– Ифигения, – усмехнулся он. – Твоя защитница. Она тебе нравится или ты носишься с ней, потому что она тебе помогает?
Коршун не нашёл, что сказать, потому что сам не знал. Вопрос мог и отличаться: почему он умолчал, что она вампир? Потому что – возможный ответ не менялся – Ифигения действительно ему помогла... Даже спасла. Вот именно. Она повела совсем не так, как другие. Она совсем на них – опять невозможно – не походила. Не один раз. И всё, это факт, а остальное, иное... Рука под повязкой чесалась.
– Я тоже... тебе помогал. – Огонь едва шевелился от слов Ветра. Солнце почти зашло, и в очертаниях его лица залегли тени. Только губы светились от свечей. – Да, тогда на крыше я ушёл к Шторму, но ведь... Ты попадал из лука, а рядом уже была она. – Ветер откинулся на стуле. Рот ушёл во мрак. Пламя окаменело. Не дышал и Коршун, завороженный загадочной атмосферой.
На миг ему почудилось, что Ветер всё знает и так. Он знает, кто вампир. Он точно знает, на что те способны. Знает и недоволен, что Коршун скрывает.
Однако в таком случае Ветер снова бы крутил нож – и не железный, а с серебром.
– Ифигения просто лучше помогает, – пробормотал он, опустив взгляд. Голубые глаза заблестели, поймав отсветы свечей. – Лучше... Что ж. – Ветер неожиданно подался вперёд, подставив локти и уперев на сложенные ладони подбородок. – Мне теперь тоже есть, кому помогать. – И он, над недоеденным ужином для двоих, посмотрел на входную дверь.
Коршун ушёл, теребя повязку. Ему хотелось ответить – вернуться, уточнить, всё прояснить. Не насчёт Ифигении, а о Ветре. Ему казалось, он что-то серьёзно упустил. Ветер ему действительно помогал и всегда – до сегодняшнего – звал к себе, а не выгонял.
Домой Коршун вернулся с выросшим пятном на повязке. Он испугался – не хотел тревожить Золу после всех обещаний – и ринулся в ванну. К счастью, рана не открылась – следы от зубов (Коршун морщился, рассматривая) зарубцевались и походили на вздутые родинки. Кровь скопилась от царапин, прозрачными ручейками протянувшихся к запястьям. Перед тем как лечь – быстро забежать в свою комнату, проигнорировав оклик Золы, звавшей поужинать, и чьё-то (наверное, сильно сонного Воробья) мурлыканье, – Коршун подстриг ногти.
Уже в темноте, под одеялом, они не мешали поглаживать две точки на воротнике. В отличие от тех, что на руке, они странно согревали. Они возвращали память, а с нею – давно забытое обещание.
«Никого не приглашайте, пока меня не будет».
Никого... Даже если его самого. Снега. Отца.
Коршун вскочил, так и не заснув, когда в окно, загораживая ночь красными глазами, забились вампиры, а под самой дверью, освещённой свечками, заскребли когти.