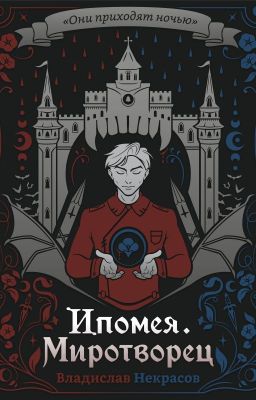Глава II. Ночь
Им всё же представили загадочного незнакомца. Им оказался некто, по словам Мадам-мэр, состоящий в городском Совете и зовущийся «Геродотом» – такое необычное прозвище Коршун встречал в древних книгах. Про времена, когда солнце всегда светило беспрепятственно. Когда закат означал лишь сон. Про очень, очень давно.
– Клянусь! – Горланящий Цыплёнок, стоя перед Цветком с ладонью на шее, завершил присягу. – От заката до рассвета!
Сразу за ним к капитану вышел Ветер. Коршун, избегавший смотреть на трибуны, откуда к перестроившимся новобранцам спустился Цветок, замыкал шествие, всё больше походившее на ритуальное заклание. Ветер, приложив ладонь к голой шее (быстро с капитанским окриком обёрнутой не по уставу снятым воротником), пробормотал последние слова клятвы:
– От заката до рассвета.
Сосед перешёл к трибунам. Там, прогоняя остатки сна, натянуто радушно в свои ряды принимали новичков опытные Миротворцы, которым сегодня будет легче, чем вчера. Больше людей на заставах – проще оборона. Ну, или как украдкой увещевал Ветер, веселее в спокойные ночи (как до этого и, наверное, сейчас). Больше людей – больше новых тем для разговоров. И больше вампиров, бегущих на их кровь.
Коршун нехотя приблизился к Цветку. Он ждал этот день несколько лет – жаждал последние три месяца. Он выучил слова клятвы и мог спокойно проговорить её, разбуди его кто-нибудь ночью. И тем не менее, начав чеканить заветную присягу, Коршун предательски запинался.
– Я, К-Коршун Сизый, приношу к-клятву Ипомее – последнему Городу людей. Единственному оплоту человечества. Я обещаю быть его щитом, ограждающим место цветущей жизни от м-м-мёртвой Пустоши за его пределами. Я обязуюсь стать и остаться бьющимся за всем и со всеми с-сердцем. Я – о-острие в ночи. Я огонь, сжигающий нечестивых. Я серебро, очищающее п-п-проклятых. Я – М-Миротворец. Моё обещание – хранить наш мир, наш город, Ипомею. Я обещаю не смыкать глаз и сторожить всю ночь, покуда тьму не развеет д-день. Моя кровь – мой город! – На последней части пришлось глубоко вдохнуть. Заикаться Коршун не перестал – наоборот, стало хуже. Напоследок он пустил петуха. – К-клянусь! От з-заката до рассвета!
Его взвизгнувший тараторящий голос не ушёл от внимания Кота и Крысы. Те, у подножия трибун стремительно придя в себя, прыснули со смеху, и Коршун, покрепче сжав удушливый воротник, понурился, быстро удаляясь к остальным уже не-новобранцам. Рядовым. Цветок – угрюмее обычного, с обвисшими бакенбардами и такими же клочками редеющих волос по бокам от макушки – отправился следом. Там он, мельком глянув на возвышавшегося Шторма, раздал первые и самые лёгкие указания: вернуться домой, поспать и прибыть в место сбора – сюда же, у Собора – для дальнейших приказов. Никто не разошёлся сразу – многие бросились к новым товарищам, искать советов и, возможно, утешения. Поспрашивать о прошлых ночах. О том, что, быть может, ждёт теперь их всех.
Коршун остался стоять не двигаясь. Ветер хрустнул пальцами, опять снимая воротник.
– Ну хорошо хоть спать в нём не надо... Что? Всё, Цыплёнок, официальная часть закончилась. Дай хоть сейчас передохнуть... – Локтя Коршуна коснулся воротник, накрученный на кулак. – Кстати о последнем. Давай ко мне, Коршун? Приглашаю, как говорится, – хмыкнул Ветер. – Посидим, поспим, а главное, не потревожим твою сестру, а? Что скажешь? Зола, конечно, всё равно всё про всё узнает, но так хотя бы ты успеешь подготовиться и не так стрёмно...
Идея на редкость неплохая. Коршун и думать забыл о Золе и Воробье. Как им сказать, что сегодня его посылают на ночную службу? Не в патруль – на самую настоящую защиту города. Как попрощаться? Как заявить о том – не напрямую, но они поймут, как минимум, Зола, – что он, возможно, не вернётся? И это – ещё в лучшем случае.
О последнем – о том, что часто бывает с Миротворцами, числящимися «пропавшими без вести», – Коршун старался не размышлять. Достаточно и того, что он вспомнил недавно подслушанное: сколько там, говорили, пропало Миротворцев после последней серьёзной атаки? Четыре ночи назад... А до этого? Как вообще Ветер справился с одним из них в прошлом?..
Рука сама потянулась к сужающемуся воротнику. Подушечки пальцев уткнулись в две маленькие дырочки.
– Ну разве не прекрасно? – Томный низкий голос нагнал мурашек. Тёмно-синие глаза заставили замереть, не отнимая ладони от шеи. – Разве не волнительно? – Геродот подошёл к рядовым с руками за спиной, с улыбкой, обнажавшей зубы. Слишком белые для города, страдавшего от перебоев воды.
– О, ещё как волнительно! – ответил он сам себе, оглядывая подтянувшихся молодых Миротворцев. – Как волнительно видеть столько юных лиц! Лиц, отвечающих за наше будущее! И этой ночью охраняющих ещё и наше сегодняшнее! – усмехнулся он совсем не радостно. По крайней мере, не для Коршуна, всё сильнее потевшего в тесном воротнике.
– Разве не здорово? – продолжил Геродот, прекратив улыбаться. Слева от себя Коршун заметил всколыхнувшуюся метель – белые волосы, достававшие до шеи. – Всё в руках юных людей. – От всё ещё незнакомки Коршуна отвлёк прищурившийся взор Геродота. Ему показалось, или в нём действительно мелькнул алый отсвет?.. – Дерзких юношей... – Синие глаза переместились вбок, голова чуть склонилась, глядя сверху вниз. – И девушек, возможно, ещё более наглых.
Геродот смотрел, не моргая, на беловолосую рядовую. Коршун тоже не удержался, обернувшись на незнакомку. Та с вызовом вздёрнула подбородок, сложив руки на груди.
– Ты меня не остановишь, папа.
От их неожиданного родства у Коршуна брови поползли вверх. Они ничем друг на друга не походили: Геродот черноволосый, высокий, худой, но не настолько, как белокурая девушка, одного роста с Коршуном (может, чуть ниже, с опущенным подбородком), и, тем не менее, то, как последняя держалась с первым, совсем не смущаясь, демонстративно непослушно, всё же выдавало определённую... Близость. Однако главным объединяющим их фактором выступило имя, с каким – таким же необычным, давно забытым, как и у него, – к рядовой обратился Геродот:
– О, Ифигения, я уже понял, что мешать тебе бесполезно. Раз моя драгоценная дочурка решила выпить у меня всю кровь, то её уже не остановить.
Зловещий небесно-пасмурный прищур снова мелькнул красным. Таким ярким, что Коршун моргнул. Пожухлый синий цвет вернулся, никуда и не уходя. От нервов (и недосыпа, вряд ли исправимого в ближайшем будущем, несмотря на приказы) у Коршуна разыгралось воображение. Да уж, глаза не могли гореть алым – тем более днём, и у людей...
– Мама! – возглас Цыплёнка привёл Коршуна в чувство. Он наконец опустил руку. С трибун, махнув Шторму, спустилась Гортензия.
– Не мама, а Мадам-мэр! – одёрнула она, и Цыплёнок, собиравшийся сказать что-то ещё, захлопнул рот. – И, новобранцы... Миротворцы, не досаждайте Геродоту! Он занятой человек, не надо его отвлекать! – набросилась Мадам-мэр, ни на ком не фокусируясь. Цветок, распоряжавшийся рядовыми и подчинявшийся одному Шторму, давно ушёл, отсыпаться сам, не заботясь о сне других. Разгонять задержавшихся защитников города пришлось самой Мадам-мэр.
– Гортензия, не сто́ит, я только рад пообщаться со свежей... Порослью. – Геродот усмехнулся, облизнув губы. Ветер с цоканьем погладил остриженные голубые волосы. – Но вы правы, Мадам-мэр, мне пора возвращаться в мою башню...
С этими словами он жестом приманил к себе Гортензию. Мадам-мэр, ни разу не взглянув на Цыплёнка, резво пошла впереди. На рядовых шагавший в сторону Собора Геродот ни разу не обернулся. И Коршун только обрадовался – со спины странный мужчина выглядел не так... Внушительно. Просто мрачный и даже осунувшийся затворник, не жуткий и без прищура. Совсем как старик, возвращавшийся домой с редкой прогулки. Хотя спереди много лет ему не дашь.
– Он целыми днями сидит наверху и не вылезает круглые сутки, – донеслись до ушей причитания расцепившей руки Ифигении. – И я ещё должна сидеть вместе с ним?! Ага, как же. Лучше уж напялить красное... – Она осеклась, поймав взгляд Коршуна. Тот едва его не отвёл. Задержал, так как серый цвет её глаз сиял точно серебро. – А, мы толком не знакомы. Я Ифигения... – Она глянула на свои руки и ноги в новой форме. – Красная, приятно познакомиться!
Коршун с трудом протянул в ответ правую руку. Вместо того, чтобы её пожать, Ифигения с силой вцепилась в его кисть.
– Ай! – пискнул Коршун (какое холодное касание!) на радость притаившимся Коте и Крысе.
– Ай-ай-ай, – передразнили они ещё на несколько октав выше. Ветер и Цыплёнок выросли по бокам от сероглазой девушки. Ифигения лицом чуть не вплотную упёрлась в ладонь Коршуна.
– Это что? – спросила она, подняв взгляд и указав на маленькие, уже едва заметные царапины от ногтей.
– Э-э... Я сильно сжал кулаки, – промямлил он, почему-то стыдливо опустив лоб.
Что вообще происходит? К чему такой интерес к его ладони? Что вообще в этом такого?
Ифигения – на удивление, мягко, не так, как до этого, с его писком, – сложила чужие пальцы и, придержав кулачок обеими руками (уже не такими прохладными), ткнула им в Коршуна.
– Царапаешь сам себя? – улыбнулась она, мигнув белыми, как снег, зубами. – Одними ногтями? Да ты очень хрупкий. Прямо как снежинка.
И вместе с новым, нечаянно возникшим прозвищем, цепко подхваченным Котом («Снежинка! Падальщик-Снежинка!»), Ифигения наградила Коршуном ещё одним прикосновением – к голове, волосам, цветом похожим на пыльный снег.
– Не трать кровь понапрасну, Снежинка.
Её ладонь – холодная, но нежная – погладила по макушке и отпустила, оставив Коршуна хлопать глазами. Ифигения ушла, а её руки – тёплые в памяти – всё ерошили ему волосы, слишком короткие, чтобы задержать её подольше.
Ветер вернул его к реальности: постучал по кисти рукоятью вновь возникшего ножа.
– Давайте лучше не будем тратить время, – буркнул он, едва Ифигения упорхнула, вклинившись (заставив Коршуна поморщиться) между Котом и Крысой. Их смех (слишком бурный даже для троих) ещё доносился до площади, когда сам Коршун двинулся в путь.
Цыплёнок, молчавший с момента присяги, увязался следом: пусть и в гостях у Ветра ниже этажом, ему всё же не удавалось настолько сблизиться с так ничего и не узнавшей Золой. К себе Коршун не поднялся. Он провёл остаток дня и начало вечера в квартире Ветра. Тот предложил обоим успокаивающий чай (для сна), однако чтобы вскипятить воду пришлось бы обращаться к старшей сестре или племяннику, чего Коршун старательно избегал, несмотря на весь энтузиазм Цыплёнка. Оставшись в итоге без угощения, все трое попытались заснуть. Вышло только у Ветра. Под его храп (плохо скрытый тонкими стенами) Коршун на кухне разговорился с Цыплёнком.
– Я его раньше не видел, – отозвался сын Мадам-мэр, рыская по шкафчикам с пыльной посудой и пустыми консервными банками. – Да и мама о нём не рассказывала. Я даже имени такого не знаю – «Геродот» – это вообще что? Хищник какой-то? Типа гепарда? Но откуда?
– Из книг, – вздохнул Коршун, уткнувшись в потолок. Его квартира сейчас прямо над ним. Интересно, если прислушаться, удастся ли распознать шаги или стук швейной машинки? – Была одна страна, – пояснил он, – её даже тогда, в прошлом, ещё до Ипомеи, называли «Древней» – и люди в ней назывались иначе. Не в честь животных. Или вещей. Первые, должно быть, в то время ещё жили вместе с нами.
Жили, пока не вымерли или, вернее, не были истреблены. В отличие от человека, ни одно животное не могло ни совладать с вампиром, ни укрыться от него. Если только какое-нибудь домашнее – благодаря хозяину, – и то недолго, ведь голодному вампиру всё равно, что, кого, пить. А вот спасающемуся человеку не всё равно только на свою жизнь – и уж о питомце можно легко позабыть, если его кровь послужит отвлечением. Коротким перекусом перед основным, уже удравшим блюдом.
– «Ифигения» тоже оттуда, – не преминул добавить Коршун, переводя тему на что-то более приятное. Ну, не такое мрачное. Скорее даже светлое – учитывая цвет её волос.
Он поглядел вниз, всматриваясь на воротник на коленях и скрывая дрогнувшие в улыбке губы. Коршун в бессчётный раз провёл рукой по голове.
– Ну и имена, язык сломаешь. Не то что у нас, у Золы... – Цыплёнок, всё равно ничего не заметивший, захлопнул дверцу последнего серого, как пыль, шкафа. Так ничего и не найдя, он со вздохом плюхнулся на стул через стол от Коршуна. – Ну, недаром они – родственники. Видимо, это семейное. Может, тоже читать любят, – пожал он плечами.
Коршун читать любил. Особенно, как ни странно, ночью – при свечах или, если повезёт, зажжённой печи, а то и в свете сохранившегося электрического фонарика. Мама работала в школе и часто приносила книги по истории. По миру. Благодаря им Коршун безопасно покидал Город и неизменно в Него возвращался – ровно к рассвету, когда надобность и во снах, и в фантазиях незначительно слабела. С ними – с пожелтевшими, действительно хрупкими (намного, чем его ладони) томами – Ипомея по-своему расцветала: новыми красками, отвлекавшими ровно от одного, самого пугающего и одновременно наиболее яркого цвета формы Миротворца или вездесущей крови – того, без чего не могут ни люди, ни вампиры. Только по-разному.
Коршун, не замечая, крепко стиснул воротник.
– Поспасть бы, – протянул Цыплёнок и постучал пальцами по столу. – И хорошо бы тебе заглянуть к Золе, – заявил он, ещё сильнее напрягая Коршуна. Как будто предстоящей ночи, сулившей темноту, страх и кошмары знают что ещё, не хватало. Нужно было пробудить вдобавок стыд. – Она же наверняка волнуется, Коршун. У неё, кроме тебя и Воробья, никого больше нет. Думаешь, будет легче, если ты ничего не скажешь?
«Да», – хотелось ему ответить. «Если вернусь». Если действительно вернуться, утром, то как будто и ничего страшного. Ничего не случилось. Всё хорошо.
Вместо же этого Коршун напомнил Цыплёнку о его семье:
– А твоя мама? Она так быстро ушла, вы толком и не поговорили.
При упоминании Гортензии Цыплёнок отвёл взгляд. Он поскрёб по воротнику, всё ещё надетому, невзирая на защиту порога. И дня. Пускай и стремительно – слишком стремительно, судя по убывающей на глазах бледности за окном, – угасающего.
– Она знает, – коротко ответил Цыплёнок и встал. – Ладно. Как хочешь. Если так и не заснёшь, разбуди за час до сборов. Не хочу, как вы утром, мчаться из последних сил.
И, потянувшись, Цыплёнок вышел из кухни. Очень скоро – к зависти Коршуна – за стенкой удвоился храп. Он остался один и о сне – тем более с таким аккомпанементом – даже не думал. Всё равно все его мысли крутились лишь об одном – об одной, о той, что гладила его по волосам... Таким белым, как снег. Как Снежинка, как очень много снежинок...
«Ну разве не прекрасно?»
Томный голос и мелькнувший лик с очень длинными алыми губами встряхнул Коршуна, и тот стукнулся головой о стену. Должно быть, он заснул – судя по темени на кухне. Вскочив и потирая затылок, Коршун метнулся в комнату. Цыплёнок, так и не оголив шею, спал на диване, а Ветер, накрывшись воротником как очень коротким одеялом, развалился на кровати. Коршун, застёгивая свой, разбудил обоих – хватило крика – и ринулся на улицу, никого не дожидаясь. Спешка отмела переживания насчёт Золы. Коршун мчался на площадь. Ветер и Цыплёнок нагнали его, и последний не преминул укорить:
– Что ж ты раньше не разбудил...
Его претензия утонула в гвалте, доносившемся с площади. Стиснув зубы, Коршун пустился во весь опор. Как оказалось, они опоздали не к началу сборов, а к ужину, по-королевски приготовленному для Миротворцев прямо у подножия Собора. Трибуны успели разобрать и расположить просто скамейками, куда мужчины и женщины в красном усаживались с мисками мутного супа или порцией серого риса. После пробежки кусок в горло не лез, и Коршун с трудом затолкал в себя бульон – едва не поперхнувшись, но скорее от удивления, чем от попавшегося куска мяса. Мяса! Настоящего мяса, положенного в суп. Коршун не ел его с... Со времён, когда жил с папой.
– Вот это я понимаю, – обрадовался Ветер, быстро опустошив миску и тут же попросив добавку. К удивлению Коршуна, ему не отказали.
– Не переусердствуй, – бросил Ветру мужчина, вместо еды занятый трубкой. От её дыма у сидевшего рядом Коршуна слезились глаза. Табак – то единственное, о чьём недостатке он никогда не жалел. – Главное, не наесться, а всё потом в себе удержать, – скривился незнакомец, сбивая трубку. Себе он миску так и не взял.
– Брось, Остролист! – вмешалась на редкость тучная женщина, взявшая и рис, и суп, а затем смешав и закапав получившейся жижей скамейку и фыркнувших соседей. – Дай ребяткам напоследок познать лучшее, что есть в жизни, – пищу! – Её глаза забегали, когда все сидевшие рядом (в основном, рядовые), перестали дружно есть. Даже Ветер завис с ложкой у рта, услышав «напоследок». – Ой, – прикрыла лоснящиеся губы женщина. – Я что-то не то сказала?
Она звучала так искренне, что Коршун уже собрался пояснить, как его прервал всё тот же Остролист, угрюмый Миротворец с щетиной и красными то ли от частого курения, то ли недосыпа, глазами:
– Всё то, Рыба, всё то. Но в следующий раз лучше просто кушай.
Она так и поступила. К еде, впрочем, вернулись все – в том числе осунувшийся Ветер. Вернее, почти все. Цыплёнок неожиданно задумался.
– Остролист, Остролист... – шептал он, пока Коршун вылизывал ложку. Хотелось попросить добавки, но от дыма трубки (или слов Рыбы) пропал было проклюнувшийся аппетит. – Вы – тот самый Остролист? – вскинул голову Цыплёнок, обратив на себя внимание курящего.
– А ты – тот самый сын Мадам-мэр. Да, я тоже о тебе наслышан.
На последнем Цыплёнок нахмурился. Мотнул головой, будто прогоняя всё лишнее, и уточнил:
– Вы служили с моей мамой...
– Ага, и с его отцом, – внезапно вставил Остролист, дёрнув трубкой (пеплом в ней) в сторону Коршуна. – С не менее – а может, и более, при всём уважении к Мадам-мэр, – знаменитым Снегом. С одним из лучших Миротворцев, кого я знал... знаю. Ну, после меня, конечно, – усмехнулся он и встал. В сумерках, сгустившихся в тени Собора, его вынутая из кармана зажигалка ослепила. Он вытряхнул трубку за скамейку и сразу набрал новую.
Коршун, часто моргая, попытался вспомнить всё, всех, что и о ком ему рассказывал папа. Как ни старался, а ни имя, ни трубку вызвать в памяти не смог.
– Надеюсь, парень, ты не хуже. – Цвет глаз, в пламени зажигалки озарившийся своим естественным карим, снова скрылся в темени мешков под ними, стоило Остролисту затянуться. – Вы все, – добавил он, не размыкая веки и не вынимая изо рта трубку. Обращаясь ни к кому и ко всем. – Вы все.
И он развернулся, точно не глядя, двинувшись к центру площади, где уже собирались поевшие Миротворцы. Ужин закончился, и с ним окончательно завершился день. Солнце, залив крыши домов и башни Собора ржавым светом, опустилось так низко, что Коршун не сразу заметил сгрудившиеся у стены тележки. На них, поблёскивая последними отсветами, лежали разнообразные орудия – все как одно посеребрённые на острых кончиках. Стрелы, более редкие болты, ножи, настоящие двухконечные копья, кастеты, топоры с широким лезвием, громоздкие косы, крохотные зажигательные склянки и, конечно же, колья. А ещё – с серебром не снаружи, а внутри – автоматы. При виде последних Коршун не сдержал улыбки. Наконец-то удастся пострелять как настоящий Миротворец! Пулями из серебра! Прямо как папа.
Заспанный Цветок велел всем – и старичкам, и новичкам – построиться перед телегами. Шторма (как и его дочери, всегда шедшей комплектом с Котом) нигде не было. И ладно. А вот отсутствие Ифигении («Неужели она всё ещё с ними?») принять оказалось сложнее. Коршун постоянно озирался в поисках белой, как пух, причёски по шею.
Увы, первой он застал золотую косу – а вместе с ней, как водится, рыжую макушку, – Крыса, явно отужинавшая дома с отцом и парнем, пришла с хмурым Штормом и необычайно тихим Котом. Без Ифигении. Интересно, где она? С кем? Коршун, сощурившись, глянул вверх, на сиявшие косыми лучами башни. Цветы под ними ещё не распустились, и мрачные лианы висели на стенах рваными лоскутами. От созерцания главного ночного убежища – быть может, для него последнего, – его отвлёк рык Цветка:
– Миротворцы!
С ним, расставшись с дочерью (поставив её и Кота в первый ряд, прямо перед Коршуном с Ветром и Цыплёнком, согласившимся занять места чуть сзади), с капитаном поравнялся командир. Он кивнул, не глядя на Цветка, и старший Миротворец, он же всё ещё учитель новобранцев, перешёл к дальнейшим указаниям. Он поделил товарищей по службе (впервые включая полноценных рядовых, всё ещё ему подчинявшихся, но уже иначе, вооружёнными) на две группы – ближнего (с Цветком же во главе) и дальнего боя, возглавляемого матёрым стрелком Штормом. Последний, в отличие от капитана, взявшего два кастета с копьём, к телегам не подошёл – судя по выпуклым карманам на бёдрах его два знаменитых пистолета уже при нём. Как и наверняка многочисленные обоймы во всех остальных кармашках формы.
– Красота, – подошедший к автоматам Кот заметно повеселел. Крыса, набиравшая охапку ножей рядом с Ветром, одобрительно хмыкнула.
Коршун приблизился следом за Котом.
– Отставить, рядовой. – Он уже тянулся к стволу, как Цветок, обойдя примерявшего древко Цыплёнка, взмахнул копьём, убрав его за спину. – Тебе полагается лук.
Коршун так и застыл с рукой над вожделенным оружием, ещё остававшимся... Для других Миротворцев.
– Но...
– Никаких «Но», рядовой. Бери то, в чём ты хорош. – И Цветок, не снимая кастет, прямыми пальцами подтолкнул Коршуна к лукам. Наконечники не убранных в плоский колчан стрел блеснули, точно смеясь.
– Я и из автомата хорошо стрелял, – пробурчал он, прикидывая, какой лук ему подойдёт. Подлиннее или короче.
– Но из лука лучше, – просто напомнил наблюдательный Цветок, и Коршун скривился, впервые пожалев быть «в чём-то лучшим».
– А ещё легче. – От замечания Кота у Коршуна непроизвольно сжались кулаки. Опять до красной боли. – Совсем без отдачи.
И краем глаза он заметил, как Кот (в шутку, а может, и нет) направил на него автомат, уткнув приклад в плечо.
– Опусти, баран! – мигом встрепенулся Цветок и замахнулся ладонью не стороной с серебряными шипами кастета, а внутренней, всего лишь с колечками. – Не целься в своих!
– Я и не целился, – донёсся смутно знакомый голос, и обернувшийся Коршун узнал в потном пареньке бывшего одноклассника по имени Баран. – У меня вообще масло, – он, оттопырив два пальца, показал тёмную склянку, – как мне этим целиться?
– Да не ты, – махнул Цветок и поспешно удалился к «своим» – таким же, как он, профессионалам.
Пока Коршун отвлёкся, разобрали почти все луки, кроме одного – самого короткого, а значит, для самой близкой дистанции. (И для его роста).
– Смело. – Остролист, набиравший свой колчан, искоса глянул на вооружавшегося Коршуна. – Я думал, ты предпочтёшь держаться на расстоянии.
У самого Остролиста при этом торчал лук размером со всё туловище Коршуна. Трубку он, неясно как, сумел заткнуть за ухо.
– Хотя, пожалуй, любой лук лучше копья, – добавил Остролист, закрепляя полный колчан.
Цыплёнок, определившийся с оружием – в последний момент к всеобщему удивлению выбрав уникальный трезубец, имевший целых три посеребрённых лезвия, но расположенных слишком близко друг к другу, – посмел не согласиться:
– Лучше, пока вы быстро стреляете и у вас есть, чем стрелять.
Он демонстративно повертел трезубцем. При желании – особенно с силой Цыплёнка – его можно и метать. Правда, вероятно всего единожды, в отличие от стрел, которых, при запасных колчанах (благодаря скромным размерам лука Коршуна умещавшихся на поясе), насчитывалось больше нескольких дюжин.
– Или метать, – вставил слово Ветер, пожонглировав несколькими ножами. Все они – исключая обычный железный, виденный Коршуном ещё перед присягой, – ловко легли и в руки, и в карманы.
Ну и ещё в отличие от связки метательных ножей, крепившейся также прямо на шее под воротником. Или нет, не крепившейся – оголивший шею Ветер опять умудрился снять первую защиту. С трезубцем ожидаемый упрёк Цыплёнка прибавил в весе, и вернувший на место воротник Ветер даже обошёлся без комментариев.
– Вообще-то, ребятки, – подошла к ним Рыба, из-за длинной косы и выбившихся из пучка тёмных с прожилками седины прядей похожая на саму Смерть, – нет ничего лучше надёжной классики. – И она аккуратно подобрала острый кол, целиком (даже рукоятью) сделанный из серебра.
Её примеру последовали все – в том числе хмыкнувший Остролист, вытащивший вновь изо рта едва раскуренную трубку. Коршун хотел запихнуть кол в карман поближе к поясу (то есть повыше, поудобнее), но помешал раскрошившийся чеснок и он, не желая вытряхивать карманы у всех на виду, всунул гладкое оружие в клапан у голенища. Если что, вблизи будет использовать стрелу. Вернее, её наконечник.
А лучше, конечно, никого к себе не подпускать.
Коршун сглотнул, поправляя лук и колчан за спиной. Он был готов, его товарищи тоже. Все молчали и друг на друга не смотрели. Разглядывали пол и дым из трубки или, – как один Коршун, – искали взглядом беловолосую Ифигению. Спросить у Кота и Крысы он не решался – вдруг ещё что подумают или, хуже, скажут то, что он не хочет слышать. Поэтому Коршун обратился к Остролисту под предлогом и так не скрываемого беспокойства:
– А где остальные? Здесь же не все Миротворцы, – посмотрел он по сторонам, задержавшись взором у почти опустевших телег.
Остролист шумно выдохнул дым.
– Скорее всего, уже на своих местах вокруг города. Ты же не думаешь, – глянул он на Коршуна сквозь пар, – что за всеми следят Шторм и Цветок? Мы, Миротворцы, обычно умные люди и сами прекрасно знаем, что делать. Каждую ночь одно и то же...
Он втянул много дыма и закашлялся. Коршун было собрался постучать ему по спине, но передумал, нахмурившись от его слов: Остролист будто выделял одних Миротворцев («обычно») и принижал других. Не трудно догадаться, кого именно.
– Им даже вооружаться не нужно, – продолжил сипло Остролист. – Всё своё носят с собой. Потому что заслужили.
– А вы, получается, не заслужили? – заметил насупленный Цыплёнок, вовсе, как знал Коршун, не издеваясь, а реально недоумевая. Никто из них (ну, разве что Цыплёнок, от мамы – бывшего Миротворца) не знал, на что способен Остролист, и тем не менее всё равно понятно, что он пережил далеко не одну ночь, а значит, вряд ли входил в число «не заслуживающих» привилегий. Если не званий, как у Шторма и Цветка.
Вместо ответа Остролист щёлкнул зажигалкой. Он усмехнулся, видя, как всё ещё хмурится Цыплёнок, и спросил:
– Когда ты в последний раз видел работающую зажигалку... рядовой?
Цыплёнок промолчал. Если Мадам-мэр сама не хранила какой-нибудь драгоценный сувенир со службы, то, наверное, как и Коршун, нечасто видевший и работающую печку, никогда. Не считая нарисованных или снятых на камеру. Остролист с довольным видом потушил пламя. Даже такое – маленькое – неприятное вампиру. Серебро и огонь – вот что на самом деле отгоняет чудовищ. Не стрелы и не копья. Даже не пули. А то, что на или в них. То есть внутри – в противовес, наоборот, их привлекавшей крови, тоже обычно не видимой, как патрон в стволе.
– Миротворцы!
Очередной призыв – но уже от Шторма – отправил всех в путь. На заставы. Коршуну – на тренировках намеренно избегавшему любой поддержки и близости, неизбежно добавлявших переживаний (не за себя) – не хотелось расставаться с товарищами (называемыми только так, без громких, к чему-то обязывающих слов). К счастью, их – с Ветром и Цыплёнком – определили в один состав – под предводительством, нет, не высокомерного Остролиста, словно не особо заинтересованного в благополучии неопытных рядовых, а его полной противоположности Рыбы, в свете заходящего солнца – ослепительного, здесь, на границе, на крайней крыше, ничем не загороженного, – больше не похожей на жуткую Старуху. Совсем нет. Благодаря чистому горизонту (Ветер аж присвистнул при виде солнца) Коршун даже разглядел на её полноватом лице ямочки, когда та улыбалась. А улыбалась Рыба на удивление часто.
– Ну что, ребятки, – говорила она, стоя спиной к закату, – готовы задать жару? Ваше обучение закончилось – теперь только веселье, – улыбнулась Рыба и не встретила ни одной улыбки в ответ. – Ладно, главное, не промахивайтесь.
И она отвернулась, скинула косу и сама спустилась на землю. Цыплёнок, обменявшись беспокойными взглядами с Коршуном и Ветром, двинулся следом, оставив трезубец в руке.
– Удачи, – промямлил Коршун ему в спину и увидел, как качнулась голова Цыплёнка.
Его, Коршуна, товарища, союзника... Миротворца. Просто такого же, как он и Ветер, человека в красном. Защитника города и противника вампиров. Ничего больше. Ничего сложнее.
– Да уж, веселье. Тихое, как ужас, – буркнул Ветер, чесавший голую, уже с проступающей щетиной шею... Без Цыплёнка самому Коршуну пришлось делать тому замечание. Воротник Ветра опять на месте, но на сколько его хватит?
В раздумье Коршун перевёл взгляд дальше – поверх синей макушки соседа, – и медленно повернул голову. Двухэтажные дома, на краю города почти не прерывавшиеся, пустые и вплотную другу к другу примыкающие, наглядно, заворачивая, очерчивали границу. За ней – помимо подготовившихся к сражению, рассредоточившихся стайками бойцов ближнего боя (трезубец Цыплёнка легко выделялся на фоне копий и кос) и ими утоптанной копоти, – от подножия зданий и дальше простиралась мрачная Пустошь – пустыня, изъеденная руинами построек и следами костров точно источающими гниль ранами, без конца и видимого края. Не считая кровоточащего горизонта, тонущего в самой земле без гор, холмов или ещё одних зданий. Абсолютная пустота – обманчиво полая и всё равно полная грязи и беды.
Вновь отвернувшись, Коршун сосредоточился на более близком – на крышах соседних домов, красном цвете форм, чем дальше, тем больше похожих на багровые точки; на высоких столбах, выраставших по бокам через каждые четыре подъезда, и... Он моргнул, сперва не поверив. Внизу, из города по улице шла узнанная по одним волосам Ифигения. Она не спешила. Шагала, убрав руки в карманы, и что-то пинала – издалека обычный камень.
Коршун не сдержался и подошёл к краю – подальше от заката. Солнце неожиданно грело, и он невольно улыбался, наблюдая за Ифигенией. Её былые волосы развевались, на губах мерцала усмешка и... Он поджал губы, разглядев предмет у её ног. Это не камень, хотя и тоже посеревший. Удивительно, что она его так использовала. Ни на кого не глядя, Ифигения пинала чью-то кость.
Коршун, памятуя прозвище, данное ему Котом, отвернулся, поморщившись. Найти кость в Ипомее вовсе не трудно – куда сложнее отыскать с остатками мяса... Пускай всего и один раз, а всё равно, несмотря на голод (не у всех есть связи со Штормом), отвратительный «Падальщик»...
Коршун, стиснув свободный от лука кулак, глазами нашёл Кота – рыжий Миротворец вышагивал взад-вперёд на соседней крыше. Рядом, разумеется, ошивалась разминавшая руки Крыса, а ещё – да, это проблема, – доставший пистолеты Шторм. Конечно же, он бы не оставил дочь одну. Кто, как не он, командир Миротворцев защитит её, Крысу... Но не Кота. Коршун прищурился.
Автомат последнего ещё висел на спине, а Коршун давно снял лук. Всего одна стрела – здесь не хуже пули – и всё, никакого «Падальщика»... Никакой отдачи.
В висках, отрезвляя, прорезался воображаемый голос Цветка: «Не целься в своих!» Да, Коршун отвёл взгляд – посмотрел вперёд, на пустошь, закат, на надвигавшуюся и без того кровавую ночь, – оно того не стоит. Оно неправильно. Не здесь, не сейчас.
Солнце сжалось до блёклого пятна.
– Я – острие в ночи, – забормотал Ветер, прижимая нож к груди. – Я огонь, сжигающий нечестивых.
Коршун сильнее стиснул и второй кулак, сжимавший лук. Дерево слегка заскрипело. Дыхание разорвало тишину.
– Я серебро, очищающее проклятых.
Горизонт, затухая в такт разрывающему грудную клетку сердечному барабану, погрузился во мрак.
– Я – Миротво...
– Хватит, – холодная, освежающая ладонь схватила Коршуна за запястье, – биться.
Белые волосы закрыли её лицо. Но она была рядом. Ифигения держала его за руку и не отпустила даже когда настала ночь. Коршуну пришлось отдёрнуть кисть. Стрела сама себя не достанет.
Первые – почти сразу, неожиданно после такой выжигающей пустоты на горизонте – закричали отряды ближнего боя. Коршун ничего не увидел. Атаку скрыла ночь. Недалеко, предваряемый воплем, раздался треск. Кто-то крикнул «Масло!», следом «Огонь!», и у Коршуна заложило уши, заслезились глаза. Запершило в горле, забурлило в животе.
«Главное, всё в себе удержать», – услышал Коршун надменного Остролиста в голове и сложился пополам, выронив лук.
Внизу, где раньше ослепляла Пустошь, местность очертил пожар. По бокам, где раньше слонялись люди в красном, крыши осветили вспышки. И повсюду, куда ни глянь, запетляли тени.
Автоматная очередь скосила залезших на стену.
– Коршун! – Его схватили за плечо. Подняли Коршуна, а лук остался лежать. – Стреляй! – завопил Ветер и вскинул руку.
Короткое лезвие с блеском вонзилось в алчущее горло. Оно только показалось над краем крыши и тут же рухнуло назад. Вместе с ножом.
– Стреляй!
Рядом носился Ветер. Недалеко шумел автомат. Клокотали пистолеты. Совсем близко рычали вампиры. И вплотную к ногам валялся лук.
Тени в отсветах пожара обрели тела. Их длинные бледные руки с гнилыми закруглёнными ногтями цеплялись за крышу. Их выпученные багряные глаза поднимались над землёй. И их грязные острые зубы тянулись к нему...
Ветер ножом разрезал выросшую перед Коршуном кровожадную шею. Голова, облепленная волосами, как водорослями, отлетела, а тело, успевшее поднять костлявые ладони, зашаталось, и Ветер его отпихнул. Он нагнулся и поднял лук. Сам вложил Коршуну в ладонь и отвернулся. Ещё один нож утонул в ночи.
Слишком быстрой и слишком долгой.
У Коршуна перехватило дыхание. Вечерний суп снова просился обратно. Короткий лук тянул его вниз. Но хуже всего – Ифигения опять куда-то пропала.
Коршун моргнул. На крыше её действительно нет, тогда внизу...
«Стреляй!»
Он достал стрелу и приложил к дрожавшей тетиве. На земле, ненадолго озарив пространство, лопнула очередная маслянистая склянка. Целых три лезвия разом мелькнули и погасли.
«Трезубец!»
Коршун глубоко вдохнул. Закрыл на миг глаза и подтянул к щеке лук.
«Стрела летит ровно, пока ты дышишь ровно», – сказал ему образ Снега, тайком учившего сына стрелять, и Коршун выдохнул, отпуская тетиву.
Серебряный наконечник вонзился в грудь – справа, а не слева. Сразу следом Коршун попал куда надо. В голову или сердце – два слабых места, из-за которых вампир умирает, почти как человек. Его труп остаётся, но внутренности, мёртвые задолго до серебра в них, стремительно разлагаются и буквально рассыпаются, втягивая трухлявую кожу и кости вглубь скелета. Коршун оставлял в них ещё и проседавшие стрелы.
Тех, кто не умирал сразу, добивал стремительный трезубец. Коршун видел его в свете разраставшегося пожара и не давал теням окружать Цыплёнка. Вампиры двигались столь быстро, несмотря на длительное голодание, что их черты размывались – особенно на фоне жалящего зрение огня. И тем не менее Коршун попадал. Так же, как Ветер метко метал ножи. Вдвоём – под звук автомата и пистолетов – они прикрывали воинов ближнего боя, всё обильнее кашляющих от растущей гари.
Потянувшись за очередной стрелой, Коршун нащупал за спиной пустоту. Всего секундная замешка, один недоумённый поворот головы за плечо, и его накрыла прорвавшаяся тень. Лук вновь рухнул, Коршуна потащили к краю. Тонкая, но крепкая – холодная даже сквозь воротник – рука вдавила его, приподняла и снова опустила. В глазах сверкнули болезненные звёзды, смешавшись с нечёткими настоящими наверху. Коршун забился в чужой хватке и подставил локти, когда кровавая пасть приблизилась к лицу. Вампир заревел. Его слюни, смешанные с кровью, попали Коршуну в рот, и тот извернулся, отплёвываясь.
Клыки вампира мгновенно скомкали воротник. Если он прорвётся, если укусит, и вампирская кровь уже проникла внутрь Коршуна... Чудовище широко раскрыло пасть. Переместилось выше, и тогда Коршун наконец потянулся к карманам. Зубы почти сомкнулись на его скуле, когда он, не достав даже до чеснока, выхватил переломанную стрелу из колчана на поясе и всадил куда смог – в плечо. Вампир зашипел, хлопнул ртом и схватился за торчавшее древко. Он заорал так истошно – так жутко раззявив алые губы, – так... Досадно, что Коршун закричал в ответ. Подавшись головой вперёд, он сам подставил макушку под клыки.
Зубы оцарапали его, разодрали волосы, но не впились, как вампира дёрнуло назад. Белый вихрь взметнулся и затих, погрузив одну руку в трепетавшую грудь, а второй держась за хлюпавшее горло. Подоспевшая Ифигения опустила ладонь всю в крови и откинула мертвеца как высохшую тряпку. Она повернулась, и Коршун непроизвольно закрылся руками. С лица Ифигении капала кровь. Он не сразу сообразил, что она – не её.
– Хрупкая Снежинка, – проговорила она, утирая подбородок. – Таешь прямо на ладони. – И протянула руку, в тени тёмную и грязную. Коршун не сдержал отвращения.
Ифигения усмехнулась, отряхивая ладонь, и подала другую. Схватившись за неё, Коршун невольно подумал, что на её ладони – такой обжигающе холодной – настоящие снежинки бы задержались, как зимой.
– А где твоё оружие? – спохватился он, ища собственный лук. – Где кол? – задумался Коршун, вынимая свой. Без надобности.
Ифигения махнула волосами, в блеске пламени малиново мерцавшими.
– В нём застрял, – бросила она, пнув разложившегося вампира. – И разбился. Серебро же почти такое же хрупкое, как снежинка, – ухмыльнулась Ифигения и сразу умолкла, расслышав за треском пожара приказ Шторма:
– Цепь! Цепь! – кричал командир, не прерываемый ни автоматом, ни собственными пистолетами. – Поднимайте цепь!
Тени, рыскавшие вокруг разлитых костров, завыли точно звери. Цветок – он жив! И совсем недалеко! – крикнул во всё охрипшее горло команду отступать. Она пошла дальше – через другие глотки, – и целая россыпь бойцов Миротворцев бросилась к заставам. То есть к домам. Коршун, заприметив движущийся трезубец, метнулся к краю крыши, выуживая из колчана целую стрелу. Цыплёнок не оборачивался и не видел за собой опадавшие, как листья, тела. Кто-то спотыкался, получая стрелу не туда, и всё равно замедлял всех. Они обходили очаги огня, и пути к городу сужались. Цыплёнок не оглянулся и когда стрела пролетела у него ровно над головой. Последний вампир едва до него не добрался. Коршун, убирая лук за спину, помог Цыплёнку взобраться. Сперва он закинул трезубец.
– Спасибо, – прокашлял Цыплёнок, подбирая обратно оружие и усаживаясь прямо на крышу. – Видел твои стрелы, – прохрипел он и стукнул острыми концами трезубца о край. Сердце, застывшие на острие, свалилось в темень стены.
Коршун ничего не сказал. Стрелы ещё оставались, как и вампиры. Он замер и резко прищурился, так и не выпустив следующий залп, когда из земли выросла цепь. Широкая металлическая решётка, тянувшаяся у каждого дома и вечером принятая им за водосток, разошлась и выпустила громадные звенья. Они натянулись на каждом столбе, возвышавшемся над зданиями. Даже в слепящем свете огня Коршун понял, что все звенья посеребрённые. Вампиры касались их и неизменно шипели. Но когда же цепь, ослепив и людей, и нечисть, зажглась... Ночь утонула в вопле, перекрывшем все ужасы, слышимые Коршуном в Соборе. Вампиры не плакали, не тряслись от страха, не жались друг к дружке и всё равно наседали, перелезая горящую цепь и падая, напарываясь на копья, колья, снова пламя... Но не стрелы. Коршун больше не стрелял. Стих и автомат. И пистолеты. Только синеволосый Ветер, незаметно перешедший на соседнюю крышу к Шторму, иногда пускал ножи.
– Как мотыльки... – послышался слабый голос Ифигении, и у Коршуна по спине побежали мурашки. «Неужели она ранена?»
Он повернулся и действительно увидел её всю в крови, но уже быстро понял, что чужой. Белые волосы совсем заляпались красным, и девушка, смотря строго перед собой, ничего другого – кроме умирающих вампиров – словно бы не замечала. Коршун приблизился, вытянул руку и так и не коснулся. Оказывается, его ладонь тоже в крови. Он вытер руку о форму – всё равно красную – и встал с Ифигенией, прислушиваясь к стуку своего наконец успокаивающегося сердца, а не к кровавым визгам убиваемых ночных кошмаров, когда-то – возможно, и не так давно, – бывших людьми...
Коршун ждал рассвета, и всё равно первые лучи забрезжившего солнца, наконец-то мимо домов и Собора доставшего и до этой, западной части Ипомеи, стали неожиданностью. И не сказать – удивительно и странно, – что приятной. С солнцем стали лучше видны трупы – и не только вампиров.
Прямо около дома Коршуна (дома на эту прошедшую ночь) сквозь серую дымку алели два тела – согбенное, на коленях, с опущенной головой и руками, прижатыми к груди, и лежащее навзничь, с полностью окровавленной левой половиной. Невдалеке от них рухнула цепь, и большинство, включая Цыплёнка, Ветра и по-прежнему, невзирая на утро, мрачную Ифигению, пошли к зазору. Вой, вопль, рев стих. Уцелевшие вампиры ушли ещё до рассвета. Скрылись, как сквозь землю провалились, сбежали или умерли. Многие лежали точно трухой, сливаясь с копотью и свежим пеплом. И без того выжженная земля – Пустошь – питалась одной смертью и разложением. И даже дождь был не в силах смыть всю эту грязь. Разве что настоящий снег ненадолго погребал останки, быстро, впрочем, орошаясь кипящей кровью.
Коршун, морщась, спустился и подошёл к трупам. Один показался знакомым – и действительно, приблизившись, Коршун узнал в склонённом лице вечно потного Барана. Он сидел почти так же, насев на парту, в школе, корпя над каждым уроком, как над вопросом жизни и смерти. Что Баран отвечал тогда, неважно, ведь сейчас, судя по растерзанному воротнику, свисавшему с шеи подобно полинявшей коже, и его же ладоням, вогнавшим в сердце кол, бывший одноклассник выбрал убийство. Не себя, так будущего вампира.
До ушей Коршуна донеслось беспокойное «Кот?». Звала Крыса, без сомнения. Он развернулся, и тогда одно оставленное тело село.
– Коршун, – окликнуло оно и щёлкнуло зажигалкой. – Доброе утро.
Остролист – с кровавой маской на лице – зажал зубами тщательно оберегаемую от крови трубку и одной рукой поджёг. Выпустив первый дым, он отряхнул зажигалку и, дотянувшись, убрал в карман слева, не тревожа явно повреждённую сторону.
«Кот!» – послышалось громче.
– Ну и ночка, да? – Остролист курил, а Коршун смотрел то на него, то на Барана. – У тебя сколько? – спросил Миротворец, и Коршун вытянул брови. Остролист усмехнулся, тут же скорчившись.
– У нас негласное соревнование, – невозмутимо пояснил он, поглаживая левое предплечье. – Кто скольких убьёт за раз. Ну, вампиров. У твоего отца был рекорд... Был, – улыбнулся Остролист, и Коршун отвёл взгляд. Крыса опять крикнула имя своего парня. – У меня сегодня 33, – продолжал Остролист. – 34, если считать его. – Трубка переместилась к Барану. – Ну, за вампира и за убийство. С ним же я не сам – так, одними словами, но знаешь, это ведь тоже дорогого стоит – убедить кого-то вогнать в себя одного кол, пока ты ещё не обратился и не убил ещё...
Коршун пристально посмотрел на Остролиста. На Барана рядом с ним. На кол в его сердце. Порванный воротник. На трубку во рту Остролиста. Его левую руку в крови.
– Вы его уби...
– Кот! – Крыса едва не впала в истерику. Остролист вовремя сменил тему:
– Ты Рыбу видел?
Коршун, озадаченный Крысой, помотал головой. Через два подъезда, встряхнув пыль и пепел, развеяв дым, оторвали от земли провалившуюся цепь. Остролист поднялся – ловко, с учётом ран, слабо поморщившись, – и вместе с Коршуном подошёл к звеньям. На них, точно мухи, попавшие в ловушки, сцепились три тела. Одно – в красном, с косой, – Коршун узнал. Других, в чёрном, – возненавидел. Рыба, сражавшаяся сразу с двумя вампирами, на самом деле убила троих. Коса – её длиннющее лезвие, срезавшее головы не хуже травы, проткнуло и некогда (всё ещё) живую грудь Миротворца (заражённого), и давно (уже) мёртвые сердца кровопийц (разносчиков). Три тела, один человек и два монстра, нанизанные на одно оружие.
– Ну, – протянул Остролист, отнимая трубку, – она хотя бы умерла сытой.
Прежде чем скривившийся Коршун открыл на него рот, всю округу опять прорвал возглас Крысы.
– Коооот!
Ей никто так и не ответил. Остролист, хмыкнув, первым сообразил, что это значило.
– Ну, – повторил он сзабитым ртом, – Рыба хотя бы умерла.