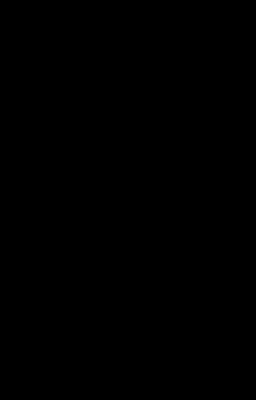1
Когда люди слышат мое имя, в их воображении невольно возникает фигура ильма – непреклонного угрюмца, так хорошо знакомого каждому обитателю восточной части Америки. Крепкий ствол этого реликтового дерева, всплошную испещренный продолговатыми чешуйками коры, известен своей способностью изгибаться в нужном месте без потери своей прочности. Важное качество, надо сказать, эта его особенность: во все времена выживали лишь те, кто мог приспособиться.
Будь то неизведанные земли с норовистыми горными серозёмами и вечными чавычинными ветрами, воды с бесконечными гейлами или миловидная суженая, после венчания лихо обратившаяся в сварливую скареду – вам всегда пойдет на руку умение мигом распознать бейдевинд и дрейфить, пока не придумаешь как выплыть из передряги.Словом, замечательная вещь, наш американский вяз: ни переломить его, ни утопить. Его поразительная устойчивость к влаге поначалу была замечена корабелами, мостостроителями, словом, всеми, кто трудился на околоводных поприщах. Позднее, когда наши прадеды-старатели смекнули, что подземная среда порой напоминает морские прерии своей влажностью, ильм стали применять и внизу, где первые висконсинские проходчики любовно обустраивали первые свинцовые шахты. Именно там, в слепой духоте и тягучей пыли недр холма Минерал-Пойнт, началось мое пробуждение.
Меня зовут Элмер Ланкастер, я происхожу из рода фермеров, уходящего корнями в далекое королевство. Мой предок-переселенец прибыл на новые земли для ведения докторской практики среди отцов-пилигримов, жаждущих обрести свой Эдем на просторах Новой Англии. Около двух сотен лет прошло, прежде чем моя семья прочно обосновалась, а потом и разрослась на проклятой земле, да так, что и мои прадеды не размыслят, до каких штатов могли протянуться ветви нашего фамильного древа. Что до моего рождения, то я появился на свет зимней ночью одна тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года в провинции барсукового штата Америки –Висконсина.
Я мало что помню о своем детстве. Знаю только, что часть его прошла среди бескрайних пшеничных полей и серых ферм с теснящимися меж пшеничными грядами полчищ амбаров и зернохранилищ. По крайней мере, там оно проходило до того, как Честный Эйб был избран президентом. До того, как четверть наших была оторвана от пашен и брошена в самое пекло гражданской войны, бушевавшей во всех концах родной тары. Пожалуй, не было ни одного американского захолустья, не подхватившего светоч освободительной горячки, но почему-то именно висконсинцы приняли решение надеть на себя черные шляпы и проторить победную тропу.
Как говорят старожилы, никто не знал, сколько времени пройдет до того момента, как к плугам вновь вернутся их верные напарники-землепашцы, и они вместе, как и в прежние мирные дни продолжат свои размеренные скитания по цепям тихих холмов. Не знали и того, как скоро Америка оправится от тяжкого исхода совершаемых кровопролитий, но каждый северянин, фермер ли то был или рабочий, знал, что победа над мятежниками неизбежна.Так думал и мой отец, отправившийся на войну в числе Железной бригады Запада. К слову, все, что от него осталось – добрая память, теплящаяся в сердце моей преданной матушки, да винтовка «Миссисиппи», изредка нарушающая течение своей жизни настенного украшения для того, чтобы припугнуть своим грозным залпом койота, имевшего неосторожность забрести на фермерские юдоли.
Освободительная война оставила после себя не только разрушенные и заброшенные тары с домами плантаторов и разворошенные снарядами поля. Стихийные кладбища – массовые захоронения неудачливых участников кровавых битв, стали вечными спутниками значимых дорог и переправ. Полагаю, на одном из таких мест в безымянной могиле и нашел свое последнее пристанище Роберт Маккензи Ланкастер.Возможно, в один из погожих дней, без которых не обходится ни одна августовская неделя, проведенная на землях Нового Йорка, я опущусь в кресло, упрятанное в одном из темных углов гостиной, угощу себя сигарой и пораздумываю над тем, смог бы я променять благополучие собственных отпрысков на защиту интересов каких-то парламентских мужей.
Возможно, через пару десятилетий мне и удастся понять, почему отец бросил нас тогда, а пока я простодушно порадуюсь тому, как я не похож на себялюбивого папашу, и продолжу свой пресловутый рассказ.
Наша семья насчитывала шесть человек, трое из которых - я и мои братья. Александр, первенец моих родителей, был на пять лет старше меня, а Роберту едва стукнуло два, когда в тысяча восемьсот шестьдесят третьем Шарлотта Мередит Ланкастер, моя дорогая матушка, получила извещение о кончине горячо любимого мужа.
С того дня многое переменилось в наших жизнях. Мама рассказывала, что мой старший брат, которому на тот момент исполнилось одиннадцать, вмиг переменился: его синие, по-детски широкие глаза, как бы запали, брови нависли над глазницами, отчего взгляд стал пронзать холодом и горечью отчаяния. Некогда румяные пухлые щеки исчезли, оставив после себя выступающие скулы, так не свойственные мальчишкам такого возраста. Уголки рта – и те опали, от чего нижняя часть лица стала походить на подбородок щелкунчика, когда тот захлопывает свою пасть, расправившись наконец с твердой скорлупкой. Все в виде моего брата кричало о том, что его крохотный мир, из которого произрастали надежды на счастливое воссоединение нашей семьи, был нещадно растерзан. Больше не было надежд на доброе будущее, как и не было беззаботных дней детства.Я же не помню о той поре ничего, кроме немого опустошения, застрявшего в нашем доме на десятилетие.