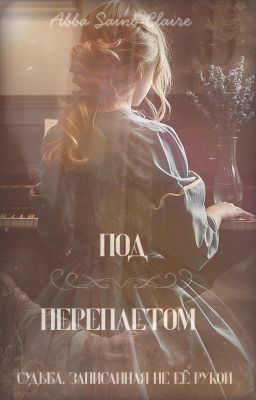3 глава «Серые письма»
Утро пришло без предупреждения. Ни солнца, ни громких звуков, только тусклое небо. Офелия открыла глаза с ощущением, будто не спала вовсе. Вчерашний вечер прошёл спокойно, если не считать взгляда Арно, от которого на душе остался неприятный осадок. Пирог так и остался недоеденным. Этьен ушёл рано, не попрощавшись. Может, из-за вина, может, из-за самого себя.
На улице стояла вялая серая погода, подходящая к её настроению. Пальто на плечи, сумка в руку, и вот она уже идёт знакомой дорогой, не думая. Как только под каблуками отзывается мостовая, в голове девушки появляется вопрос: зачем ты снова идёшь туда? Но Офелия не отвечала ни мыслям, ни себе. Шла, потому что иначе было нельзя.
В коридорах госпиталя стоял запах лекарств, а сквозь трещины окон пробирался слабый свет. Крики больше не резали воздух, как в первые недели, остались только шёпоты, стоны и редкий отрывистый смех.
— Мадемуазель, — окликнула её сестра Мари, молодая послушница, уставшая больше, чем можно было представить в её возрасте. — Сегодня... писем особенно много. Просят, чтоб вы помогли. Те, что с запада, только вчера привезли. Почти все тяжёлые.
— Я поняла, — кивнула Офелия.
Она вошла в комнату, где у окна стоял грубый стол. Рядом — два-три табурета. На столе — перья, пузырёк с чернилами, охапка бумаги и аккуратная стопка конвертов, большая часть из которых была уже подписана чужими, неуверенными руками.
Первым оказался пожилой рядовой, которого она знала как Бертрана. Он говорил тихо, будто боялся потревожить воздух.
— Напишите ей... моей Элоизе, что всё хорошо. И что... — он замялся, пряча взгляд, — если я... не вернусь... пусть знает: я каждое утро думал о её хлебе. О запахе. Напишите это, мадам?
Печальная наблюдательница кивнула. И написала:
"Дорогая моя Элоиза, здесь всё спокойно. Думаю о тебе каждое утро, вспоминаю, как пахнет твой хлеб. Этот запах сильнее любых лекарств. Береги себя."
Он поблагодарил, сжимая лист, как оберег, и ушёл, хромая.
Следующим подошёл юноша лет девятнадцати. Без руки. Он долго молчал, потом выдохнул:
— Я не помню, как её зовут. Просто... деревня под Кале. Она работала на мельнице. Скажите ей, что я не умер, что я буду жить, ради неё. Может, она поймёт.
— Имя?
— Я называл её lumière - светлая. Напишите просто это. А если не найдёт — значит, не судьба.
Та записала. Впервые сдержала дыхание.
Она не помнила, сколько времени прошло. Рука немного дрожала от усталости, но пациенты всё шли. Письма, просьбы, глаза, которые глядели на неё с последней надеждой — всё сливалось в монотонный ритм, пока к столу не подошёл солдат с перевязанной шеей и одеялом, накинутым прямо на шинель.
Мужчина не сел. Просто стоял, как будто боялся, что сядет и больше не встанет.
— Можете? — тихо спросил он. — Написать матери. Это... не долго.
Она кивнула и приготовилась писать.
— Маменька, — начал он, делая паузы между словами, — у нас холодно, но я держусь. Я жив, но мне снятся те, кто нет. Ты ведь помнишь, как у нас пахло лавандой летом?
Фельдшер замерла.
— Скажи Колет, что я не злюсь, что она вышла за Пьера. Я рад. Я бы не пришёл назад всё равно. У неё есть право жить, как хочет. Пусть поёт ей по утрам. Так, как я хотел.
Он на мгновение закрыл глаза, затем добавил, едва слышно:
— Если найдёшь мою шляпу, ту серую, — оставь её у печки. Пусть кажется, что я вот-вот вернусь.
Де Голль закончила писать, едва сохраняя чёткий почерк. Солдат молча кивнул и ушёл, как будто отдал что-то последнее от себя. Она осталась одна в комнате. Бумага — исписана. Чернила — почти закончились. Та успела только спрятать чернильницу и накрыть письма, как из коридора донёсся топот — не размеренный шаг, а торопливый, сбивчивый бег.
— Морено! Шестой отсек! Он очнулся! — кто-то крикнул у входа.
Офелия подхватилась, фартук едва не зацепился за ножку стула. Спустившись по лестнице, она свернула в коридор, где пахло спиртом и влажной тканью. У входа в отсек её уже ждал Бове с напряжённым лицом.
— Он в жару... Дышит тяжело. Глаза открыл, но будто не видит, — с хрипотцой выговорил он, пропуская её вперёд.
В палате было душно. Кто-то приоткрыл окно, но воздух стоял, словно застыл. Морено лежал на узкой койке, простыня сбилась, грудь вздымалась неравномерно. Губы сухие, глаза открыты, но мутные. Он что-то бормотал — неразборчиво, почти беззвучно.
Фельдшер склонилась над ним, коснулась лба — обожжён. Жар точно лихорадочный.
— Принеси холодной воды. Быстро, — бросила она санитару и опустилась на колени у кровати.
— Месье Морено... Вы слышите меня? Здесь госпиталь. Всё хорошо. Вы в безопасности, — проговорила она ровно, медленно, как учила себя в подобных случаях. Но он не ответил. Пальцы слабо сжались на простыне, взгляд метался, будто он и правда был где-то между.
И вдруг он произнёс чуть громче:
— Лу...
Слово повисло в воздухе, тонкое, будто выдох. Офелия вздрогнула.
— Простит ли... — он прохрипел, и в этот момент из его носа пошла тонкая струйка крови.
— Таз с водой! — крикнула она, вставая. — И скажи доктору Дюрану! Срочно!
Морено закашлялся. Плечи вздрогнули, тело дернулось в спазме. Де Голль схватила чистую ткань, смочила и осторожно коснулась его лба, сжимая губы. Хотела сказать: "Вы сильный. Держитесь." Но что-то внутри запретило. Он и так держался. Из последних сил.
Она просто осталась рядом. Пока за дверью не послышались тяжёлые шаги врача.
Доктор Дюран вошёл, едва заметно кивнув. Уставший взгляд скользнул по койке, по Офелии, задержался на влажной ткани в её руке.
— Он очнулся? — спросил он негромко, подходя ближе.
— Ненадолго. Сознание спутанное. Температура поднялась. — Она убрала руку, позволяя ему подойти к больному.
Доктор осмотрел Морено быстро, но внимательно. Пощупал пульс, приподнял веки, затем глухо выдохнул.
— Пограничное состояние. Либо к утру, либо...
Он не договорил. Не было смысла.
— Я останусь, — сказала она, почти шёпотом.
Тот кивнул.
— Только ненадолго. Вы тоже не железная.
Когда он ушёл, в комнате снова повисла тишина. Только слабое, неровное дыхание. И капля дождя, то и дело стучащая в раму.
Офелия села рядом, чуть наклонившись вперёд. Смотрела на его лицо — измождённое, осунувшееся. Он был моложе, чем казался издали. Не мальчик, но ещё не мужчина в возрасте, уставший от жизни. Где-то между. И вдруг, он пошевелился. Едва заметно, но явно.
— Слышите меня? — тихо сказала она, будто опасаясь спугнуть хрупкий мостик между сном и реальностью.
Он не ответил, только ресницы дрогнули, как будто сознание пробиралось сквозь тяжёлый туман.
Фи смочила ткань в холодной воде и вновь коснулась его лба.
— Всё в порядке. Вы в госпитале, — произнесла чуть громче, глядя на него. — Вас нашли. Привезли. Вы живы.
Он снова пошевелился, веки приоткрылись на миг, но в глазах ещё не было фокуса. Только беспокойство. Тень страха.
— Вас зовут Рене, да? Рене Морено? — Она смотрела внимательно. — Не напрягайтесь. Можете просто кивнуть, если слышите.
Его пальцы едва заметно дёрнулись на простыне, будто ответ был, но слов пока не было.
— Хотите воды? — спросила она и взяла кружку, но он не смог бы пить — слишком слаб.
Офелия опустилась чуть ближе, голос стал почти шёпотом:
— Тут всё по-другому. Это не поле боя. Здесь тишина. Я не враг.
Пауза. Как будто он замер, прислушиваясь.
— Я помогу, чем смогу. Вам просто нужно остаться. Ещё немного. — Она сделала вдох. — Просто... не уходите.
Он не ответил. Но взгляд всё же появился. Слабый, скользящий, будто сквозь воду. Он не смотрел на неё прямо, а просто смотрел в её сторону. И этого было достаточно.
Она улыбнулась, едва заметно.
— Вот и хорошо, Рене. — Голос её стал мягким, почти материнским. — Вы услышали. Это уже что-то.
Он моргнул. Один раз. Медленно. И снова закрыл глаза, как будто признал: да, я здесь. Да, слышу.
Светловолосая немного поддалась вперёд, поправила простыню у его плеча. Движения были уверенными, но внутри нарастало что-то неуловимое — смесь облегчения и страха.
— Я приду позже, — добавила она шёпотом, будто давая обещание. — Сейчас вам нужно спать.
Она встала, глядя на его лицо — израненное, истощённое, но теперь уже живое.
И, разворачиваясь к двери, услышала тихое, почти неслышимое:
— Прощение...
Сердце ёкнуло. Она обернулась, но он уже вновь провалился в забытьё. Губы были сомкнуты. Лоб покрыт испариной. Девушка закрыла за собой дверь палаты. Коридор показался тише, чем прежде, хотя шумы и шаги по-прежнему звучали вдалеке. Она не спешила, шла медленно, словно в ней самой что-то ещё не улеглось.
Вскоре она вновь оказалась в той самой комнате, где всё ещё лежали аккуратно разложенные письма. Бумага, чернила, перья, стопки — ничто не изменилось с того момента, как она вышла. Но теперь Де Голль смотрела на них иначе. Она подошла к столу и медленно перелистнула верхнюю стопку, где лежали неотсортированные письма — те, что ещё нужно было распределить. Она разложила несколько на столе, поправила края. Движения были осторожными, почти трепетными. Письма к матерям, невестам, жёнам. Письма благодарности, тревоги, прощания. И вдруг один лист выделился. Он был свёрнут иначе, чем все остальные. Без подписи. Без имени отправителя. На нём было всего несколько предложений, выведенных твёрдо и разборчиво:
"Луиза,
Не знаю, где буду, когда ты прочтёшь это. Вероятнее всего, далеко. Или ближе к концу, чем к началу.
Я пишу заранее. На случай, если не смогу сказать всё потом. А потом, может, и не будет.
Ты всегда была лучше меня. Мудрее. Чище. Прости, что оставляю тебя с вопросами, на которые у меня не хватило мужества ответить при встрече."
Фи перечитала строчки ещё раз, будто от этого могли появиться новые слова, какие-то объяснения между строк. Нет, всё то же. Просто, тихо, до боли лично. Лист был немного помят, в верхнем углу отпечаталась тёмная клякса, будто письмо спешно свёртывали, и чернила не успели высохнуть. Такой бумаге не место в общей стопке. Офелия машинально положила его отдельно, в сторонку.
— Как будто сердце чьё-то в конверте, — прошептала она, почти неосознанно.
Мадам провела пальцем по краю бумаги, едва касаясь, как будто боялась ворваться в чью-то тайну, застывшую в словах. Письмо словно дышало под её ладонью — уязвимое, живое, слишком настоящее. Взор упал вниз, почти мимоходом, и там, в самом низу, заметно мельче основного текста, как будто эти слова были написаны уже после, или с особым трудом, стояла ещё несколько строчек:
"Есть одна вина, что не отпускает. Если всё закончится для меня — я хочу получить твое прощение.
Не плачь, Лу. Живи дальше. За нас обоих.
— R.M."
Фельдшер перечитала эти слова трижды, а потом ещё раз. Медленно, как будто каждый слог оставлял на сердце вмятину. Она посмотрела на письмо снова, на вдавленные буквы, на неровные концы строчек — словно писавший боролся не только с чернилами, но и с собой. Офелия отложила письмо в сторону, подальше от остальных. Её рука задержалась на нём чуть дольше, чем нужно, и только после этого она поднялась со стула.
За окном сгущались сумерки. Слабый свет ложился на стол полосами. В дальнем конце коридора кто-то прошёл, тихо кашлянув. Всё текло своим чередом, как всегда. Но в ней что-то изменилось. С улицы доносился плеск луж. Люди спешили домой, подальше от холода. Её же что-то удерживало здесь.
«Если всё закончится для меня — я хочу получить твое прощение...»
Холод. Письма. Чужие признания.
Всё складывалось в узор, который она ещё не могла понять.