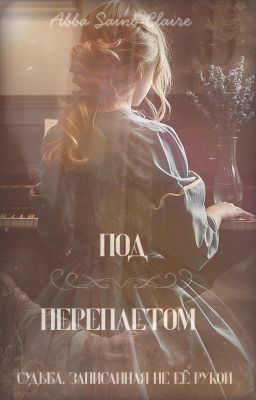4 глава «Тишина с привкусом соли»
Иногда боль не кричит. Иногда она просто сидит рядом. И ждёт, пока ты её заметишь.
Утро было серым, но не от дождя, а от самой ткани воздуха, будто небо устало держать себя голубым. Свет пробивался в окна лениво, почти с неохотой. Ни одного луча, ни золотистой полосы на стене, всё словно застыло в приглушённых тонах. Внутри, в глубине этой тишины, словно растянулось нечто густое и вязкое, что не позволяло ни проснуться, ни забыться окончательно.
Офелия вошла в малую кухню, где пахло слабым кофе и чем-то пыльным, давно не проветриваемым. Старый врач Лектер уже сидел у стола, сгорбившись над чашкой. Его пальцы обнимали фарфор, как будто в этом тепле было последнее, на что он мог рассчитывать этим утром. Он не сразу заговорил. Только, когда она присела напротив, взглянул мельком и хрипло произнёс:
— Знаете, мадам Де Голль, бывает, что ничего не болит, а жить всё равно тяжело. — Он говорил негромко, не ожидая ответа. Как человек, который произносит мысль не вслух, а себе под нос, но достаточно громко, чтобы кто-то её всё-таки услышал. Офелия кивнула в ответ, чуть качнувшись вперёд. Мужчина глядел на чашку с крепким чаем, в которую добавлял соль вместо сахара, по старой ошибке, ставшей привычкой.
Фи поднялась. Её руки чуть дрожали, но нужно было идти дальше — проверка, перевязка, лекарства. Один шаг за другим, словно марш сквозь серость. Коридоры госпиталя встретили её знакомым запахом: смесью железа, старых бинтов и кипячёной воды, он цеплялся за всё, будто шаль, накинутая невидимой рукой. Один из санитаров кивнул девушке — тихо, сдержанно. Здесь не здоровались громко. Она свернула в сторону отсека, где лежал Рене Морено.
Комната была полутёмной, только слабый свет из окна на противоположной стене. Он лежал почти так же, как и вчера, но глаза были приоткрыты. Не совсем — тонкая щель, взгляд скользящий, будто сквозь пелену. Она не удивилась, просто подошла ближе. Лицо его было бледным, а губы потрескались.
— Доброе утро, — прошептала она, скорее для себя. — Надеюсь, вам снилось что-то спокойное.
Фельдшер схватилась за бинт, дабы поменять повязку солдату. Она замерла на мгновение, держа в руках лоскут, и воспоминание вспыхнуло, как боль от случайного пореза. Вчерашний вечер. Голос Этьена — натянутый, холодный.
— Не строй из себя святую, Офелия. Я вижу, как ты смотришь на этих искалеченных. Как будто в них есть что-то благородное. Это всё грязь. Думаешь, я не вижу, как ты возвращаешься оттуда? — его голос был резким, с той самой металлической ноткой, от которой у неё сжимался живот. — От них вся пропахла, пропиталась жалостью. Или чем-то похуже?
Она хотела отвернуться, уйти, не вступать в это снова. Но сделала шаг, едва заметно сжав пальцы:
— Я возвращаюсь от крови, Этьен.
— Ах, ты теперь героиня? — Он сделал шаг ближе. — Фельдшер с высокоморальной миссией?
Девушка молчала. Она уже знала этот ритм, знала, к чему ведут такие разговоры.
— Смотри на меня, когда я говорю, — прошипел он.
Она подняла глаза, и в этот момент он ударил. Резко, ладонью по щеке. Не сильно, скорее, сдержанно, но достаточно, чтобы кожа вспыхнула от боли и унижения.
— Хватит вести себя так, будто ты выше всех. Ты моя жена. Запомни это. Теперь ступай в свою комнату и подумай, как женщине твоего положения подобает себя вести. — Он развернулся и вышел, хлопнув дверью.
Теперь, в утренней тишине госпиталя, это возвращалось внезапно, будто синяк под кожей, который проступает позже. Щека больше не болела, но внутри что-то саднило. Офелия медленно вдохнула, выровняла дыхание, а затем осторожно сменила повязку, как на фарфоре.
— Всё хорошо, — прошептала она, не зная, кому именно адресует эти слова. — Всё хорошо. Уже утро.
Морено чуть дёрнулся в полусне, и она снова вернулась к настоящему. Тепло его тела под простынёй было еле уловимым, но всё ещё живым. Она поправила одеяло, откинула с его лба прядь волос, смочила губку и провела по потрескавшимся губам. Тишина в палате не была полной. За стеной кто-то стонал, скрипела каталка, капала вода из крана. Жизнь в её измученной, разорванной форме продолжалась.
Она уже почти достигла двери, когда за её спиной раздался сдавленный голос — сухой, хрипловатый, но отчётливый:
— Простите... мадам... Вы всегда столь безмолвно исчезаете?
Офелия остановилась. Голос не был голосом бредящего, в нём звучала тихая трезвость, как будто сам факт произнесённых слов стоил говорящему чрезмерных усилий.
Она обернулась. Морено приоткрыл глаза. Взгляд был неясным, но не лишённым осознания. Он смотрел не на неё, а скорее в её сторону, как на фигуру в полутьме, что давно стала частью его сна, и вдруг приняла очертания.
— Прошу прощения, — произнесла она, едва слышно. — Я не желала тревожить ваш покой.
Морено чуть заметно качнул головой.
— Напротив... Ваше молчание... как прикосновение — не ощущаешь сразу, но запоминаешь.
Фи подошла ближе, присела на край кровати. Несколько секунд она всматривалась в его лицо, измождённое, как выветренный камень, и всё же в нём ещё теплело что-то человеческое.
Он слабо улыбнулся.
— У вас... руки, как у Луизы. Когда я ещё был ребёнком. До всего этого безумия.
Офелия не ответила сразу. Только протянула руку к чаше и тихо спросила:
— Позволите ли вам предложить немного воды?
Он кивнул. С трудом, но без страха.
Она поднесла чашу к его губам, придержала, пока он сделал один, потом второй глоток. После — тишина, но уже иная, будто сквозь неё проросло нечто живое.
— Простите, мадам, — пробормотал он, — каково ваше имя? Или... вы предпочтёте сохранить его при себе?
Она смотрела на него, не отводя взгляда.
— Я — Офелия Де Голль.
Он выдохнул, будто услышав имя, которое давно знал.
— Тогда... благодарю вас, мадемуазель Де Голль. За ваше молчание... и за ваше присутствие.
Она не ответила сразу. Только мягко кивнула, словно подтверждала: да, она здесь. Да, по собственной воле. Не по долгу, не из жалости, не из страха. Просто потому что остаться — значит быть человеком.
Он отвернулся, взгляд его поблек, но дыхание стало чуть ровнее, будто сам разговор вытянул из него что-то тяжёлое и оставил место для облегчения.
— Вы не боитесь? — прошептал он через несколько секунд.
— Чего именно? — спросила она спокойно.
— Нас, — он сделал паузу, тяжело сглотнул. — Нас, возвращённых с той стороны. Мы... не всегда возвращаемся целыми.
Офелия провела пальцем по краю пододеяльника, словно перебирая чужие воспоминания.
— Бывает, — сказала она тихо, — что человек теряет больше на этом берегу, чем по ту сторону.
Он закрыл глаза. Плечи расслабились.
— Вы слишком мудры для сестры милосердия.
— А вы слишком живы для умирающего, — прозвучало в ответ, и она сама удивилась мягкости, с которой прозвучали эти слова.
На мгновение повисла тишина — почти теплая, почти утешительная.
Но время в госпитале не замирает: за тонкой перегородкой раздался стон, за ним шаги, чей-то зов. Фельдшер поднялась, поправила покрывало, не торопясь.
— Я вернусь позже, — произнесла она, глядя на его лицо, в котором уже снова проявлялась бледность, как налёт на мраморе.
— Мне этого довольно, — прошептал он, — знать, что кто-то... вернётся.
Она кивнула и ушла. Дверь за ней закрылась почти бесшумно, как закрываются страницы, которые ещё рано дочитывать до конца. Офелия направилась в правое крыло, где уже слышались тяжёлые шаги и приглушённые голоса. У стены стоял Бове, сгорбившийся, будто под весом невидимого бремени.
— Там... Жюль, — сказал он, не поднимая глаз. — Снова жар. И хуже, чем был. Он не дышит как прежде.
Она кивнула и вошла в палату.
Жюль лежал, отвернувшись к стене. Лицо его стало тусклым, как выцветшая ткань. Казалось, тело боролось без воли — только инстинктом. Его губы чуть шевелились, но слов не было. Веки дёргались, как у человека, попавшего в плохой сон и не способного проснуться.
— Жюль, — тихо произнесла она, присаживаясь на край койки. — Слышите меня?
Он открыл глаза, тускло, неуверенно. Ресницы дрожали. Рядом стоял солдат-мальчишка, едва достигший двадцати, и сжимал край простыни в пальцах.
— Он звал мать... ночью, — прошептал он. — Мне стало стыдно, что я не знал, что сказать ему.
Офелия кивнула. Она видела это слишком часто, и всё равно, каждый раз будто впервые. Она взяла прохладную воду, смочила ткань, провела по его лбу. Всё, что можно было — было уже сделано. Остальное теперь зависело не от неё.
Он вдохнул. Медленно. Тяжело. И задержал дыхание.
Долгая пауза.
Затем — тишина. Абсолютная, как пустая церковная скамья.
Офелия замерла. Затем наклонилась, приложила пальцы к шее.
Пульс исчез.
Она закрыла ему глаза, ладонью, осторожно.
— Да будет тебе покой, Жюль, — произнесла тихо.
Потом — всё по порядку. Бумаги. Подпись врача. Простыня — до плеч. Руки — сложить.
Лишь когда вышла, в умывальне она долго мыла руки. Дольше, чем нужно. С мылом, горячей водой, с жёсткой щёткой. Но чувство, будто грязь осталась где-то внутри — не уходило.
Она плеснула водой на лицо. Холодно. Протрезвляюще. Но неутешительно.
И тогда, пустая комната. Открытое окно. Воздух тянулся сквозняком, резким, колючим. Она встала у подоконника, прижалась лбом к холодному стеклу. Снаружи медленно тянулись серые облака. Ни солнца. Ни птиц. Только небо, всё одного цвета — цвета простыни на телах, которые больше не дышат.
Закрыв глаза, та позволила ветру коснуться щёк. Они были влажными.
Она не заметила, когда заплакала.
Такой день. Тишина с привкусом соли.