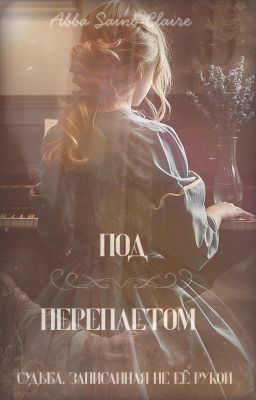2 глава «В доме холодно»
Холод редко приходит один — за ним тянется одиночество, молчание и горький чай.
Офелия проснулась резко, как будто от толчка. Сон растворился в темноте комнаты, оставив после себя только дрожь в руках и глухое, неприятное эхо. Ей снился голос — знакомый и далёкий. Кто-то звал её по имени, как будто из-под воды. Она приподнялась на локтях, глядя в полумрак. Из окна тянуло неприятной слякотью. Камин давно погас, в комнате было стыло и тихо. С улицы донеслось тявканье собаки, потом снова, тишина.
Она села на край кровати, медленно потянулась к пледу, укуталась в него, будто пытаясь спрятаться от самой себя. Из соседней комнаты слышалось дыхание мужа — ровное, тяжёлое. Офелия на мгновение задержала взгляд на двери, потом встала. На кухне царила полумгла. Она раздула угли в очаге, поставила кипятиться воду, и, пока котёл начинал посвистывать, села за деревянный стол с чашкой. Вода была ещё чуть тёплой. На подоконнике лежало письмо — старое, выцветшее, сложенное вчетверо, она хранила его между страниц молитвенника. Молча, как в ритуале, блондинка развернула его.
«Ma chère fille,
Если когда-нибудь тебе будет особенно холодно — вспомни, как ты бегала босиком по саду, а я злился, что снова простудишься. Береги себя.
С любовью,
Папа»
Строчки были простыми, без высоких слов, но от них внутри сжималось всё. Она помнила, как мать дрожащим голосом читала это письмо, полученное уже после похорон. Отец умер от воспаления лёгких, когда в Лионе ещё не гремели пушки. С тех пор не было ни сада, ни босых шагов по траве. Только каменные стены, чужие голоса и холодные вечера.
— Чай стынет, — раздалось из-за спины.
Она вздрогнула. Муж стоял в дверном проёме, полуодетый, растрёпанный, с холодным взглядом.
— Опять ты с этим письмом, — произнёс он ровно, почти вежливо. — Уж не думаешь ли ты, что он был бы доволен, взирая с небес, как ты возишься с этими издохшими псами в лазарете? Дом бы лучше прибрала.
— Утро на дворе, Этьен, — тихо отозвалась она, складывая письмо и пряча его обратно в книгу.
— Утро, — повторил он с насмешкой. — А ты, гляжу, уж как вдова сидишь. Может, и живёшь, как вдова?
Этьен не ответил сразу. Он отвернулся, подошёл к окну и с силой отдёрнул занавеску, впуская в комнату бледное утреннее солнце. Свет упал на её лицо, резкий, как удар. Офелия не шевельнулась.
— Неужто ты снова намерена в госпиталь? — спросил он спустя мгновение, всё ещё глядя на улицу.
— Нет, — произнесла она ровно. — Сегодня... я останусь дома.
Этьен обернулся.
— Не приболела ли? Или совесть проснулась?
Девушка медленно подошла к столу и начала убирать пустую чашку. Руки её двигались спокойно, даже красиво, в этой медлительности была привычка прятать раздражение и страх.
— Просто устала, — сказала она. — День вчера выдался долгим.
— Ха, — коротко усмехнулся он, — не сомневаюсь. Там, поди, и впрямь весело. Кровь, стоны, да взгляды солдат. Тебе ведь это по душе, верно?
— Не тебе судить, — прозвучал её ответ тихо, почти как вздох, но слова висели в воздухе с неожиданной тяжестью.
Мужчина шагнул ближе, но, встретив её спокойный взгляд, лишь пожал плечами.
— Смотри. Только чтоб в доме было чисто. И к вечеру пирог, как в прошлый вторник. Мне нужно, чтоб был. Сегодня же Арно зайдёт.
— Кто?
— Арно дю Манд. Из полка. Помнишь? Он теперь чин имеет. Не глупи, будь приветлива.
Офелия молча кивнула. В груди что-то кольнуло, но она ничего не сказала.
Пока Этьен ушёл в другую комнату, она осталась на кухне. С минуту стояла, держа ладони на столешнице, чувствуя под пальцами холод дерева. Потом взяла ведро и пошла к колодцу, поскольку вода нужна была и на стирку, и на готовку. На улице ещё лежал туман, влажный и пахнущий сырой землёй. Вдалеке уже проезжала телега с соломой, и слышался голос мальчика, гнавшего лошадь. Фельдшер шла медленно, внимая утренним звукам. Она поставила ведро у двери и вернулась в дом. Пирог, значит. Как в прошлый вторник. Только в прошлый вторник ей не приходилось поднимать ложку с таким усилием.
На кухне было прохладно. Огонь в печи угас, оставив после себя лишь пепел и горьковатый запах. Офелия подложила сухие поленья, раздула угли, но пламя всё не хотело загораться. Скатерть криво лежала на столе, в углу ссыпалась мука, и молоко, оставленное с вечера, скисло. Она прибралась, как умела: не торопясь, без лишних движений. Сложила бельё, вытерла пыль, поправила книги в углу. Фи переоделась в платье попроще, повязала платок на голову и сунула в сумочку кошель с мелкими монетами. На прощанье бросила взгляд в зеркало — лицо было уставшим, но собранным. Как всегда.
Этьен уже ушёл, оставив после себя запах дешёвого табака и скомканный платок на стуле.
Офелия захлопнула за собой дверь и спустилась по крыльцу. Улица была уже живая: где-то гремели вёдра, скрипели телеги, соседская девочка прыгала по кругу, распевая что-то про лису и портного. Всё было обычным.
Проходя мимо булочной, голубоглазая остановилась.
— Madame De Gaulle, — поприветствовала её продавщица, пышная вдова в выцветшем чепце, — у вас сегодня такой... задумчивый вид. Всё ли благополучно?
— Вполне, мадам Ламбер. Просто день начался слишком рано.
— Ах, в такое время у всех нас день начинается рано, — сказала вдова, подавая ей буханку. — А вот новости, говорят, нехорошие с юга. Опять Наполеон что-то затеял.
— И когда он не затевал? — спокойно ответила Офелия и достала монеты. — Мне ещё немного яблок, пожалуйста.
— Конечно. Только сладких не осталось — горьковатые, с кислинкой.
— Подойдут, — кивнула она.
Мадам Ламбер уже тянулась за яблоками, когда за её спиной раздался голос:
— Вот и вы, мадам Де Голль. А я всё жду, когда вы снова появитесь.
Офелия обернулась. Это была госпожа Ривуар, вдова лавочника, с острыми глазами и вечно поджатыми губами. Она держала в руках корзинку с яйцами и, как всегда, искала повод начать разговор.
— Доброе утро, мадам, — спокойно ответила Офелия.
— Утро, говорите? Ха! А вы слышали, что говорят про бригаду с юга? Прямо к нам, к Лиону, скоро дотянется. Всё полонье госпиталя будет.
— Молитесь, чтоб мимо, — вставила мадам Ламбер, перекладывая булки.
— Да что молиться, — продолжала Ривуар, не слушая. — Молятся те, кто может сидеть дома и варить бульоны, а не те, кто по раненым лазит. Вы уж простите, мадам Де Голль, но всё-таки вы не из простых. Ваш батюшка был уважаемым человеком, пусть земля ему будет пухом.
Офелия почувствовала, как у неё напряглась челюсть. Но она не ответила, только кивнула и опустила взгляд в корзину.
— Уж не знаю, чем вы там себя тешите среди этих... мужчин, — продолжала вдова. — А мне так кажется, женщине пристало быть дома. Мужа ублажать, детей растить. А не шить кожу на живых людях.
— Позвольте, — сказала вдруг мадам Ламбер, хлопнув ладонью по прилавку. — Женщинам нынче везде место. Мужчин-то у нас скоро не останется, всех на фронт.
— Вот именно, — сухо добавила Офелия. — А кто их бинтовать будет? Вы?
Ривуар осеклась. От неожиданности прикусила язык.
Но девушка не ждала ответа. Она поблагодарила за яблоки, расплатилась и, пожелав доброго дня, направилась к выходу. На площади у городских ворот стояли раненые солдаты, которых собирали на отправку в другие части, лица их были бледными и уставшими, а на стенах появилась новая надпись — «Хлеб и порох — наш удел». Офелия задержалась ненадолго, бросив взгляд на надпись. Кто-то уже пытался стереть её мокрой тряпкой, но буквы всё ещё проступали. Прохожие спешили, ссутулившись и опустив головы. Кто-то тащил мешок с мукой, а кто-то молчаливо перешёптывался. Воздух был тяжёл, как перед грозой. Даже церковные колокола, ударившие где-то неподалёку, прозвучали глухо, будто застыли вместе со всеми.
Проходя мимо солдат, Фи невольно замедлила шаг. Один из них — бородатый, с перевязанной рукой, проводил её взглядом и кивнул в знак приветствия. Она едва заметно кивнула в ответ и ускорила шаг.
— Мадам... — окликнул её кто-то сзади.
Де Голль обернулась. К ней подходил Пьер, старик-сапожник с соседней улицы.
— Видели, кого опять рекрутируют? Мальчишек четырнадцати лет... Младший сын моей кузины в списках.
Девушка сжала губы, а затем тихо проговорила:
— Войне нет дела до возраста. Лишь бы мундир заполнили.
— Пусть бы готовились подальше от наших улиц, — глухо сказал он и пошёл прочь, качая головой.
Офелия продолжила путь. На углу очередной квартальной стены кто-то приколотил пожелтевший приказ: «Каждая семья обязана сдать по одному мужчине на нужды армии». Когда та вернулась домой, внутри было тихо. Сняв плащ, она быстро и без слов принялась за привычные дела, почти машинально. Чайник, печка, пирог.
Уже под вечер, когда день начал клониться к сумеркам, дверь скрипнула, и в прихожей послышались шаги. Сначала тяжёлые, узнаваемые — Этьен. Затем другие, более лёгкие и размеренные.
— Мадам, вечер добрый, — раздался вкрадчивый голос, и в дверях кухни появился Арно дю Манд, с вежливой полуулыбкой, сжимая в руке шляпу.
Де Голль, уже стянув перчатки, хмыкнул:
— Как видишь, я привёл гостя. Всё как договаривались.
Офелия вытерла руки о фартук и кивнула:
— Пирог готов. Присаживайтесь.
Арно сделал учтивый жест, проходя к столу:
— Какой аромат, мадам. Вас стоит приглашать не только за компанию, но и за мастерство.
— Прошу, — сухо ответила она, подавая тарелки.
Этьен хлопнул мужчину по плечу и налил вина:
— Ты бы видел, как она молчит. Ни одного слова с утра, будто воздух экономит.
Арно усмехнулся:
— А мне кажется, мадам просто знает, что слово — это вещь дорогая. Сейчас редкость.
Офелия села на краешек стула, не поднимая глаз. Пирог источал ванильный запах, а свечи потрескивали в подсвечнике.
— Значит, вы теперь чин имеете, месье дю Манд? — произнесла она.
— Небольшой, но обязывает, — ответил он, не сводя с неё взгляда. — Мы теперь, как говорится, на виду. И потому, с новыми обязанностями.
Он сделал глоток вина и откинулся на спинку стула.
— В том числе и наблюдение. За порядком. За домами. За тем, кто как живёт... кто с кем говорит.
Этьен хмыкнул, занося вилку к губам:
— Что я и говорил. Арно теперь не просто солдат. Половина квартала перед ним шаркает.
Офелия подняла глаза, прямо на Арно. В его взгляде была изучающая, почти охотничья прищуренность. Они ели молча, только стуки посуды и редкие фразы Этьена нарушали тишину. Арно ел медленно, вежливо, как человек, привыкший к трапезам среди чужих домов. Он был вежлив. А потом, откинувшись назад и вытерев губы салфеткой, вдруг проговорил:
— Говорят, мадам играет. Играет прекрасно. У вас ведь пианино?
Светловолосая вздрогнула. Она не ответила сразу.
— Играла, — бросил муж, усмехнувшись. — Когда ещё была способна на такие прихоти. Поиграй, Офелия, чего тебе стоит? Ужин удался, пусть и вечер не будет хуже.
Она хотела отказаться. Сказать, что руки устали, что давно не садилась, но слова застряли в горле. Она встала и молча подошла к пианино в гостиной. Крышка захлопнулась с глухим звуком. Пальцы дрогнули на клавишах и словно сами начали двигаться. Мелодия рождалась из тишины, мягкая, неровная. Сначала минорное вступление. Знакомое и старое. Песня, которую она когда-то играла родителям. Они смеялись, когда слышали её, говорили, что она звучит, как весна на выдохе.
Она играла, и перед глазами встал не тёмный зал и не строгие лица мужчин, а уютный дом из детства. Раннее утро. Родители сидели за столом, беззаботно болтая и смеясь. Она моргнула, и дом тут же исчез. Перед ней гостиная, тусклый свет, настороженный взгляд Арно и недовольная скука мужа.
Звук стих. Она замерла, не поднимая рук с клавиш.
— Чудесно, — сказал Арно. — Как из далёкого времени. Даже не верится, что такое можно услышать сейчас.
Она ничего не ответила. Только закрыла крышку пианино и обернулась.
— Прошу простить, но мне нужно немного отойти. — она не ждала вопросов и, не оглядываясь, вышла из комнаты.
Мадам ступила в коридор, где воздух казался плотнее. Внезапно охватившая её легкая меланхолия уступила место неразборчивым мыслям. Не спеша, Де Голль подошла к окну и посмотрела на улицу. Вдали слышался тихий гул. Она глубоко вздохнула и, оставшись наедине с этим мгновением, позволила себе на минуту забыть о суете и заботах.
«Пусть хотя бы этот вечер будет тихим». — промелькнула мысль в её голове.