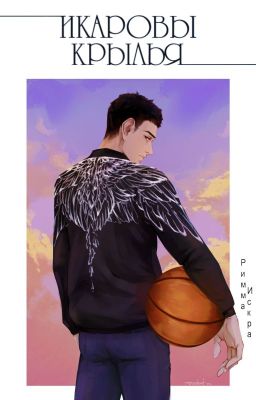Глава 38. Пионеры
– Красивый сегодня закат, правда? Как будто бесконечный.
Над чёрной зубчатой грядой леса разлилась нежно-розовая дымка. Небо оставалось светлым, почти как днём, хотя время близилось к полуночи, а солнце скрылось за вздымавшимися над водой островами.
Миша с Серёжей снова сидели на вёслах, Юля – на носу. Несколько лодок маячили впереди, ещё две шли ближе к берегу позади. Водная гладь оставалась спокойной, ночь – тихой и тёплой, и дышалось особенно легко.
Миша никогда прежде не видел море таким. Собственно говоря, до этого года он вообще не бывал на море и теперь старался впитать в себя каждый его запах, запомнить каждый оттенок. Миша вслушивался в плеск вёсел, далёкие голоса, разносившиеся над водой, а за ним самим пристально наблюдали оставшиеся над бухтой спящие дома и постепенно растворяющаяся в светлом сумраке опустевшая пристань.
Этой ночью они отправились в заброшенное селение, основанное когда-то в месте впадения реки в море. С тех самых пор оно звалось Выретью*.
Времена, когда Выреть была процветающим торговым и экономическим центром, давно канули в Лету. Теперь о прежнем величии напоминали лишь опустелые здания, раскиданные по берегу реки.
Со станционной пристани село разглядеть было трудно, а устье реки и вовсе скрывали поросшие лесом острова. Сейчас же, когда лодки всё более и более отдалялись от бухты, очертания Вырети, напротив, проступали чётче. Покинутые постройки темнели среди высокой травы. От Вырети веяло тайнами и пыльной древностью, и Мише вдруг пришла в голову странная мысль.
– Вы читали Рыбакова? – спросил он, бросив за спину короткий взгляд. – Мне кажется, здесь вполне могла бы стоять усадьба какого-нибудь Карагаева. Биологическая станция – это что-то вроде пионерского лагеря. А Выреть – чем не наследие ушедшей эпохи с кладом, спрятанным под могильной плитой на одиноком утёсе?
– Рыбаков... Это ты про "Кортик", да? – откликнулась с носа Юля.
– Про "Бронзовую птицу", если быть точным. Хотя по духу, пожалуй, подходит и "Кортик".
Юля чуть приоткрыла рот, закивала.
– А-а-а, точно, "Кортик" ревско-московский! А усадьба и Халзин луг – это уже из "Птицы".
– Круто, конечно, что вы друг друга поняли, но нас тут вообще-то трое, – наконец напомнил о себе Серёжа. – И лично я впервые слышу про этого вашего... Рыбакова.
– Если говорить совсем общо, это такой советский писатель, – пояснил Миша. – Анатолий Рыбаков. А одни из самых известных его произведений – это как раз "Кортик" и "Бронзовая птица". И ещё "Выстрел", пожалуй, последняя часть трилогии**. Их многие знают благодаря фильмам.
– Да-да, – подхватила Юля. – Я их обожала в детстве. Там места такие атмосферные! И песни хорошие. До сих пор помню: "Ты гори, гори, мой костёр, мой товарищ, мой друг, мой попутчик"... – Юля произнесла это просто, даже не нараспев, и неловко кашлянула в кулак. – Я бы спела, но у меня плохо получается.
– Да ладно, у нас весь Медвежий уже поёт, – фыркнул Серёжа. – Хотя у половины ни слуха, ни голоса.
– Тут главное не умение, а желание, – согласился Миша.
– Ну, моё желание закончилось вместе с уроками музыки, – со смехом призналась Юля. И, помолчав, добавила: – Кстати, а ведь в "Бронзовой птице" главных героев было трое. Как и нас.
Серёжа хмыкнул.
– Подумаешь! Мушкетёров вон тоже трое было.
– Любишь романы Дюма? – спросил Миша.
Он сидел к Серёже спиной и лица его видеть не мог, но, когда Серёжа заговорил, голос его прозвучал как будто менее уверенно:
– Я фильм смотрел. Ну, этот, с Боярским...
– Серёж, вот ты говоришь, мушкетёров было трое. А как же д'Артаньян? – задумчиво поинтересовалась Юля.
– А наш д'Артаньян в Италии, – с мрачной усмешкой отозвался тот. – Гуляет на чужие деньги и морально разлагается.
Пристань у Вырети отсутствовала: старая давно сгнила, а новую строить было некому и незачем. Лодки привязали к камням на усыпанном водорослями берегу.
– Ребята, собираемся, – чуть повысив голос, обратилась ко всем Степаненко. – Все здесь? – дождавшись согласного мычания, она продолжила. – Так, по кустам не бегаем, от группы стараемся не отставать, доски на память не отдираем и не шумим. Дома почти все пустые, но здесь, на берегу, как раз есть несколько жилых.
Процессия тронулась в сторону домика с резным очельем и перилами балкона. И тут с берега донёсся пронзительный визг.
– Это что за дрянь?! – заверещала Оля, отшатнувшись от чего-то в полосе прибоя. Таким звонким голосом, как у неё, пожалуй, не мог похвастаться больше никто на острове.
– Это всего-навсего медуза, – успокоила её Света, лишь мельком глянув на полупрозрачный зонтик с бахромой мелких щупалец по краю и ротовыми лопастями, напоминавшими полоски тюля, по центру. Безвольное тело медузы колыхалось в воде у берега.
– Не ори, дура. Сказали же, тут люди есть, – гораздо менее миролюбиво прибавил кто-то.
От берега тропа карабкалась в горку и сворачивала влево. Там, за стеной кустарника, высилось двухэтажное строение с забитыми окнами. В паре метров над землёй висела забитая же досками наискось дверь, к которой не вела лестница.
– Выреть в своё время была крупным портом. Здесь останавливались шедшие по торговому пути суда, – рассказывала Степаненко. – Как вы считаете, что за здание такое могло находиться в порту?
– Тюрьма? – живо предположил кто-то.
По группе пробежали смешки.
– Тюрьма – это, конечно, важно, – признала Степаненко, – но на самом деле здесь раньше была таможня.
– Прозаичненько, – шёпотом прокомментировала Оля где-то в полумраке.
Особенный восторг у многих вызвало неожиданное открытие, поджидавшее за следующим поворотом.
– Здесь что... и машины есть?
Асфальтированный пятачок расположился над заброшенной таможней, где заканчивалась тропа. Парковка была заставлена автомобилями с номерными знаками разных регионов. Нашлось среди них и несколько карельских "десяток".
После проведённых на острове дней даже самые обычные машины с забрызганными грязью боками представлялись чем-то не от мира сего.
– Как я и говорила, некоторые дома жилые, – сказала Степаненко. – Но хозяева, конечно, почти круглый год проводят в других посёлках, в городах, а сюда приезжают редко.
От парковки начиналась просёлочная ухабистая дорога. С неё открывался вид на лежавшее ниже село и реку. В сумраке летней ночи Выреть выглядела печально: покосившиеся безжизненные дома, ощетинившиеся отставшими досками, какие-то обломки, две колеи с размытыми травой очертаниями, заросли иван-чая.
– Выреть горела трижды, – поведала грустную историю селения Степаненко. – Последний пожар был самым сильным, и после него уже ничего восстанавливать не стали. С тех пор люди её и начали покидать...
– Такое название странное – "Выреть"... – пробормотал Серёжа.
– В Карелии таких много, – заверил его Миша. Он старался говорить негромко, чтобы не мешать другим слушать Степаненко. – В большинстве случаев топонимы напрямую связаны с местностью... или с фауной. Знаешь, например, что значит "Куркиёки"?
– Не знаю, но звучит как ругательство.
Миша тихо рассмеялся.
– Это значит "журавлиная река". Собственно, "йоки" и переводится как "река". В Карелии немало названий с таким окончанием.
– Всё-то ты знаешь... – вздохнул Серёжа. – Даже противно.
– На самом деле, я не знаю многого. Например, не имею ни малейшего понятия о том, каковы корни слова "Выреть". Но, думаю, это тоже как-то связано с рекой. Всё-таки если бы не она, о Вырети вряд ли бы кто услышал.
Над селом повис месяц – бледный серп на фоне бледного неба. Дул лёгкий ветер, по траве, как по морю, бежали волны. Шумела несущая по каменистому руслу воды река.
– Поворачиваем, – скомандовала Степаненко. – Заглянем на кладбище. Это, пожалуй, одно из самых старых мест в селе. Первые памятники появились там тогда, когда Выреть ещё была крупным поселением, хотя и утратила былую значимость.
– Ну да, на Медвежьем врача нет, так мы сразу на кладбище... – вполголоса произнёс кто-то.
Рядом раздались смешки, которые, впрочем, быстро смолкли. Мёртвое селение призывало к тишине. Миша остро это ощущал, и, возможно, остальные испытывали нечто похожее.
У реки стоял покосившийся крест из металлических прутьев. На фоне расцвеченного бесконечным закатом неба он казался чёрным. Рядом, в окружении раскидистого борщевика, притулилась маленькая бревенчатая часовня.
– Старая сгорела при пожаре, – сказала Степаненко. – Это новодел, построили в конце прошлого века.
В стороне от часовни над травой возвышался небольшой холм, поросший осиной. Указав на рощу, Степаненко объявила:
– Вот мы и пришли. Кладбище само по себе старое, но рощи это не касается. Осиной всё засадили намного позже, чем оно начало функционировать.
– Смотрите, смотрите! – зазвенел у самого берега Олин голос.
Вокруг неё тут же собралась толпа, послышались неразборчивые комментарии и хихиканье.
– Оле сегодня везёт на всякую дохлую дрянь, – усмехнулся Серёжа, заглянув Свете через плечо.
– Что там случилось? – спросил Миша. Ему не хотелось проталкиваться к предмету обсуждения, но оставаться в стороне от всеобщего оживления было сложно.
– Швечикова нашла череп. Огромный такой, грязный череп. И, как ни странно, она в полном восторге.
Оля и впрямь была необычайно горда находкой. Её лицо буквально светилось.
Однако клад достался вовсе не тому, кто его обнаружил. Весь остаток ночи в обнимку с черепом проходил Юра, пристроивший его на обратном пути на носу лодки, точно своеобразную гальюнную фигуру.
– Вы знаете, как обрабатывать черепа? – резонно поинтересовалась Степаненко.
– Никогда этим не занимался, но что-нибудь придумаю, – не растерялся Юра. – Если что, у Михи спрошу, он-то уж наверняка знает.
Степаненко с улыбкой покачала головой.
– А Вы, Миша, действительно знаете?
Миша, потупившись, пожал плечами.
– В ЭБЦ об этом кое-что рассказывали, но я, честно говоря, так с ходу и не вспомню подробностей...
– Так Вы занимаетесь на Крестовском? – ухватилась за его слова Степаненко. – Какое направление выбрали?
– Я попал туда лишь в конце прошлого учебного года. В группу подготовки к олимпиаде.
Степаненко понимающе кивнула.
– А поступать куда собираетесь? К нам на биофак или в Павлова***?
– Я пока не решил, – ответил Миша, бессознательно теребя амулет на шнурке. – Но, наверное, на биофак.
– Тогда удачи Вам, молодой человек, – добродушно ответила Степаненко. – Надеюсь однажды увидеть Вас здесь уже в качестве студента.
Миша постарался выдавить из себя вежливую улыбку.
– Спасибо...
Под сенью осиновой рощи царила настоящая ночь, тёмная и молчаливая. У кого-то с собой был фонарик, и луч его белёсого света скользил по стройным стволам, тонкой чугунной ограде, массивным надгробиям, возвышавшимся за ней.
– Здесь похоронены те, кто сыграл важную роль в истории Вырети. Родственники некоторых из них до недавних пор поддерживали с селом связь. Последний из Савиных, например, занимался разведением рыбы, основал здесь рыбное хозяйство. Так как Выреть стоит на реке, рыба была одним из основных товаров и продуктов питания. Раньше река была разделена на тони, закреплённые за отдельными владельцами. Это участки побережья с акваторией, где вёлся лов рыбы. Кстати, кто знает, рыбы какого вида преобладают в Вырети?
– Селёдка? – бодро выкрикнул мальчишеский голос. – Одну я точно видел.
Ответом ему послужили скупые смешки.
– Не угадали, – серьёзно заявила Степаненко. Она, естественно, не входила в узкий круг осведомлённых лиц, которым шутка была понятна. – На самом деле это сёмга.
Кладбище молниями озаряли вспышки телефонов. Только благодаря им удалось прочитать выбитые на двух памятниках надписи – с дореволюционным твёрдым знаком в конце слов и чёрным налётом лишайника.
Выбравшись из сумрака осиновой рощи, группа продолжила путь. Чуть выше по течению, где сбегавшая к морю река ускорялась и бурлила на порогах, Степаненко предложила желающим спуститься к воде. Часть ребят сразу разбрелась по дороге, болтая громко впервые за вечер. Берега в этом месте были невысокие, но крутые, поросшие черничником и мхом. Идея лезть вниз, рискуя свернуть шею, воодушевляла не всех.
Серёжа решил не ввязываться в авантюры со своим настрадавшимся коленом. Миша же, дождавшись, пока до узкой площадки внизу доберётся ставшая первопроходцем Света – она сделала это быстро и ловко, лавируя между валунами, придерживаясь за хрупкие стволы молодых деревец, – начал спускаться следом. Однако ему повезло меньше. Подошва сапога поехала на мху – Миша потерял равновесие и покатился по склону, не найдя, за что ухватиться. Лишь в каком-то полуметре от земли ему удалось уцепиться за прочный узловатый корень.
Отряхнувшись от налипших во время экстренного спуска хвоинок и прошлогодних листьев, Миша остановился у самого уреза.
Пенящийся поток обладал каким-то гипнотическим эффектом, завораживал, приковывал к себе взгляд. В клокотании его мерещилось нечто будоражащее и вместе с тем успокоительное.
Юра, в высоченных рыбацких сапогах, осторожно уложил на мох коровий череп с обломанными рогами и полез в воду.
– Юра, вылезайте! – крикнула сверху Степаненко.
– Я далеко не отхожу! – отозвался Юра. – Я только тут, у берега! Чёрт, а течение сильное, – добавил он уже тише, чтобы не разобрать было с дороги. – Реально снести может.
На обратном пути обошлось без казусов и необычных находок. Правда, огибая заброшенное село поверху, группа почти на четверть часа зависла на усыпанном камнями участке у обочины.
– В Вырети не только разводили рыбу, но и добывали так называемый мусковит, – вновь взяла слово Степаненко. – Это одна из разновидностей слюды, такой слоистый минерал. Приглядитесь, её здесь много. Она блестит, как стекло. Видите?
Разумеется, теперь трудно было найти в группе человека, согласного отправиться домой без добычи. Ребята перебирали камни, не теряя надежды найти кусок слюды побольше и поровнее. Миша пристально наблюдал за ними, почему-то не решаясь присоединиться к общей возне. Серёжа пару минут простоял рядом с ним, потом медленно двинулся по заваленному щебнем пятачку, глядя под ноги. Через пару метров присел на корточки, как будто что-то поднял с земли и повертел в руках. Вернулся к Мише.
– На, – бросил Серёжа, протягивая ему аккуратную стопку слюдяных пластинок размером с два спичечных коробка.
– Что это? – растерялся Миша.
Серёжа передёрнул плечами.
– Ну, в смысле "что"? Мусковит этот вроде, не?
– Да, вижу, что мусковит... Почему ты отдаёшь его мне?
– Мне-то он на кой чёрт?
– Неужели не хочешь сохранить что-нибудь на память о Вырети?
Серёжа ухмыльнулся.
– Не хватало ещё всякие булыжники в Питер тащить...
Мусковит легко крошился, и, чтобы его не повредить, Миша завернул находку в бумажный носовой платок.
– В каждом человеке живёт кладоискатель, – высказалась по этому поводу тоже прихватившая несколько кусочков слюды Юля, уже сидя на носу отходящей от берега лодки.
Миша был с ней полностью солидарен.
* В тексте описывается реальное село, однако название его изменено. Альтернативное название, "Выреть", созвучно с настоящим и отсылает к словам "вырить", то есть "бурлить" или "нашёптывать, наговаривать", и "выркий" – "быстрый", "быстротекущий".
** Трилогия Рыбакова повествует о приключениях трёх лучших друзей, Миши, Генки и Славы, в России 1920-х годов. Вместе они раскрывают тайну кортика, принадлежавшего погибшему на взорвавшемся линкоре офицеру, бронзовой статуи птицы в бывшем помещичьем доме и, наконец, находят виновного в убийстве инженера.
*** Имеется в виду Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова.