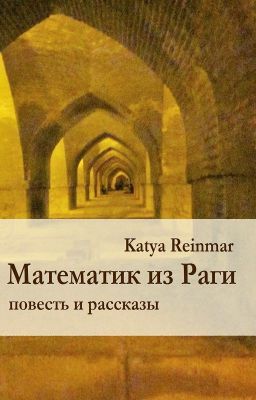История цыганской девочки
Тётушка Марджан, удивительно похожая на женщину с грозного плаката времён войны, каждый вечер повторяла Лале: не разговаривай с цыганами.
- И вообще ни с кем, кто бродит, не разговаривай, - грозила она. - Бродит по свету одно зло. А добру зачем бродить?
После этого она обычно начинала рассказывать о древней вере их предков-зороастрийцев, которые любили звёзды за постоянство и не любили планеты — за их непонятное движение. Земля, конечно, планетой не считалась.
Цыгане действительно могли пройти каким-нибудь тихим вечером у самых ворот их дома. С ними были коровы. Они с мычанием плыли в сторону поля, позванивая своими колокольчиками. И была песенка: «Тонкий рожок луны, месяц молочный, коровий рог»... А за полем росли жёлтые кувшинки — те, что пахнут как лотосы.
Никогда не разговаривай с цыганами, говорила тётушка. Не смотри на них, пугала она. И, помолчав, обязательно добавляла: даже думать о них не надо.
Она боялась тех, кто кочует. Боялась слепо, бездумно. Словно они были злыми духами или существами вроде дивов. Лале любила тётушку и доверяла ей, единственной во всём семействе. А тётушка рассказывала обо всём: о хмурых людях севера, о пустынях и первых пророках — но только не о прошлом их семьи. И не о своём прошлом. Тогда Лале думала, что в её прошлом просто-напросто ничего не было. А позже поняла, что там могло быть что угодно.
Каждый вечер тётушка Марджан читала одно и то же стихотворение. Она повторяла его как молитву. И точно так же, как деревенские люди делают ошибки в молитвах, не понимая порой даже их смысла, читала стихи и она. Читала на том чарующе-страшном, древнем, чужом наречии, на котором они были когда-то сложены. А Лале даже не задумывалась о том, как и почему их понимает. Ей не было и десяти лет, и она не знала ещё ни одного чужого языка. Но она каким-то образом понимала тётушкины стихи. Про финиковые пальмы. Про человека в колодце, толковавшего сны. Про пчёл...
Помнила она и двух высоких людей, похожих на оборванных дервишей. Только они были чужестранцами. В те годы, до революции, к ним часто наведывались путешественники в надежде обнаружить неведомые Западу чудеса. Эти двое носили верёвочки вокруг головы, приходили в восторг от вида цветущих маковых полей и никогда не стригли волос. Они угощали детей своими чудными шоколадками, привезёнными с родины (Лале разглядела красную эмблему с короной). А однажды вручили Лале книгу на неизвестном языке. Тётушка пришла в великое волнение (злиться по-настоящему она не умела) и, пригрозив непонятно кому адским пламенем, вышвырнула подарок вон. Лале так и не узнала, что было в той книге.
Ещё у Лале был дядя, но она совсем не помнила его молодым. Он был так стар, что слышал уже не ушами, а одними костями. Соседи шептались, будто дядя ещё при жизни передал весь свой слух Лале.
Она часто изумлялась тому, сколько предсказал дядя прежде чем ушёл под серый камень. Дядя говорил о пустынях, в которых годами и десятилетиями молчат останки танков, занесённые песком и пылью. Разрисованные не то детьми, не то безвестным полубезумным бродягой, они становятся кораблями тех, кто никогда не видел моря, их космическими ракетами (они ведь знают звёзды лучше всех, эти дети песков). Дядя видел, как дети играют среди них, точнее — среди того, во что они превращаются, среди их рёбер, среди их иссушенных горячим ветром крыльев...
На стенах у дяди висели старые доски, все в меле. А по полу были разбросаны скелетики винограда, круглые пиалы с засохшими чаинками и бумаги: рисунки и какие-то загадочные каракули. Дядя повторял, что счастье спрятано в четырёх элементах: летний вечер, пластинка, которую любишь, но ещё не успел заслушать до дыр, книга про далёкие страны и барбарисовое вино. И что каждый из этих элементов так прекрасен, что достаточно будет любых трёх. Перед сном он обыкновенно заключал, что одно опьянение никогда не похоже на другое и клялся не стричь волос, пока не закончит свой труд. Когда у него ничего не получалось и работа вставала, он шептал, что настанет день, когда ресницы его от кровавых слёз станут кораллами. И ставил очередную пластинку - чтобы слушать костями.
Дядя любил рассказывать о людях, нашедших в пустыне спёкшееся на солнце тысячелетнее вино и не побоявшихся его попробовать. Им стало казаться, что они читают мысли друг друга, и они обезумели от ужаса. И о влюблённом, годами искавшем лицо своей возлюбленной на всех картинах, когда-либо написанных человеческой рукой. И о женщинах, в чьи губы намертво въедается ядовитый алый сок, и которые с тех пор никого не целуют.
А по вечерам тётушка Марджан усаживалась на крыльцо и говорила, а Лале слушала. Тётушка рассказывала, что в городе (городом у них называли Рагу) она видела музей. В самом этом слове Лале слышалось что-то жуткое. Змеиная музыка, мучение змей... И оттого тётушка, заходившая внутрь этого таинственного здания, казалась ей отчаянной и храброй. Она почти боготворила её за это бесстрашие.
И ей хотелось поскорее заполнить собственную память – книгу, в которой половина листов была покрыта царапинами, ожогами и маргиналиями, а вторая половина пустовала – тем, чего никогда не было и не могло быть.
*
Тонкая как тростник и с губами как зёрнышко граната, Лале с детства была убеждена, что она уродлива.
Даже прекрасно сделанные снимки в лучших платьях (однажды дядя с гордостью привёз из Раги настоящий фотоаппарат) не убеждали её в обратном. Даже восторги редких гостей и любезности обходительных путешественников не могли ничего изменить. Чужестранцы в один голос пророчили Лале вереницу женихов со всей страны, но всё было напрасно: от их слов не было толку.
Лале всегда мечтала сыграть великую роль в великой жизни. Но люди вокруг неё уже давно растеряли всякое величие. О том, как жили их предки, похожие на богов, они забыли поколения, века назад. Теперь их наполнял один лишь страх. Они были уверены, что заслуживают только уродства. У них не было праздников. Они никогда не смеялись и не шутили. Они жили, говорили и вели себя невозможно серьёзно, каменно, строго - и потому любой росток смелой мысли начинал казаться в их мире нелепой мишенью, в которую следует плюнуть, а затем растоптать.
И потому Лале в одиночестве наблюдала за своими ростками, которые могли бы разрастись в дикие леса, в настоящие джунгли, такие опасные, что через них ходят только редкие смельчаки, загорелые искатели приключений с острыми ножами и в пробковых шлемах... Джунгли, где прячутся животные и ядовитые змеи, и птицы, и невиданные гигантские насекомые. Джунгли, которые оживают после заката, при звёздах и огромной жёлтой луне...
Но для людей её городка всё это было немыслимо.
Люди новизны и храбрости вызывали в них не трепет, не восхищение и даже не зависть, в какой трудно бывает признаться. Они вызывали только гримасу и прикрытое ладонью лицо. Они вызывали неловкий суеверный жест. Осуждение и страх. Страх стать неправильными и получить за это неизвестное - и потому особенно страшное - наказание.
В городке Лале никто не складывал песен, не слагал стихов. Люди эти боялись остаться в памяти внуков ничтожными и смехотворными, боялись, что молва сохранит их трусливые поступки и непринятые решения. Счастливейшим из людей они почитали того, после кого не оставалось ни единого воспоминания. Того же, кто пытался сделать на своём веку хоть что-нибудь стоящее, они считали сумасшедшим, собственными руками привязывающим себя к позорному столбу. А это, полагали они – глупость и более ничего.
Люди эти были очень хороши, очень правильны – точнее, были тем, что обыкновенно подразумевается под словами «хороший и правильный человек». Но вовсе не потому, что были добры, великодушны, щедры или готовы на подвиг. Нет! Они были просто трусливы. Они боялись всего на свете. Они верили, что со всех сторон окружены бедой. Готовы были видеть в каждом самое дурное и опасное. За пределами города – зло. За пределами страны – геенна. Всякий незнакомец – посланник шайтана в невинном обличье, в лучшем случае – лазутчик соседнего государства. Чужестранец – враг и джинн. Всякая новость – ложь и обман... Для чего же тогда они жили? Жили они хотя бы потому, что боялись умирать. Некоторые из них на смертном одре сходили от этого страха с ума или опускались до постыднейших унижений. А ещё они жили по традиции: ведь жили же их предки. Значит, так было нужно.
Лале чувствовала себя красивой только в редких одиноких мечтах, а среди людей будто начинала дурнеть. Но и когда она уединялась с книгой, её не оставляли в покое надолго. Появлялись чьи-то лица, упрекали её в старомодности (словно это было чем-то дурным), приводили в пример других, пустых и легкомысленных девиц, любительниц глупых сборищ – девиц с острыми, не испорченными чтением глазами. Тогда Лале чувствовала себя старой и отвратительной, хуже всех в своём окружении, хуже всех в мире. Она не могла видеть своего прелестного лица (зеркал в их доме не было), но хорошо слышала свою безобразно и неудобно одетую, нелепую, несчастную душу.
Листая книги о юных девушках, Лале была уверена, что читает о волшебных созданиях, совсем не похожих на неё. О прекрасных пери, с которыми она не имеет ничего общего. Только с ними могли происходить чудеса – но никак не с ней, уродиной и самозванкой. Каждая из них была хороша – но только не Лале.
Закатившиеся глаза и скривившиеся рты – таковы были первые движения людей вокруг, когда они понимали, что Лале снова что-то пишет в своих тетрадках. А Лале, открывая тетради, всякий раз чувствовала, что приближается к истине и вместе с тем безнадёжно от неё уходит. Для них её дневники были глупостью и срамом. Бесполые души, срамом они ханжески называли даже сокровеннейшие уголки мужских и женских тел. Они величали себя приличными людьми, но за приличием их стояло лишь невежество да нервный смешок.
Они не читали книг, считая, что в них - сплошь опасная галиматья, способная сбить их с толку, оконфузить, выставить болванами. И что сила и истинный ум – в том, чтобы этому противостоять. Они постоянно пребывали в тревожном, суетливом состоянии, полагая, что только так и можно держать жизнь в своих руках. А вот задумчивый, молчаливый, чуть рассеянный вид, в котором они чаще всего наблюдали Лале, считался у них проявлением не то слабости, не то глупости, не то того, что они с неприязнью называли «неготовностью жить». Печаль Лале злила их: они считали её проявлением гордыни и неучтивости. Почтительная девочка, верили они, всегда будет улыбаться в их обществе и не позволит себе роскоши уныния.
Большинство людей в городке умело читать и писать. Но все как один считали почему-то, что писать без ошибок – дурной тон, ненужная рисовка и довольно раздражающая поза. В письмах они нарочно не ставили половину запятых, а о существовании двоеточия как будто решили навсегда забыть, как о позоре. Разговаривая, они делали вид, что спотыкаются на длинных словах вроде «железнодорожный». Это, как им представлялось, делало их чище и лучше. Письма же грамотные, написанные изящным почерком и приятно пахнущие они зло высмеивали.
Люди городка ели быстро. Они громко и торопливо проглатывали плохо пережёванные куски, словно испытывали вину за то, что имели к столу что-то вкусное. Они стряпали простые, почти варварские блюда и на все лады переиначивали названия тонких иноземных кушаний. Свою еду они нарочно, с виноватой улыбкой называли грубыми, тошнотворными словами: лубочно-рифмованными, насмешливыми, обезображивавшими и еду, и их самих. Однажды, когда Лале попыталась ножом и вилкой разделить на аккуратные части пугавший её кусок мяса, плававший на тарелке в желтоватой луже жира (остальные ели как придётся, руками и зубами), всё общество поглядело на неё такими глазами, что ей стало не по себе.
Разборчивость – вот что более всего осуждали её земляки.
Неразборчивость – вот что они более всего ценили и чему учили своих детей.
Одним из главных человеческих достоинств они почитали неприхотливость, не понимая, что она есть второе имя грубости и глухости чувств. А вот людей чутких к малейшим нарушениям гармонии, людей, наделённых острейшим внутренним зрением, они называли с презрением «капризными» и считали почему-то слабыми.
Они путали невинность с невежественностью, а страдание – с мудростью. Знания Лале о морях, звёздах и далёких странах, о музыке и стихах – все эти знания не значили в их глазах ничего, не имели для них смысла, ничего не стоили. Лале оставалась для них всего лишь несведущей и довольно непривлекательной чудачкой.
Лале постоянно чувствовала уродство, растущее вокруг неё и внутри неё. А когда она находилась в подобном обществе достаточно долго, она начинала всем сердцем ненавидеть саму себя, веря, что уродлива – одна она.
Её окружение с презрением и деланым непониманием отзывалось о её одинокой привычке писать по вечерам изящные рифмованные отрывки. Ей говорили, что настоящие мужчины занимаются лошадьми, оружием, грубыми песнями и оглушительным поеданием мяса, а настоящие женщины – искусством всегда быть предметом молвы и любой ценой прельщать этих самых мужчин. Лале к таким женщинам не относилась. И потому каждая улица, каждая стена с утра до ночи напоминала ей: ты дурная женщина, ты неудачная женщина, ты не женщина вовсе и никогда ею не будешь. И ни один мужчина, кроме твоего сурового седобрового дяди, никогда тебя не полюбит.
Когда Лале случалось подслушать из чьего-нибудь окна одну из глупейших, десятками сочиняемых в те годы любовных песенок («Люблю её – она моя весна!», «Ты – солнце и луна, души моей отрада!» и прочее в том же духе), она только незаметно глотала слёзы, в отчаянии думая про себя, что никто и никогда не споёт ей ничего подобного. Ничего, даже отдалённо похожего на эти пошлейшие признания в любви, пригодные разве что для однократного обольщения простоватой дочери гончара. Впрочем, пропитавшись за тринадцать лет духом окружавшей её жизни, Лале готова была поверить, что даже эта особа во всех отношениях лучше и примечательнее неё самой: ведь девчонка, как говорили в таких случаях, «хорошо знала жизнь». Вот что так ценили в их мире – и чего была лишена Лале.
А ещё люди были неласковы с Лале потому, что завидовали. Ведь она была молода, а они – стары. У них уже не было возможности зажить другой жизнью, вне этих глинобитных домов, вне этих тяжёлых стен из земли и соломы. А Лале было только тринадцать, и она ещё могла мечтать. Она могла бы, например (ибо так ли это невозможно?), быть спасена одним из стройных янтарноглазых отпрысков шахской семьи и стать принцессой какой-нибудь пряной, томной, яркой как сама жизнь провинции. Она могла бы повелевать зодчими, возводящими небесно-голубые башни и купола, и караванщиками, везущими розовую воду на спинах жёлтых верблюдов. Лале была ещё в том возрасте, когда ничто не невозможно по-настоящему.
Боялась Лале только одного: встретить смерть на глазах у земляков или в их обществе, то есть в ту минуту, когда душа её бывает обезображена и не узнаёт саму себя. Смерть, видевшаяся ей высоким, будоражащим дух событием (возможно, прекраснейшим событием её некрасивой жизни), была чем-то дорогим, чем-то, что следовало встретить либо в героическом одиночестве на глазах у восхищённых богов, либо в обществе неизвестного возлюбленного её снов. Только так вся жизнь её осталась бы незапятнана и навсегда спасена от осквернения.
Но кто диктует свои условия смерти? Она не знает милости даже к царям. И потому всякий раз, отправляясь с семейством на реку, Лале молилась, чтобы лодка их не перевернулась или чтобы на них не напали разбойники. Впрочем, мысль об этих свободолюбивых людях временами волновала её. Но оказаться у них в плену вместе с другими, стать их заложницей на глазах у женщин собственного семейства и наравне с ними – от этих картин ей становилось тошно.
Лале было только тринадцать. Но в её тоскливом, наизнанку вывернутом мире молодость отнюдь не была прекрасным временем силы, красоты и надежды. Она была временем несуразным, неуклюжим; временем, когда всё вокруг внушает юному существу: тебе должно стыдиться самого себя! И Лале стыдилась, и за этот стыд ненавидела се
Через два года пятнадцатилетняя Лале навсегда сбежала из дома тётушки Марджан.
Ещё через один год шестнадцатилетнюю Лале было не отличить от других цыганских девочек, её новых подруг и сестёр.
*
Первые из них появились в Раге в тот час, когда солнце не отличить от красной луны. Рассказывают, что горы были в те времена так сильны, что притянули к себе чужой металл, и потому они вошли в Рагу безоружными. А кто-то говорил, что они сами переплавили свои серебряные мечи в сосуды для вина — те, на которых бегут полусобаки-полуптицы, известные своей мудростью.
Очень скоро они узнали местные вина, чей вкус меняется прямо во рту, и местные чаши, чьи узоры подобны человеческим именам. Они начали мучиться неведомыми прежде болями и поняли, что боли эти нельзя описать на их языке, а можно только сыграть на инструменте, сделанном из тутовника и коровьего сердца. Ещё они поняли, что на солнечном свету лучше и засыпать, и просыпаться, и что густая ночь этих краёв — для наслаждений.
Утром они выносили кувшины из темниц и оставляли на вершинах холмов, давая им весь день впитывать солнечные пятна, запах сухой травы и голос песка. А вечером на серебряных блюдах перед ними извивались пятнистые звери и неизвестные цветы, богини сидели на чешуйчатых зверях с длинными языками, а цари в высоких коронах стреляли всегда из-за плеча, и стрелы их делали безрогих газелей рогатыми, а рогатых - безрогими.
Потом началась эпидемия. Они заражались местным языком как заражаются неизлечимой болезнью. Язык этот они перенимали у стройных виночерпиев и у седых хозяев питейных домов, у менял на базарах, у лекарей и у хлебопёков – но главные слова они узнавали от красавиц с глазами-нарциссами. А пальцы их, осваивая незнакомые книги, приучались двигаться справа налево.
Те, кого Смешение застало в домах предков, заметили сначала, как с каждым годом бледнеют и истончаются их лица. Миновало три солнечных оборота – и они поняли, что волосы их становятся светлее, а кости – легче. А когда сменилось три поколения, их дети обратились к ним на языке пришельцев и улыбнулись чужой улыбкой, делая её своей.
Имена местных людей из восточных стали незаметно превращаться в западные, а из западных - обратно в восточные. А потом у них начали появляться веснушчатые дочери и зеленоглазые сыновья. И наконец наступил день, когда старик, проживший всю жизнь в жёлтом от пыли городке, увидев возле своего дома наследника престола, прогуливавшегося инкогнито, спросил на неузнаваемой, перемолотой веками латыни, откуда тот родом.
*
Говорят, Наследник был так прекрасен, что никто не верил, будто у него есть отец и мать. И хоть длинные свитки с именами тех, в чьей крови течёт бирюза царства, можно отыскать во всякой лавке и на всяком базаре Раги, даже они не убеждали никого в земном происхождении Наследника.
Предшественник его был коронован ещё в утробе матери (венец возложили прямо на её живот). Через двадцать семь лет он умер от кровоизлияния в мозг, опередив на несколько дней свою любимую наложницу, которую постигла та же участь. Когда Наследнику объявили о новости и указали на место у трона, было уже утро следующего дня, и голова его была полна отпечатков вчерашней мигрени, доставлявших ему странное и едва ли объяснимое удовольствие. В последующие годы мигрень будет исправно посещать Наследника в важные минуты жизни и заменит ему то, что другие привыкли называть интуицией.
Наследник появился на свет в разгар Второй мировой войны. Пока он рос и учился говорить, иностранные разведчики, освоив языки, отращивали бороды и загорали дочерна, а потом целыми днями колесили на велосипедах по переулкам Раги, подслушивая разговоры. Но всякое событие и всякая новость достигали стен дворца с задержкой, и от них оставались лишь отзвуки и тени. В покоях Наследника время текло совсем не так, как снаружи. Иногда оно на целые сутки замирало, а иногда даже шло вспять. Но Наследник мало этому удивлялся. Он размышлял о более важных вещах.
Наследник всегда носил голубое — цвет своей чистоты. И хотя его молодая кровь кипела, катясь по тонким венам, и гулко стучала в сердце, он год за годом отказывался посещать женскую половину дворца и запирал себя в собственных покоях среди колонн из книг. Каждое лето он сажал в саду голубые горные маки, а каждую зиму рисовал их по памяти на полях пыльной рукописи, которую никому не показывал.
Наследник единственный в царской семье не любил охоты и не ел мяса, а ел только сладкую рыбу без чешуи, которая осенними ночами сама выпрыгивает из пруда. У него был любимый музыкант, говоривший, будто слагает песни, наблюдая за созвездиями. В месяц, когда над Рагой случаются звёздные дожди, они вместе подолгу смотрели на узоры в тёмном небе, а потом перекладывали их на струны.
Но во всей стране не было никого, кому было бы дозволено разделить с Наследником его главную страсть: игру в шахматы. Наследник вступал в схватку только с самим собой. Иногда он уединялся с тяжёлой шахматной доской и фигурами из панцирей улиток на целые дни, забывая о пище, отдыхе и сне. Он повторял, что нет радости слаще, чем бороться с самим собой, и нет человека счастливее, чем тот, кто поразил самого себя в битве.
Наследник говорил, что несколько раз убивал себя в поединке, желая сделаться совершеннее. «Тот Наследник не был я», - твердил он. И грозно добавлял: «Пусть никто не смеет вспоминать о нём».
Каждый год с приходом весны Наследник покидал шумную Рагу и инкогнито, в полном одиночестве отправлялся в путешествие. Больше всего его манил Харангзар. Там, на громадной скале среди песков древний царь вместо надписи о завоёванных им странах выбил надпись о своей любви - и тем её обессмертил. Наследник часами всматривался в клинописные строки и мечтал о столь же великой жизни и ещё более великой смерти. Засыпая, он мечтал услышать во сне биение сердца своей возлюбленной, которой никогда не видел. В двадцать четвёртое лето своей жизни он понял, что мечтает об этом сильнее, чем о свете познания и драгоценных камнях истины, сильнее, чем о власти и богатстве, сильнее, чем о счастье и самой жизни. И тогда он предал забвению пророчество, тихо и неотступно кравшееся за ним с детства: бойся женщины с медвежьими цветами.
И в тот же год, едва на небе показался полосатый, с двумя рогами, месяц, женщина с венком медвежьих цветов в руках сама нашла Наследника.
*
В то лето невдалеке от стен Раги, среди маков и зелёной травы, раскинул свои пёстрые шатры кочующий народ. Местные жители называли их цыганами, хотя в действительности никто толком не знал, на каком языке они говорили и в какие созвездия складывали звёзды. Они звенели бубнами и не покрывали волос, и дети их храбро приходили к городским стенам, чтобы торговать медвежьими цветами.
Наследник почувствовал любовь мгновенно. Так узнают острую боль, какую не перепутать ни с чем и от которой просыпается спящий. В девочке с загорелым худым лицом он неожиданно узнал само мироздание: как оно есть, с сорванной скорлупой, без покровов, не описанное неуклюжими формулами – просто и бесстыдно сияющее. Годами Наследник сражался с пыльными рукописями, пытаясь по крупицам вообразить его. Теперь он его увидел. Странное и лёгкое, оно встретило его среди костей и цветов.
Синие глаза её на потемневшем от жары лице казались совсем светлыми. В них был ум – но ум, Наследнику незнакомый. Это был не ум математиков, не ум звездочётов и не ум игроков в шахматы. Это был не тот ум, что рождается во дворце: он был совсем иной природы.
Она знала, как растёт виноград. Точно знала, через сколько минут сядет солнце, а через сколько – стемнеет. Она знала с десяток песен, о существовании которых Наследник, страстный собиратель народных преданий, даже не догадывался. Она знала древние слова, которых Наследник не встречал ни в одной из своих книг.
Во всём остальном она была прекрасно невежественна, как и всякий, по дерзости или глупости вступавший в беседу с мудрым Наследником. Порою, впрочем, Наследнику казалось, что она знает гораздо больше, чем он думает. Порою, на какую-то неверную минуту ему казалось даже, что она превосходит его в книжной мудрости, но зачем-то это скрывает. Тогда он настороженно приглядывался к ней и переспрашивал. А она, спохватившись, отвечала односложно и простодушно. И он снова убеждался: это всего лишь дикая девочка. И всё же отныне человечество разделилось для него на две неравные части: на неё и всех тех, кому не посчастливилось быть ею.
Когда Наследник, держа свою жизнь за тонкую руку, привёл её к бассейну дворца, слугам было велено уйти прочь. Они скрылись, полные покорного недоумения, и тогда он, не веря слепнущим от блаженства глазам, помог ей обнажиться. Он увидел, что кожа её под одеждами, там, где лучи солнца не коснулись её тела, была такого белого цвета, о каком ему не доводилось даже слышать. Трепеща, Наследник долго мыл её руки, в которые въелась сладкая кровь тутовника, и ноги, покрытые соком трав и жёлтой пылью дорог.
Наследник с его мраморной языческой красотой, которую он так упорно скрывал от людей и богов, не задумываясь отдал тело и душу этой девочке. Забыв собственное имя, принёс он ей в дар свою чистоту.
Там, где не было ни солнца, ни теней, лежали они рядом, и каждую ночь Наследник рассказывал цыганской девочке о ходе небесных светил.
- Дай мне молиться тебе, - отвечала она простодушно, - так, как молятся всемогущим богам.
Он быстро целовал её волосы и шептал какое-нибудь древнее звёздное имя, и перед глазами у него темнело.
Наследник не понимал, сколько прошло времени с тех пор, как он поклонился кумиру: семь дней или семь лет. Померкли, забытые в сундуках, рубины и сапфиры, померкли даже его любимые зелёные изумруды. Потеряли цену, смешались с пылью и глиной, стали неотличимы от золы. Он больше не различал их тихого мерцания во мраке своих покоев. Только молочно-белая кожа и рыжие волосы светились теперь перед его жадным и обожающим взором, и он нетерпеливо бросался к её ногам, и торопился бросить к ним всё, чем обладал, и сокрушить своей любовью всё, что существовало в мире, и разрушить мир, и создать его снова ради неё, и принести самого себя в страшную жертву её невинной, не ведающей своей дьявольской силы красоте.
Сгорали одно за другим дорогие благовония, и ночи сменялись днями где-то за стенами дворца. Прошло двенадцать недель, а затем и двенадцать месяцев. Наследник всё чаще заводил речи о созвездиях и светилах, о науках, о загадках хорезмийского математика, о хитростях шахматной игры. Цыганская девочка начала грустить. И с каждым днём лицо её становилось мрачнее.
- Я полюбила тебя не за твою учёность и люблю тебя вопреки ей! – говорила она. – Всякий раз, слыша названия планет из твоих уст, я борюсь с собою, я разрываюсь между любовью к тебе и ненавистью к твоим наукам!
Наследник крепко прижимал её к себе и молча прикасался губами к её прозрачным, с зеленоватыми жилками, вискам.
- Ты ценишь людей лишь за их учёность, - продолжала она. – На что я тебе? Зачем ты выбрал меня, зачем мучишь, зачем обрекаешь на стыд? Ведь я так глупа!..
Так говорила цыганская девочка и, уткнувшись в плечо Наследника, мелко дрожала и глотала слёзы.
Наследник отвечал, что она – его жизнь, но науки – его кровь; и что одно неотделимо от другого; и что он не умеет забыть своей любви к наукам так же, как не умеет жить без её любви.
Она спрашивала его, вытирая слёзы, так ли это. И он с упорством мученика отвечал: навсегда.
*
Наследник никогда не раскрывал Лале (ведь его любовью была, разумеется, Лале) своего имени. Совсем как суровый северный принц из его любимой оперы.
Наследник обожал оперу. Повсюду в его покоях были пластинки, заказанные из-за границы. Дважды в год он собственноручно составлял список, и спустя несколько недель во дворец торжественно доставляли очередную коробку. Он раз за разом красивым жестом вынимал пластинку из квадратной упаковки и подмигивал, желая угодить Лале. Раз за разом усаживал её перед шипящей машиной и преданно, кротко, снизу вверх заглядывал в её лицо, надеясь различить хотя бы тень улыбки – но так и не смог изменить её вкусов. До конца жизни Лале будет напевать одни только песни кочевников.
Всё, чего смогла добиться Лале, расспрашивая о его имени – первая буква. Алеф. Она гадала, перебирая самые красивые, на её вкус, имена, начинавшиеся с этой буквы. Азарахш? Асфандияр? Ардашир? Наследник лишь улыбался одной половиной рта и продолжал молчать. А между тем имя его не сходило со страниц газет. О нём судачили на базарах и вздыхали во внутренних двориках, о нём слагали высокопарные стихи и сплетничали у мечетей. Но Лале была далека от мира за пределами дворца и ни о чём не знала. Весь мир был теперь ей чужд.
Наступила зима, и Лале начали сниться страшные сны. Она рассказывала Наследнику, что видит по ночам бледного человека. Он прячется где-то во дворце, говорила она. Он приходит мучить её глубокой ночью, когда Наследник засыпает.
Наследник прижимал её к себе и целовал нежнее и суровее обыкновенного, гладил её беспокойные волосы и повторял, что это – пустой призрак и детский страх.
- Луна моя! - говорил он. - Верь мне и, пока я тобой, ничто ужасное тебя не коснётся.
Но Лале продолжала бредить своим бледным человеком. Однажды она рассказала Наследнику:
- Прошлой ночью я спросила его: кто ты? И он отвечал: я тот, кто убьёт тебя перед восходом солнца. Что значат эти речи?
Наследник ничего не отвечал и только ещё крепче обнимал единственную свою любовь и единственную свою жизнь.
Наступила ночь, и на дворец упала темнота. Наследник тихо покинул покои, где спала его возлюбленная, чтобы принести самых дорогих благовоний и драгоценных масел, какие только можно было найти в его владениях. Утром он велел слугам купить чистейшей розовой воды и шафрановых нитей, сока самых редких красных оливок, что растут только на райских деревьях, и дюжину сладких как мёд мазей. Как никогда отчаянно желал он в ту ночь умастить кожу цыганской девочки тончайшими ароматами, как никогда отчаянно мечтал покрыть идолопоклонническими поцелуями каждый золотистый волосок на её юном теле.
Но вернувшись назад с сокровищами в дрожащих руках, Наследник нашёл лишь застывшую, неподвижную статую своей некогда бессмертной возлюбленной.
Неизвестный ужас стоял прямо перед ним. Не сказав ни слова, не помыслив ни мысли, Наследник дал своим рукам смотреть вперёд глаз, а глазам – говорить вперёд языка. Он схватил царский меч, к которому до поры не прикасался, и впервые осквернил его кровью.
Только тогда Наследник взглянул в лицо незваного врага – и закричал. У злодея было лицо Наследника. Он увидел своё собственное лицо.
*
Рассказывали ещё, что в это самое время один жестокий вельможа, чьё имя осталось лишь на пылящихся в архивах бумагах (а возможно, и вовсе исчезло после революции), полюбил одержимую Ширин. Но Ширин ответила ему отказом.
Про Ширин эту говорили, будто она видела Наследника в ту пору, когда калам его жизни ещё не переломился надвое, а листы времени были украшены узором его бытия. После той единственной встречи ею завладели джинны. Каждый день ходила она вокруг дворца Наследника и пыталась разглядеть голубые горные маки в его саду. Каждый день приходила она к наглухо закрытым окнам, стремясь поймать тень от его тени. Доподлинно неизвестно, знал ли Наследник о Ширин. Он мог быть удивительно зорок и проницателен, когда обращал свой взор к людям — и становился поразительно слеп, когда скрывался от них за стенами дворца.
После гибели Наследника она сожгла свои богатые наряды и начала одеваться в мужские одежды. Она велела называть себя именем Наследника и больше никогда не отзывалась на своё. «Моё имя — Наследник», - повторяла она на улицах и базарах Раги, в пыльных лавках и душных кофейнях, в гадательных домах и на площадях. «Я — Наследник», - кричала она, теряя с каждым днём человеческий облик и превращаясь, как говорили люди, не то в ангела, не то в самого шайтана.
Однажды на пороге заросшего паутиной и колючками дома Ширин появился лекарь. Он узнал о беде Ширин и пожелал помочь, пустив ей кровь. Но Ширин прогнала его прочь, сказав только: «Кровь моя так полна моим возлюбленным, что ланцетом своим ты навредишь ему и принесёшь ему боль».
Вельможа, между тем, раскрыл свою тайну самому визирю, мудрому как змея и хитрому как лиса.
- Я перестал стремиться к величию, о визирь! - говорил он. – Теперь мне тошно от мыслей о царстве, и не думаю я о том, что станет с моими богатствами. Я уже не мечтаю о завоевании земель. Не хочется мне более, вскочив в седло, вести за собою воинов. У меня нет даже сил выйти в сад. Я только читаю, страница за страницей, книги, написанные другими. Я забросил свои стихи и не думаю более о славе. Пусть останутся они безымянными, пусть никто не увидит под ними моего имени – пусть!.. Так чего же я хочу? О чём мечтаю? О, визирь! Только об одном я мечтаю, только одного желаю, и имя моей мечте – Ширин. Вот чего хочу я более всего в этом мире и любом из миров.
Ты говорил, проницательный визирь, что ценна лишь та любовь, что ведёт обоих к совершенству. И именно этого желает истинный мудрец от возлюбленной. Но чего же желаю я? Что вижу я в своих мечтах? О, визирь! Стыдно признаваться в этом. Мечты мои похожи как сёстры, и в каждой из них мы с Ширин наслаждаемся счастьем наедине, дни и ночи не покидая брачных покоев. И более я не хочу ничего! Сладость любви Ширин – вот для меня венец возможного!
Когда я вижу, как влюблённые гуляют среди лугов или посещают квартал гончаров или уличное представление, я думаю о том, что любовь их – не истинна. Ибо, будь она истинна, они не покидали бы своих покоев ни на минуту, и ничто не в силах было бы оторвать их губы друг от друга. Рассуди же: прав я или нет?
Люди говорят, будто грусть – дочь праздности. Говорят, что грустит лишь тот, кто не знает трудов. Так неужели грусть одолевает меня лишь потому, что на мне эти богатые одеяния вельможи? Нет, визирь. Иное кроется здесь. Что-то страшное и неизвестное человеческому разуму. Иногда, безо всякой на то причины, становится мне тоскливо и дурно. Часы эти лучше всего пережидать во сне или беспамятстве, ибо в такое время шайтан нашёптывает в уши самое страшное. Он заставляет меня верить, что жизнь – мой враг, и что сердце моё желает смерти.
Ты помнишь, что тридцать пять зим назад наше царство страдало от разорительных войн, засухи и землетрясений. Но даже тогда не было мне так тоскливо. Война привела к нашей славной победе и обогащению; засуха побеждена; не слышно более и о иных бедах. Так почему же теперь, когда царство наше процветает, так гнетёт меня и душит незнакомая прежде змея тоски?
Ибн Сина пишет о ранах и ядах. Как завидую я раненым на поле битвы, как мечтаю об их участи! Они вырывают из себя вражескую стрелу вместе с плотью, и от неё остаётся лишь спрятанный под одеждами рубец. Но яды!.. Я навсегда отравлен, о визирь, и яд тоски уже разнёсся с кровью по всему моему телу.
Так говорил безутешный вельможа. Визирь отвечал, что есть лишь одно средство исцелить вельможу, и что оно известно ему самому с первого дня его загадочной болезни, и что такова воля судьбы. Вельможа отвечал, что понял исполненный мудрости ответ визиря и потому любой ценой добудет это средство.
Семь раз и ещё семь раз отвечала Ширин презрением на увещевания жестокого вельможи. И на лесть, и на гнев, и на раскалённый металл его палачей ответ её был един: «Мой вечный жених — Наследник, и сам он есть я».
Тогда вельможа, обезумев от гнева, велел запереть Ширин в жарко натопленной бане со вскрытыми венами. Рассказывают, что она собственной кровью писала о любви к Наследнику на стенах бани – до тех пор, пока последняя капля не покинула её тело.
Узнав о смерти Ширин, вельможа потерял рассудок, и у него сделалось змеиное лицо. На следующее утро к нему привели старую гадалку, которая повторяла: «Лицо вельможи останется змеиным, пока не отыщет он мёртвую красавицу среди бессмертных».
С тех пор вельможа начал искать Ширин. Год за годом он искал лицо возлюбленной на всех портретах, во всех книгах и на всех рисунках, что хранили веками библиотеки его царства. Он рассматривал лица на миниатюрах и на поблекших древних блюдах, на старых свитках и на золотых монетах. На полях священных писаний и в узорах мечетей. В рисунках земных рек и небесных созвездий. Но нигде не мог он отыскать лица Ширин.
Как-то придворный художник открыл ему, что поиски его бесплодны, ибо ничто не может быть прекраснее белого холста. В припадке ярости вельможа велел казнить его за дерзость.
Следующие семь лет он провёл в одиночестве, нося с собой полный позвоночник тоски. Он пил чай из синих цветов, надеясь обрести покой, но покой не приходил. Он начал бояться людей и перестал покидать свои покои. Теперь он завидовал тем, чьи черепа превращались в чаши для вина, а рёбра — в арфы. Он завидовал тем, кого губили враги и женщины, стрелы и хищные птицы, моря и пустыни. И наконец, в одну тёмную осеннюю ночь он воспылал чёрной завистью к самому Наследнику.
Но никто не знал, что Наследник был последним из смертных, кто заслуживал зависти. Наследник, против собственной воли ставший бедою Ширин и вельможи, сам умирал от горя.
Ни Наследник, ни несчастная Лале не рассказали ни одной живой душе о хмуром дне за две недели до праздника Ноуруз. Рано утром при бледной полной луне, на исходе второй недели месяца эсфанд они незаметно выскользнули из дворца, неся в руках большую корзину, накрытую одеялом, и долго шли куда-то, рыдая и проклиная судьбу.
Если кто-то и увидел их тогда, то вряд ли узнал.
А если и узнал, то вряд ли поверил своим глазам.