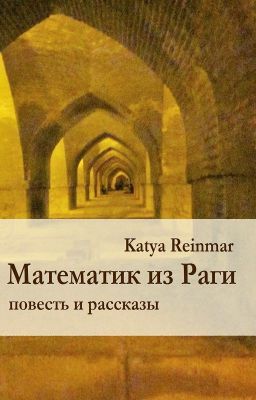Равноденствие
На этот раз Азар была серьёзна. Промахнуться числом было нельзя. Потерянное время испортило бы всё. Не имея возможности хоть что-нибудь с ним разделить и гадая, как сделать хотя бы одну вещь в их жизнях общей, она решилась дату его рождения сделать датой своей смерти.
Он родился в день осеннего равноденствия тридцать два года назад. Солнечный день. День фруктов, засахаренных орехов и конфет со вкусом розовой воды.
Но Азар в этот праздник ждали семнадцать пузырьков одуряющих капель и бутылка вина. Капли она собирала на протяжении нескольких месяцев. Она начала покупать их с того дня, когда приняла своё мрачное решение, и покупала всегда только по одному пузырьку за раз, чтобы не возбуждать подозрений.
В тот год её мучала постоянная, ни на минуту не притуплявшаяся тоска. Она часто думала тогда, что единственная работа, для которой она ещё пригодна - гардеробщица. Ведь даже официантке нужно разбираться в сортах и рецептах кофе; даже официантка должна помнить фантастическое количество сложнейших вещей, а главное - не перебить посуды и не обжечь пролитым напитком какого-нибудь угрюмого посетителя... От одной мысли о подобном у Азар опускались руки. Это было слишком трудно. От одной мысли о таком она чувствовала смертельную усталость...
Вечером она заперла двери, чтобы больше их не отпирать. Всё было готово. Накануне она выстирала и сменила простыни. Купила бутылку дорогого вина. Выбросила мусор, чтобы в доме не пахло (о собственном теле, которому предстояло медленно разлагаться, она даже не подумала, воображая, что превратится в статую, и именно такой, мраморной, её и увидит он – увидит непременно). Подстригла ногти. Сделала свои непослушные волосы кудрявыми.
В небе висело не то две трети, не то три четверти луны. И это было странно. Она всегда воображала, что в важные ночи вроде этой луна бывает только полной. Допускался, впрочем, и тонкий растущий месяц. Но никак не этот убывающий кусок, больше похожий на ломоть криво отрезанного сыра. Однако делать было нечего. Декорации в таких случаях не выбирают. А луну – тем более.
Азар посмотрела в зеркало и нашла себя почти красивой. Надела лучшее бельё и переступила порог спальни, с тоской думая о том, что уже не выйдет из неё, не выпьет шоколада на кухне, не почувствует прикосновения горячей воды в ванной комнате...
Она быстро откупорила бутылку и сделала первый глоток, чтобы оборвать эти мысли. Поставила пластинку с чем-то героическим. Стало хорошо, стало как-то выносимо. Стало намного лучше. Cделала ещё один глоток. Ей было пора в постель, но она медлила. Чтобы потянуть время, сделала третий и долго его смаковала. Вино было тёмно-красное и пахло почему-то лакрицей. Азар вдруг поняла, что почти не думает о нём. Его фигурка в сравнении с ожидавшим её прыжком в вечность стала маленькой и бледной. И всё же принятое решение уже толкало её, уже работало само по себе, как гигантский, заведённый неведомым божеством часовой механизм...
Вдруг – звук телефона. Она мысленно выругала саму себя грубыми, первыми пришедшими на ум словами за то, что не догадалась его отключить. И, поколебавшись, всё же взяла трубку. «Может быть, что-то важное? А если в доме пожар?» - такова была её первая мысль, если звонили ночью.
- А вот послушай-ка, Азар! – раздалось в трубке, оскверняя всю сцену неуместным весельем. И в то же мгновение она поняла: это не о пожаре. Говорил её знакомец, восторженный сочинитель, называвший себя К. и имевший привычку высыпать свои озарения в уши друзей, нимало не заботясь о часе дня или ночи. Он был убеждён, что экспромты его столь хороши, что прятать их от людей хотя бы одну минуту – преступление.
К. довольно рано понял, в чём секрет привлекательности: в загадочности. А секрет загадочности - в том, чтобы заставить людей поверить, будто у тебя есть другая, прекрасная и совершенно недоступная им жизнь. И что если они не видят тебя достаточно сильным, красивым и остроумным, то всё это только оттого, что ты сам предпочёл не посвящать их в эту жизнь и не открывать им истинного себя.
К. был студентом, а по вечерам подрабатывал в магазине. Благодаря его уловкам и однокурсники-филологи, и коллеги-продавцы верили, что где-то далеко, вне поля их зрения, он и живёт своей подлинной, достойной кинофильма или целого романа жизнью...
В действительности же в жизни К. не происходило вообще ничего. Но знала об этом одна Азар.
Голос в трубке произнёс:
- Тело моё просится в поход, оно желает рубить сарацин! Но душа! Душа моя хочет остаться здесь, подле дамы...
Азар фыркнула.
- Не наоборот ли? – съязвила она немедленно. Без особенного, впрочем, удовольствия.
А голос, не обращая внимания, говорил:
- Я часто думаю о том, что было со славным Сидом в первые часы после смерти. Ощущал ли он, как одевают его в тяжёлые доспехи, как сажают на коня, привязав покрепче к седлу, как выпускают на поле брани? Чувствовал ли он последними остатками чувств, мыслил ли тенями мыслей, понял ли, немой и оглохший, что мавры в страхе бегут, завидев его, ибо никто прежде не одерживал победы после собственной кончины?
Азар закатила глаза, чего её собеседник, конечно, видеть не мог. Оскорблённо подождав и ничего не дождавшись, он продолжал.
- Я написал самый главный в мире рассказ, - заявил он вдруг.
И прочёл следующее:
«Идущий ночью движется к башням.
Я вздрогнул. Одни и те же слова, третью ночь подряд.
В комнате было темно и душно. До предрассветного пения оставалось почти два часа. Меня мучила лихорадка. Хотелось пить, но запасы воды кончились накануне.
Идущий ночью движется к башням. Через ступени, через город, через пески, невидимый для джиннов, завернувшийся в плащ.
Мимо людей, мимо женщин, мимо неверных. Под небом, рассеивающим свет, под звездой, под месяцем, мимо горы, мимо железа, мимо неизбежного.
Голова раскалывалась от боли. Но я знал так же хорошо, как знал собственное имя, что не обрету покоя до тех пор, пока не вспомню, откуда эти слова. Пока не пойму, кто он – идущий ночью.
Он выходит в предвечернее время и идёт до первого луча, до зари, до рассвета. Он не боится грома и лицемеров, он не боится дыма и сгустка, он не боится мчащихся и стоящих в ряд.
Жар сводил с ума. Мне казалось, я слышал, как шуршат на голове волосы, иссушенные ветром, как пробивается на щеках щетина, как прилипает к телу одежда, которую я не менял несколько дней.
Он идёт, пока не увидит утро, падающее на землю, пока не станет видно пальмовые волокна, муравьёв и пчёл.
Как же имя его, идущего ночью? Почему джинны не причиняют ему зла? Я чувствовал, что пока не вспомню имени идущего ночью, пока идущий не пересечёт пески и не увидит башен, мне будет страшно каждую минуту. Страх не покинет меня ни на миг».
Азар попыталась было перебить и поинтересоваться, что, собственно, он читает и зачем. Но К. всё декламировал свои загадочные отрывки и даже не думал останавливаться.
Азар нерешительно вздохнула и поерзала на краешке кресла. И уселась поудобнее.
Вот что последовало дальше:
«Стемнело — тут я тряпки свои поснимал. И ещё подумал: жаль, что бороду вот так не снимешь. Долго же я её отращивал! А сколько носить ещё — неведомо.
Фары. Свет, когда ночью едешь, всё мечется, подскакивает. В глазах от него полосы. Днём тут едешь – всё жёлтое да пыльное. А как ночь настанет – сразу серое, каменистое.
Одиннадцатый час в пути был. Ехал и не знал, как всегда, что на этот раз выйдет. Включил радио. Песня какая-то. Слова у них, у песен этих, одни и те же. Тут и понимать ничего не надо. Девицы о сладком поют. Юнцы — о горьком. И вот думаю каждый раз: глупо, ну глупо же всё это, смешно же — а вот слушаю я эти глупости и о своём думаю. И таким оно всё правильным начинает казаться, и самая дурацкая песня слезу готова вышибить, и в словах её столько тоски слышу — своей, собственной... А потом вспоминаю, с чего всё началось, вспоминаю, как я тут оказался, и кто я такой, и откуда - и ничего, в себя прихожу. К чёрту всё. К шайтану.
Нащупал фонарик — в правом кармане. Всё остальное — в левом. На месте всё. Выдохнул. Поблагодарил Милостивого и Милосердного — почти на автомате. Вживаюсь в роль, ничего не скажешь. Даже сейчас, когда не видит никто - и то ведь поблагодарил. Ну, разве что варан какой-нибудь увидит. Шарахнется, спрячется в камнях. Или ящерица. Боятся они фар. А ещё бывает, что ишак попадётся на пути. Но лучше бы не попадался. Кричат они так, что подскочишь от страха, и сколько ни привыкай, всё равно подскочишь, да ещё и чертыхнёшься, да ещё и на своём языке (так крепче получается), и выдашь себя с головой. Из-за ишака с головой выдашь.
К дорогам этим привыкаешь долго. Асфальта тут нет. А ещё тут не пристёгиваются. Пристегнуться — значит не доверять водителю. А не доверять – значит оскорбить. А вообще-то, и вторая причина есть: это чтобы вовремя выскочить, если полетит твоя машина в пропасть где-нибудь на горной тропе.
Спать не хотелось: не мог я позволить себе спать, слишком был взвинчен. Есть — тоже. Мыслями был уже в Раге — словно закинул крюк, зацепился где-то там за Рагу, и оставалось только дотянуть себя. Так и ехал: фары мечутся, мысли скачут, по радио то шорох, то голоса чьи-то, справа и слева хребты всё не кончаются. И хоть бы полкилометра ровной дороги! То вверх, то вниз, то швыряет тебя змеёй, извивает куда-то. И камни, камни везде...
Ехал так, ехал — и вдруг увидел.
Прямо на дороге, прямо лучом я его обдал, крутанул руль в последний миг. Проехал уже его, позади оставил, и только минуту спустя понял, что это я видел. Понял — но ещё с минуту ехал, всё отмахивался: нет уж, вот ещё что придумал, не глупи и не возвращайся, поезжай в Рагу, тебя там заждались, как бы чего не случилось, пока ждут! Ты десять часов без беды проехал, в сумерках ехал, в темноте ехал, через поля живым проехал — и что теперь? Глупостями решил заняться?
Вот так ещё минуты три ехал, пока себе всё это говорил да себя отговаривал. А потом заткнул себя, развернул машину и поехал к нему по собственным следам.
Он всё там же лежал. И всё так же не шевелился.
Человек.
Тормознул я. Фары оставил. Постоял.
Он — ничего.
«Может, пьяный, - думаю. - Может, мёртвый. А может, и не человек это вовсе, а джинн».
Вылез из машины. Снаружи холодно, ночь давно. Голову задрал — на созвездия посмотреть. Ритуал у меня такой. На удачу. Канопус мой — на месте. Помигивает.
Он — ничего.
Мёртвых я не боюсь: на них насмотрелся. А вот к пьяным тогда ещё непривычный был. Помню, всё подойти к нему долго не мог. Всё время тянул, всё надеялся: вот сейчас сам поднимется, не придётся в него тыкать.
Пришлось.
Тычу в плечо его правой рукой. А левой ножик в кармане сжал: страшно всё ж. Тычу, а сам на машину свою одним глазом поглядываю...
И тут меня шайтан как дёрнет обернуться!
Обернулся — и сразу увидел.
Да чуть не обделался.
Ярко-розовая. В жизни такой не видал. Над самым горизонтом. Половина. Правая. Висит и прямо в лицо мне смотрит. С монету размером, не меньше. Юпитер, что ли, думаю. Или Марс. Бинокль схватил — руки окаменевшие, не слушаются — она оспинами вся изрыта, и одна оспина, покрупнее, так хорошо видна, и как будто дрожит там что-то такое, всё дрожит...
И тут такая жуть меня разобрала! Я уж этого, что на земле лежал, больше ни секунды не боялся. Кто бы ни был, думаю, человек всё же. А штука, что в небе висит - она и не человеческая вовсе...
Словом, как пришла жуть, я уж обо всём забыл и как начну его трясти! Вставай, кричу, кто бы ты ни был, в машину полезай, нельзя тебе на земле валяться, пока штука эта в небе! Вставай, кричу, поехали отсюда!..
Кричу, кричу, и вдруг мурашки горячие... Понял, что он давно уже голову поднял и на меня смотрит.
Глаза голубые. Не местные. А лицо светлое, всё в красных пятнах, какие только от чужого солнца бывают, какие не спрячешь, какие в первые дни самые опасные, потому что выдают с потрохами...
Тут уж я совсем себя забыл — рыдал, помню, и хохотал, и бормотал чего-то, и ещё рыдал... Тоже, значит, «фаранги»! Живой! И чёрт с тобой, откуда ты здесь, и кто тебя сюда заслал, не просто так же ты здесь, не просто же так, это всё те, те, ты из них! Не заносит в эту глушь вас просто так, конечно, ты из них, не из нас, сволочь ты шпионская, но зато человеческая ты сволочь, человеческая!..
Обнимать его был готов. Всю осторожность как ветром сдуло. К чёрту, думал, осторожность, спасаться надо.
А штука над горизонтом всё дрожит, точно как живая. Воспалённая, что ли. И лохматая какая-то, рваная. Как будто ещё больше стала, выросла. И, чувствую, жуть вместе с ней растёт и внутрь мне заползает...
В общем, затащил я его в машину, ни о чём уже не думал, только бы подальше. У него рюкзак был с собой и ещё что-то было, я даже не рассмотрел.
Завёл. Поехали. Не знаю, сколько времени прошло, пока успокоился.
Руку ему протягиваю (а рука, как назло, ледяная, мокрая).
- К., - говорю. - Из Вены. Ориенталист.
Всё готов был ему в ту минуту вывалить.
Тут он ко мне обернулся, странно так посмотрел. А потом рот раскрыл (до ушей рот) и совершенно как барышня - взял да и в обморок хлопнулся на полуслове.
Я думал, так только в кино бывает».
Азар, не дождавшись окончания, что-то сказала. И вдруг поняла, что глаза её мокры. А ещё поняла, что потягивает вино, и вино больше не пахнет лакрицей.
Она уже давно перестала что-либо понимать. А К. всё не унимался.
«Святой Саршутур, - объявил он вдруг, да ещё и каким-то чужим голосом, отчего Азар стало страшно, - Святой Саршутур был средневековым мучеником с головой верблюда.
Но нового на свете очень мало, если оно вообще бывает. Так что голова эта, думается мне, не дерзкая шутка молодого иконописца, а отголосок полузабытых, невообразимо древних восточных культов.
Может быть, впрочем, цепочка ненадёжных переписчиков (один – недоучка, полуграмотный невежда, другой – пьяница, третий – растяпа, а четвёртый – просто весельчак и насмешник) превратила топоним его рождения, обращения в веру или довольно подозрительной кончины в созвучный эпитет «верблюдоголовый», ничуть не смутившись очевидной нелепостью получившегося?
А возможно, он и впрямь был похож на верблюда. Возможно, страдал редкой болезнью, давно вымершей и потому нам неизвестной. Возможно, был горбат – но сравнение с верблюдом по странной прихоти истории перекинулось на его лицо?
Или всё это - просто фигура речи, и названное животное обозначало в те времена вполне определённое человеческое качество, некую черту (выносливость? долготерпение? талант к далёкому и точному плевку?). Это было ясно всякому говорившему на языке Саршутура – но не озадаченному переводчику и его читателям.
Существует, правда, и совсем уж неправдоподобная, беспомощно-искусственная, не выдерживающая никакой критики легенда, будто бы красавец-юноша сам попросил богов обезобразить его, дабы не поддаваться искушениям» ...
К. умолк. Азар, недоумённо пожав плечами, надела рубашку. Сделала большой глоток вина. Краем сознания, на одну только секунду вспомнила о том, кто праздновал свой тридцать второй день рождения. Он показался ей теперь призраком, почти вымыслом. Действительность сосредоточилась в голосе К.
Она что-то сказала. Улыбнулась. Возможно, похвалила К. Взяла со стола плод инжира и впилась зубами. Окрылённый, К. продолжил читать, презрев усталость, и голос его задрожал:
«Блистательный Наследник Раги, хоть он и не взошёл на трон счастья и не вкусил плодов царства, всё же оставил свою стройную тень на изрядном ворохе пыльных страниц.
О его предшественнике известно гораздо меньше. Даже имя его мне неизвестно. Я зову его просто Предшественником.
Я часто размышляю о нём. Порой мне кажется, что люди не любят о нём вспоминать. Всё потому, что они не любят боли. Вспоминать о Предшественнике очень больно. Знаю, что имя его произносили обычно быстрым шёпотом – чтобы тут же забыть до следующего раза.
У Предшественника была замечательная страсть к старым игрушкам, некрасивым куклам, кривым растениям и нелепого вида собакам. «Красивых любят все, - рассуждал он. – Их выбирают в друзья первыми. Но кто, если не я, приютит этих бедняг?»
Однажды он сложил гимн против обычая, когда с толпой зевак и ликованием режут барашка. Но так как гимн был в стихах, к тому же витиеватых, сложенных каким-то не то вымершим, не то выдуманным самим Предшественником размером и с совершенно непостижимой рифмой - его никто не понял.
Предшественник часто плакал. Но не так, как плачут на картинах, какими украшают свои покои сумрачные и романтически настроенные особы. Слёзы его не были похожи на жемчужины, глаза его не были жидким янтарём. Ресницы его не становились длинными стрелами, а лоб не покрывала мраморная бледность. Напротив: когда он плакал, лицо его безобразно краснело и перекашивалось, точь-в-точь повторяя горькое движение в его душе. Он плакал по-настоящему больно, так, как плачут от холода сироты и бедняки на окраинах Раги, когда у них мёрзнут руки и ноги.
Можно было бы предположить, что Предшественник так любил увечных и отвергнутых судьбой оттого, что сам был некрасив или тяжело болен. Такое объяснение было бы естественно. Но нет! Тем Предшественник и удивителен: сам он был любимцем счастья.
Как рассказывали видевшие его люди, он был весьма хорош собой – и точно не страдал ни от какого увечья. А некоторые говорили даже, что он наделён всеми достоинствами наравне с Наследником. И всё же он не мог или не хотел закрывать глаз – даже когда перед ним вырастало страшное. Он запрещал себе закрывать глаза, он распахивал их ещё сильнее, он приближался к страшному, говоря себе, что поступать иначе – худший из грехов...
Поразительно, но Предшественник отнюдь не был приверженцем всеобщего мира и вовсе не отрицал насилия. Он признавал жестокость между равными: в благородном сражении героев, на честном поединке воинов и даже в его низком изводе: кабацкой потасовке двух одинаково сильных и одинаково пьяных мужчин. Он и сам мечтал вызвать некоторых из своих воображаемых врагов на бой. Он интересовался холодным оружием. Он знал многое о турнирах, на которых бились в прошлом свободные и голубоглазые неверные... Но он яростно желал огненной геенны и сорока тысяч страданий тому, кто обижал слабейшего: ребёнка, животное или даже растение! Он, могущественный предшественник наследника престола, не прощал обид, нанесённых беспомощным и беззащитным!!!»
Голос в трубке начал захлёбываться собственным возбуждением, поток слов постепенно иссяк. И Азар очнулась. Спохватившись, взглянула на часы.
Был второй час ночи. День осеннего равноденствия без возврата ушёл. Наступил новый, следующий за ним и ничем не примечательный.
Дата была потеряна. Она поняла это со смесью досады и облегчения.
Героическую смерть пришлось отложить по меньшей мере на год.
Она сказала что-то К. Потом отключила телефон, допила залпом остатки вина, сделала несколько странных движений, точно танцуя – и с наслаждением уснула.