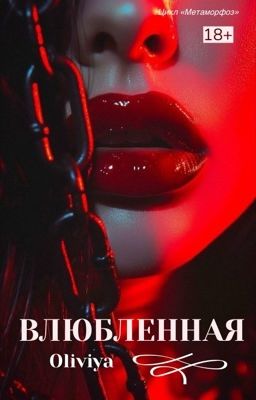Глава 15
Разве их брак с самого начала не был всего лишь холодной сделкой? Просто временным перемирием между двумя враждующими семьями? Да, всё именно так и начиналось. Их союз заключили не по любви, а по расчёту — чтобы объединить силы, положить конец давней вражде и показать остальным, что Моретти и Карделло могут вести игру как союзники. Для всех вокруг это был шахматный ход, не более.
Но когда Романо услышал, что этот брак хотят расторгнуть, внутри у него что-то щелкнуло. Вместо долгожданного облегчения — глухая пустота. Необъяснимая тревога. Он не мог понять сразу, что именно его так задело, но сердце отреагировало быстрее разума. Ведь за это короткое время всё изменилось. Лукреция перестала быть частью сделки. Она стала частью его мира. Его жизни.
Теперь, когда чувства в нём проснулись — живые, настоящие, болезненно сильные — Романо был уверен в одном: он не отпустит её. Не позволит разрушить то, что только начало расцветать между ними.
Однако он знал, с кем имеет дело. Дон Моретти был игроком — хладнокровным, безжалостным, расчетливым. Деньги и власть — его единственная цель. Он двигал фигуры на доске, не задумываясь, кого принесёт в жертву. Но если у Моретти была сила в манипуляциях, то у Карделло — в другом. В преданности. В чести. В умении защищать своих. И Романо был готов доказать это. И если Моретти думает, что может разорвать их брак щелчком пальцев, — он заблуждается. Потому что Романо сделает всё, чтобы этого не допустить.
Сейчас они сидели в тишине. Мягкий свет от люстры отражался в стеклянной поверхности стола, за которым Лукреция будто пыталась стать невидимой. Она сидела, ссутулившись, и машинально теребила подол своего платья. Локоны упали на лицо, скрывая выражение, но Романо видел — она держится из последних сил. Бледная, как фарфор, с нервным дрожанием в пальцах... Она боялась.
И это рвало ему душу.
Моретти появился внезапно, словно вихрь, ворвавшийся в комнату без стука и предупреждения. Он молча проследовал к своему месту и опустился в кресло с видом, в котором читалась холодная, железная решимость. Ни Романо, ни Лукрецию он не удостоил даже взглядом.
— Я уже всё сказал. Моё решение остаётся в силе, — отрезал он, сцепив руки перед собой, как будто уже поставил точку в этом разговоре.
Романо медленно откинулся на спинку кресла, уголки его губ дрогнули в едва заметной, язвительной усмешке.
— Ты забылся, Моретти, — произнёс он низко, спокойно, но с такой сталью в голосе, что в комнате сразу похолодало. — Здесь решения принимаем мы. Этот брак — не игрушка, которую можно выкинуть по прихоти. Он скреплён не только бумагами, но и нашей волей. И ты не в силах расторгнуть его в одиночку.
Моретти со злостью ударил ладонью по столу, стекло под его рукой жалобно дрогнуло.
— Какие решения ты можешь принимать, если не в состоянии держать жену при себе?! Она разгуливает, где хочет, как будто ты для неё пустое место!
Лукреция резко подняла голову, в её голосе звучало дрожащее, но решительное возмущение:
— Я всего лишь приехала домой!
— Теперь это больше не твой дом, — процедил Моретти с ядом. — И за это можешь поблагодарить своего брата. Вы оба устроили мне немало головной боли.
Романо резко прервал его
— Не смей перекладывать на неё ошибки своего сына. Алехандро сам расторг помолвку с Габриэлой — это его выбор. И Лукреция здесь ни при чём. А куда и с кем она ездит — это решаю я. И она имела полное право ехать с моим человеком.
Комната словно сжалась от напряжения. Моретти сузил глаза, сдерживая вспышку гнева.
— Возможно, — произнёс он медленно, опасно, — но она помогла Алехандро исчезнуть. А ты ведь понимаешь, Романо, что это уже не просто нарушение — это предательство.
Лицо Лукреции побледнело.
— Он мой брат, — твёрдо сказала она. — И я не позволю называть предательством любовь к семье. Ты выбросил его, как мусор. А теперь хочешь, чтобы и я отвернулась?
Моретти скривился, в его глазах сверкнуло раздражение.
— Этот мальчишка давно вычеркнут из моей семьи. И если ты, Лукреция, хочешь разделить его участь — продолжай в том же духе.
Романо медленно встал, его голос стал низким и опасным, как глухое рычание:
— Осторожнее, Моретти. Она — моя жена. И если ты хочешь сохранить хотя бы видимость союза между нашими семьями, тебе стоит следить за словами.
Моретти поднялся ему навстречу, их взгляды столкнулись, как два клинка.
— Пока в её венах течёт моя кровь — я буду говорить всё, что сочту нужным.
Романо сделал шаг ближе, сдерживая бушующую внутри ярость:
— Может, в ней и есть твоя кровь. Но сердце её принадлежит мне. И если ты хоть пальцем тронешь её — или кого-либо из моих — я тебе напомню, кто действительно держит власть.
Тишина ударила в уши сильнее любого крика. Лукреция ощутила, как её сердце колотится в груди. В этой войне она была центром, за который сражались. Но если один защищал, то второй пытался сломить.
Романо взял её за руку, крепко, уверенно. И, не бросив ни взгляда назад, вывел её из кабинета. За их спинами раздался голос Моретти, полный решимости и окончательного приговора:
— Можешь забыть дорогу в этот дом, Лукреция! И забери с собой Алехандро, если так его защищаешь!
Её шаги звучали по дому, как прощальный набат, каждое касание каблуков к полу отзывалось болью внутри. Каждый шаг будто отрывал кусочек прошлого — детства, семьи, беззаботности. Но спина Лукреции оставалась прямой, подбородок — высоко поднят. Она не позволяла себе слабости, даже когда сердце рвалось на части.
Романо шёл чуть впереди и заметил, как в тени коридора замерли её младшие сёстры. Они не осмелились приблизиться — только смотрели вслед, с глазами, полными тревоги и страха. Флавия уже сделала шаг вперёд, но мать, стоявшая рядом, остановила её. Одним легким движением руки она перечеркнула всякую надежду на прощание. И всё стало понятно — дом, в котором Лукреция родилась и выросла, больше не был ей домом. Он отвернулся от неё, как и те, кто в нём остался.
Когда они вышли на улицу, солнце ударило с безжалостной силой, как будто само небо тоже было против неё. Романо молча снял пиджак, дёрнул галстук и пошёл к машине быстрым, уверенным движением. Лукреция шла позади, словно в тумане, и с каждым её шагом казалось, что она становится всё меньше. Она не говорила — будто слова, как и дом, остались за той закрытой дверью.
Как только они вошли в пентхаус, Лукреция больше не смогла сдерживаться. Всё, что она держала внутри — страх, горечь, боль, — прорвалось наружу. Она опустилась на колени прямо на холодный мрамор, словно подрезанная, и разрыдалась, вцепившись пальцами в гладкую поверхность пола. Ни гордость, ни самоконтроль уже не спасали — лишь беззащитная, сгорбленная фигура женщины, у которой отняли дом.
Романо застыл. Его будто парализовало. Он стоял посреди комнаты, как человек, впервые столкнувшийся с силой, которую не может ни понять, ни контролировать. Он помнил, как когда-то плакала Элиза, но тогда это был просто детский плач. Сейчас же перед ним была женщина, с которой он делил жизнь, женщина, которая распадалась на глазах. И он чувствовал — если не подхватит её сейчас, потеряет.
Он медленно опустился рядом, сердце билось оглушающе. Его голос дрогнул, когда он заговорил:
— Посмотри на меня, Лу... пожалуйста. Не разбивай мне сердце своими слезами.
Он обнял её, прижал к себе, как будто хотел заслонить от всего мира. И в этот момент Романо тоже был сломлен — по-своему. Он не знал, как исцелить её, но знал, что будет рядом до последнего вздоха.
Лукреция прижалась к его груди, как к последнему якорю. Её слёзы пропитывали его рубашку, а пальцы цеплялись за ткань, как будто только так она могла не утонуть в собственной боли. Романо гладил её по спине, шептал что-то невнятное, но искреннее. Ни обещания, ни утешения — просто тёплый шёпот мужчины, который чувствовал, как она трескается в руках.
— Ты дома, Лу, — прошептал он, глядя в потолок, будто боялся, что, если посмотрит на неё, не сдержится. — Здесь тебя никто не тронет. Я не позволю.
Она медленно подняла глаза — заплаканные, покрасневшие, но всё ещё яркие. В них отражалась смесь эмоций — боль, гнев, страх, и... что-то новое. Нежное. Уязвимое.
— Я не хотела, чтобы всё было так, — её голос был почти не слышен. — Я просто хотела, чтобы меня услышали. Чтобы кто-то... полюбил меня.
Он взял её лицо в ладони, вытер слезу и, не отводя взгляда, произнес:
— Я слышу тебя. И учусь любить, Лу. Ради тебя.
Она попыталась улыбнуться, но в её глазах вспыхнула новая боль.
— Но ты не сможешь вернуть мне мою семью... — сказала она, будто приговаривая саму себя. — Что с моими сёстрами?.. Как мне теперь без них?
И как только она произнесла это, снова опустила голову, будто эти слова окончательно разрушили хрупкий щит, который она так отчаянно пыталась удержать.
Романо почувствовал, как в нём вскипает злость — на Моретти, на этот мир, где всё решается властью, где чувства ничего не значат. Он злился даже на себя, за то, что не предвидел, не спас, не защитил.
— Я не могу вернуть прошлое, Лу, — выдохнул он, наклоняясь ближе. — Но я найду выход. Обещаю тебе. Только перестань плакать. Прошу.
И в этой тихой фразе не было громких слов — но в ней звучала клятва. Настоящая. Мужская.
Романо знал, что день обещает быть напряжённым — впереди были важные встречи, решения, от которых зависела не только репутация, но и влияние. Но, увидев Лукрецию такой — ранимой, — он без колебаний отодвинул всё на второй план. Сегодня важна была только она.
Когда её дыхание стало спокойнее, а слёзы — реже, он молча поднял её с холодного пола. Осторожно, бережно, словно боялся вновь задеть её боль. Лукреция не сопротивлялась. Они молча перешли в гостиную, где мягкий дневной свет и тишина окружили их, как защитный кокон.
Он сел рядом, на мгновение взглянув на экран телефона, усеянный пропущенными звонками и сообщениями. Затем просто выключил звук и положил его на стол. Сейчас он был не Карделло, не глава семьи, не стратег. Сейчас он был просто мужчиной, рядом со своей женой.
Лукреция молча положила голову ему на колени. Её руки лежали безвольно, взгляд был направлен в одну точку — на рояль у окна. На тот самый инструмент, который когда-то стал мостом между ними. Или, возможно, миражом — иллюзией близости, которой никогда не было.
— Скажи честно, Романо... — сказала она, не отрывая взгляда. — Почему ты привёз его сюда?
Он сразу понял, о чём речь. Объяснений не требовалось.
Романо провёл пальцами по её волосам, как будто успокаивая и себя тоже. Вздохнул. Его голос прозвучал глухо, с тяжестью, будто каждое слово рвалось через горло с трудом.
— Потому что это — ты, Лу. Настоящая. Единственная. Я... — он сжал её ладонь, прижав к своей груди. — Я был дураком. Эгоистом. Я думал, что твоя музыка должна быть только моей. Что твой голос, твои чувств — всё это должно звучать исключительно для меня.
Он на секунду замолчал, будто переваривал собственные признания.
— Но я ошибался. Всю жизнь я пытался контролировать всё вокруг. Людей, эмоции, обстоятельства. Я хотел держать всё под контролем, особенно тебя... А ты — не часть системы, Лу. Ты не вещь, не роль, не должность. Ты — свет. Ты должна быть свободной.
Он посмотрел на неё, глаза стали мягче, и голос чуть дрогнул.
— В тебе есть нечто, чего я не заслужил. Но я... всё равно хочу это сохранить. Хотя бы попытаться. — Он говорил тихо. — Но если ты решишь уйти... я отпущу. Я дам тебе свободу, Лу.
Лукреция не ответила сразу. Молчание повисло между ними, тяжелое, как неизбежность. Романо с каждой секундой ощущал, как в груди нарастает беспокойство. А вдруг она действительно уйдёт? Он готов был дать ей выбор... но не был готов потерять.
Она медленно подняла голову. Их взгляды встретились, и в её глазах он увидел не отстранённость, а решение. Внезапно Лукреция потянулась к нему и поцеловала — сначала осторожно, как будто проверяя, можно ли ещё чувствовать. А потом с нарастающей жадностью, в этом поцелуе были все ее чувства.
Она перекинула ногу через его бедра и села сверху, прижимаясь к нему всем телом. Романо не стал сдерживаться — его руки легли на её талию, скользнули к бёдрам, сжимая их с одержимостью. Лукреция начала медленно покачиваться, чувствуя, как напряжение между ними вспыхивает с новой силой.
Каждое её движение сводило его с ума. Она не говорила ни слова, но сейчас ей и не нужно было — каждое прикосновение, каждый вдох был признанием.
Она двигалась с нарастающей уверенностью, В его объятиях она возвращала себе силу — ту самую, которую пытались отнять. Не изгнанная дочь, не сломленная женщина, а Лукреция, которая сама выбирает, кому принадлежать и зачем.
Романо склонился к её шее, его губы оставляли следы — не просто ласки, а метки. Он будто стремился вписать своё имя в каждую линию её тела, запомнить её заново, так, как ещё не знал никто.
— Лу... — прошептал он, захваченный её ритмом, её дыханием, — если ты останешься... я изменю всё. Клянусь.
Она провела пальцами по его щеке, нежно, будто стирая с него маску того, кем он был до неё. Потом коснулась губ, и, не дожидаясь ответа, снова поцеловала его — жадно, властно, как будто ставила свою точку в их истории.
В этом поцелуе не было сомнений. Только страсть, в которой сгорели страхи, и чувства, которым не нужны были слова.
— Я не уйду, Романо, - выдохнула она. — Я не смогу.
Слова повисли в воздухе, как клятва. Больше не требовалось объяснений.
— Давай просто посидим, — тихо сказал он, уткнувшись лицом в её волосы.
И в этой тишине было больше близости, чем в тысяче слов.