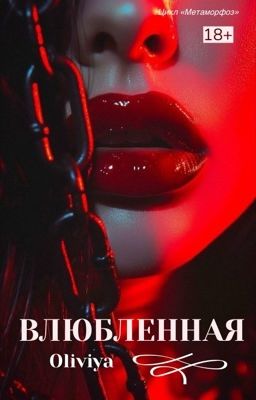Глава 16
Утро выдалось ослепительно ясным — солнечные лучи пробивались сквозь занавеси, мягко растекаясь по комнате. Лукреция медленно открыла глаза, погружённая в ту самую зыбкую грань между сном и реальностью. Она лежала в постели, что теперь, пусть и негласно, стала их общей с Романо. Её вещи всё ещё находились в прежней комнате, аккуратно сложенные, нетронутые — как будто она оставляла за собой возможность уйти. Но всё чаще она просыпалась здесь, рядом с ним.
Сегодня ей не хотелось двигаться. В теле была странная тяжесть, а в груди — пустота, что будто расползалась по внутренностям. Вчерашний разговор с отцом обрушился на неё с неожиданной жестокостью. Она не просто не ожидала — она верила, что знает его, верила, что несмотря на всё, он любит её. Но любовь ли это, если её используют как разменную монету? Если отрекаются от неё, как от чужой?
Лукреция уставилась в потолок, словно ища там ответы. Горечь подступала к горлу, но она не позволяла себе снова расплакаться. Её слёзы уже были пролиты — в холле, в гостиной, в объятиях Романо. Сейчас осталась только усталость.
Мысли вернулись к матери. Там всё было проще. Мать никогда не давала ложной надежды. Она не обнимала, не гладила по голове, не шептала тёплых слов. Её холодная сдержанность годами формировала в доме атмосферу, в которой дети чувствовали себя воспитанниками, а не любимыми. Мать исполняла долг — безупречно, строго, но бездушно. И, возможно, именно её безразличие научило Лукрецию бороться, искать любовь там, где её почти не было.
Алехандро продолжал оставаться в тени — не звонил, не писал, словно растворился. Единственное, что от него осталось, — короткое сообщение: «Не переживай, сестричка, всё будет хорошо.» С тех пор — тишина.
Лукреция не раз подумывала попросить Романо помочь найти брата, но каждый раз останавливала себя. Романо был непреклонен в своих суждениях, особенно когда дело касалось Алехандро. Между ними всегда витало напряжение — и она знала, его помощь могла обернуться контролем... или последствиями, к которым она пока была не готова.
Но сильнее всего её терзала другая мысль: если отец сумел так легко отречься от неё — собственной дочери, — то что тогда ждёт Алехандро? Лукреция боялась даже представить. В их мире ошибки не прощали, а предательство каралось без пощады. Она знала, насколько жестоки могут быть эти правила, и страх за брата подтачивал её изнутри.
Лукреция лежала, уткнувшись в подушку, даже не пытаясь подняться. Простыни спутались вокруг тела, будто ловушки, из которых она не хотела вырываться. Мысли медленно кружились в голове, как осенние листья под ветром: обрывки разговоров, холодный голос отца, напряжённый взгляд матери, молчание сестёр... Всё смешалось, оставляя после себя лишь усталость.
За окном яркий солнечный свет постепенно потускнел, окрашивая небо в золотисто-розовые тона. День уходил, словно прощался, но Лукреции было всё равно. Она не шевелилась, не смотрела в окно — будто время застыло, а вместе с ним и она.
Дверная ручка щёлкнула тихо, и в комнату мягко вошёл Романо. Он закрыл за собой дверь, задержался у порога, несколько секунд просто смотрел на неё. Его взгляд был внимательным, почти тревожным. Затем он подошёл ближе и, не проронив ни слова, опустился на край кровати.
Его ладонь медленно скользила по её волосам, нежно перебирая пряди, будто он пытался успокоить не только её, но и себя. В этом движении не было спешки — лишь забота, тихая, тёплая, почти незаметная, как дыхание весеннего ветра.
Романо наклонился ближе, его губы едва коснулись её виска, и в этом поцелуи он вложил всю свою нежность и искренность. Дыхание было таким близким, что Лукреция почувствовала, как сердце забилось быстрее. Она зажмурила глаза, затаив дыхание, и в этот момент ей казалось, что вся ее душа еще болит, что что-то внутри нее всё еще не дает покоя.
— Лукреция... — выдохнул он, — тебе нужно хоть немного поесть.
Его голос дрогнул — не от раздражения, не от усталости, а от беспомощности. Он хотел сделать для неё всё, но знал, что есть вещи, которые она должна прожить сама. И всё, что он мог сейчас — быть рядом, быть терпеливым.
Она не ответила сразу, просто лежала, чувствуя, как его рука продолжает ласково скользить по её голове. Это касание было приятным, но она почему-то не чувствовала себя хорошо.
— Лу... — его голос стал чуть настойчивее, но всё ещё тёплым, обволакивающим, — вставай, прошу тебя.
Он коснулся её щеки, щетиной задевая нежную кожу. Она чуть поморщилась, но не открыла глаз.
— Ты сильная, я знаю. Но сейчас сила — это просто подняться с этой постели. Сделай это для себя. Для меня, если хочешь.
Он осторожно провёл пальцами по её скуле, потом обнял за плечи, медленно притягивая к себе.
— Я не прошу забыть. Не прошу простить. Я прошу жить, Лу. Не прятаться под одеялом, не растворяться в боли.
Она вздохнула. Тихо, почти незаметно, и медленно приподнялась, как будто тело сопротивлялось каждому движению, и взглянула на Романо. Ещё пару дней назад она даже не допускала мысли, что может быть ему не всё равно. Но сейчас... сейчас в его глазах было что-то другое. Волнение. Тревога. Почти страх. Неужели он и правда беспокоится о ней?
Сомнение снова заползло в её душу, холодной змейкой извиваясь под рёбрами. Да, он сказал, что учится любить ради неё. Но разве можно научиться этому так просто? За одну ночь? За несколько обрывков слов и прикосновений? Он не был тем, кто когда-либо смотрел на неё с теплом. Он был властью. Стеной. Тайфуном. А теперь — хочет быть чем-то больше? Быть рядом?
Лукреция не знала, готова ли она поверить. Вчерашнее признание вырвалось из неё на пике боли, растерянности и желания не быть одной. Но теперь, с новым утром, разум поднимал оборону. Может, свобода и правда — единственный верный путь?
— Что-то не так? — спросил Романо, уловив её затянувшееся молчание и взгляд, в котором отражалась внутренняя борьба.
— Нет, всё в порядке, — тихо ответила она, вставая с постели и накидывая на себя халат. — Пойдём поедим?
Она вышла из комнаты первой, не оборачиваясь, отрываясь от него и от себя прежней. На кухне на стойке уже стояли пакеты с едой. Лукреция открыла один — и сдержалась, чтобы не выругаться. В контейнере лежал греческий салат. Именно тот, который она терпеть не могла. Сухая фета, горькие маслины и резаные помидоры будто издевались над её усталостью.
Что ж, другое блюдо? В других пакетах она нашла пасту с морепродуктами и пиццу. Всё, что угодно, но не то, что она бы выбрала.
Раздражение взорвалось где-то внутри. Нет, она не ожидала, что он прочтёт её мысли. Но, чёрт возьми, за четыре месяца брака он ни разу не спросил, что она любит? Что вызывает у неё улыбку? Что для неё — «уют»?
Она начала раскладывать еду с лёгкой злостью, движения стали резкими, почти нарочито громкими. Этот салат — был как символ. Символ того, что между ними всё ещё зияла пропасть, за которой стояли чужие жизни, неразделённые вкусы и слишком много несказанных слов.
Через несколько минут в дверном проеме появился Романо. Он был переодет — на нём были простые шорты и ничего больше. Его обнажённый торс, покрытый лёгким загаром и испещрённый грубыми шрамами, был неожиданным зрелищем. Лукреция замерла на секунду. Она никогда не видела его таким. До этого момента он был олицетворением строгости — всегда в идеально скроенном костюме, с безупречно выглаженной рубашкой в светлых оттенках и гладко зачесанными волосами. Даже дома он не позволял себе расслабиться. А теперь... словно сбросил броню.
Он встретился с её взглядом и сразу уловил напряжение в воздухе. Взгляд Лукреции был колючим, губы сжаты в тонкую линию, руки по-прежнему раздражённо двигались — она раскладывала еду, как будто этим могла унять всё, что бурлило внутри.
— Тебе что-то не нравится, верно? — тихо, почти с вызовом произнёс он, подходя ближе. — Скажи об этом, Лукреция.
Эти слова, его спокойствие — будто щелчок. Лукреция резко сменилась в лице, глаза горели.
— Не нравится? — она едва не рассмеялась, но в этом смехе не было ни капли веселья. — Да, мне многое не нравится, Романо. Мне не нравится, что ты не знаешь, что я ненавижу этот чёртов салат. Не нравится, что ты четыре месяца жил рядом и ни разу не поинтересовался, что я люблю, чем дышу, что для меня значит "хорошо". — Её голос дрожал, но она не собиралась останавливаться. — Мне не нравится, что ты только сейчас начинаешь видеть во мне не жену по контракту, а человека.
Она отступила на шаг, сдерживая слёзы, которые подступили неожиданно.
— Ты говоришь, что хочешь научиться любить. А я... я даже не уверена, что ты знаешь, кто я, Романо.
Их взгляды сцепились в немом поединке.
— Ты, возможно, даже не узнал бы, что я играю и люблю музыку, если бы я тогда не села за рояль на именинах твоего отца! — выпалила она, голос срывался от сдержанной боли. — Ты говоришь, что когда я играю, я настоящая... Но знаешь ли ты ту Лукрецию, Романо? — Её грудь тяжело вздымалась. — Ты смотрел на неё... но ты даже не понял, каково ей. Как больно быть рядом с тобой и оставаться чужой.
Слёзы обожгли глаза, пальцы дрожали, но она уже не могла остановиться. Всё, что копилось месяцами — недосказанное, задавленное, — вырывалось наружу, вспышка, которую она больше не могла держать внутри.
— А что ты знаешь обо мне, Лукреция? — вдруг резко, холодно бросил он. Голос — лезвие. Лицо — камень. Вот оно. Стена, в которую она снова врезалась лбом.
Она застыла на мгновение, а потом горько, почти истерично рассмеялась. Смех с надрывом, с болью, с истощением.
— Ты серьёзно?.. — выкрикнула она, глядя на него сквозь слёзы. — Ты не можешь спрашивать меня об этом. Ты... ты отгородился ото всех с самого начала, как будто боишься, что станешь уязвимым. Ты построил вокруг себя крепость, и теперь удивляешься, что никто не знает, что внутри? — она прижала ладонь к груди. — Я пыталась. Чёрт возьми, я пыталась! Но ты не пускаешь никого ближе. Даже меня.
Голос дрогнул. И в этом дрожании — вся боль женщины, которая устала пытаться.
На самом деле она знала о нём куда больше, чем он мог себе представить. Но говорить об этом не собиралась — не сейчас, не в такой момент. Да, возможно, ей не были ведомы его глубинные раны, его тайны, то, что он прячет за холодной маской и стальными взглядами. Но она знала другое — простое, земное, настоящее.
Знала, что он пьёт только крепкий кофе без сахара, и каждый раз тихо морщится, если бариста добавляет молоко. Что его любимый цвет — белый, не потому что он чистый, а потому что в нём нет серости. Что ризотто с грибами — его слабость, и он почти всегда заказывает его, когда не знает, чего хочет. Знала про тот вишнёвый пирог, который готовит Валентина — и как он с братом до сих пор спорят, кому достанется последний кусок.
Она замечала, как он любит порядок, почти болезненно — всё по линеечке, всё на своих местах. И даже в спальне, в его личном, интимном пространстве, ни одна книга не лежала криво, ни один галстук не был смят.
Заметил ли он, что она переставила полки на кухне? Что изменила местами бокалы, добавила новые — высокие для вина, широкие для коктейлей, тонкие для шампанского... Всё это она делала для них. Чтобы он чувствовал, что теперь здесь не только порядок, но и жизнь.
Но, кажется, он не заметил. Или не придал значения.
А может быть, просто не хотел видеть.
— Лу... — его голос прозвучал глухо, словно слова застряли где-то в горле. Он, казалось, впервые действительно не знал, что сказать. Растерянность прорезала сталь его привычного спокойствия.
Но Лукреция лишь покачала головой. Устало, отрешённо.
— Не сейчас, Романо. Я устала говорить. — В её голосе не было злости — только разочарование. — Хочешь что-то доказать? Сделай. Но не словами. Действиями.
Едва фраза сорвалась с её губ, как он грубо притянул её к себе. Романо поцеловал её — жадно, с отчаянием, с той неуправляемой силой, с какой человек хватается за последнюю надежду. Его руки впились в её талию, его дыхание сбилось, будто он борется за что-то большее, чем просто близость.
Но Лукреция вздрогнула. Сопротивление вспыхнуло в ней, как пламя. Она оттолкнула его грудь обеими ладонями.
— Романо, нет! — выкрикнула она, а затем с шумным выдохом размахнулась и влепила ему пощёчину. Громкий хлопок ударил по тишине кухни, как раскат грома.
Он отпрянул, ошарашенный, не столько от боли, сколько от её реакции.
— Ты не видишь меня. Ты не знаешь меня, — голос её дрожал, но был твёрдым. — Тебе нравится идея обо мне. Музыка, картинка, что я хорошо выгляжу рядом с тобой. А теперь ты решил, что поцелуем можешь всё исправить? Это не доказательство. Это попытка заглушить. Меня.
Она развернулась, схватила коробку с пиццей и прошла мимо него, не обернувшись. Его взгляд жёг ей спину, но она не остановилась.
Когда дверь в её комнату закрылась, она прислонилась к ней спиной и выдохнула — долго, с надрывом. Казалось, этот миг сотряс ей всё сердце. Но она не могла позволить ему решать за неё. Больше — никогда.