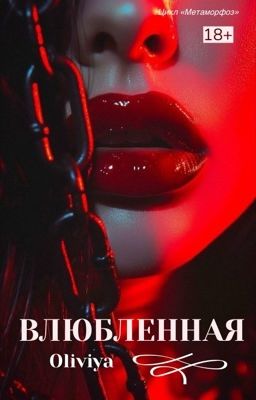Глава 13
Романо был на грани. Ярость внутри него бурлила, готовая разорвать изнутри, как вулкан перед извержением. Он поступил подло. И всё же не мог разобраться в себе: что, чёрт побери, заставило его оставить её в том проклятом отеле? Его мысли метались, как дикие звери в клетке, а в глазах пылал гнев.
Он ворвался в пентхаус, будто спасался бегством — не от кого-то, от себя самого. Подойдя к бару, он почти вырвал из стойки бутылку виски, не задумываясь, что именно пьёт. Ему было всё равно. Ему просто нужно было заглушить этот крик, этот пожар, который расползался по нему изнутри.
Глоток. Второй. Алкоголь жёг горло, горький, как собственная слабость. Но даже боль не приносила облегчения — только подливала масла в огонь.
Он остался стоять у бара, сжимая бутылку в руке. Дыхание сбивалось, грудь тяжело вздымалась. Внутри был мрак. Она ослушалась.
С внезапной яростью он швырнул бутылку. Стекло с оглушительным грохотом разлетелось по полу, разметав осколки — такие же острые, как его мысли, такие же разбитые, как он сам.
Романо стоял посреди этого хаоса, руки дрожали, взгляд стекленел. Это был конец. Конец его самообладания. И имя этому концу — Лукреция.
Он обернулся. Его глаза сразу остановились на рояле — том самом, который он купил ради неё. Ради её музыки. Ради тех моментов, когда она забывала, кто она, и просто играла. Он должен был бы разбить этот инструмент, выкинуть, стереть любое напоминание. Но не смог. Если он разрушит это — он разрушит её. А он не хотел причинять ей боль. Больше не хотел.
Медленно он подошел к инструменту и сел на её место, ощущая, как его тело тянет к этому простому, но наполненному воспоминаниями жесту. Руки, почти машинально, легли на клавиши, и он стал играть, не задумываясь, но ощущая, как музыка заполняет пространство. Он вспомнил, как когда-то, много лет назад, ещё подростком, он учился играть у Лауры Мартинес. Испанка, которая была на гастролях в Нью-Йорке, и её пригласили для выступлений в их клуб.
Тогда, в те времена, Романо был без ума от неё. Лаура была старше на шесть лет, и она никогда не воспринимала его всерьез. Но в тот момент, когда он впервые встретил её, казалось, что это была настоящая любовь. Он думал, что это безграничное чувство. Но сейчас, с каждым годом, с каждым разочарованием, он осознавал, что это было просто юношеской влюбленностью, тщетным желанием быть рядом с кем-то.
Лаура умерла у него на руках от передоза. Она никогда не раскрывала свою душу, но в её играх, в её музыке, он находил успокоение. Она не была для него больше, чем просто женщина, которая дарила наслаждение от секса и уносила его в мир звуков. Но теперь, глядя на этот рояль, он понял, что даже такие мимолетные, несерьезные отношения оставляют след в жизни.
Но вот с Лукрецией всё было иначе. Он не мог избавиться от чувства, что она была чем-то гораздо большим для него, чем просто жена. Он хотел защитить её, спрятать от этого жестокого мира, но всё, что он делал — обижал. Да, она была права — он не имел права запрещать ей видеться с братом. Он бы сам никогда не смог отказаться от своих близких, от Доменико или Элизы. Почему же тогда поступил так с ней? Ответ был прост — гордость. Он считал, что должен сохранять холодность и дистанцию, даже перед своей женой, даже в самые трудные моменты.
Но каждый раз, когда он думал об этом, его грудь будто сжималась от боли, как будто кто-то вырывал его сердце. Он хотел Лукрецию не просто телом, но всей душой. Его жгучая жажда не сводилась лишь к физическому влечению — он жаждал быть с ней, чувствовать её, дышать её запахом, видеть её взгляд, ощущать её прикосновения. Он мечтал о ней, как о своей жизни, о своей сути, о том, что держит его в этом мире. Она была для него недоступной драгоценностью.
Впервые он увидел её на банкете у Беллини. В толпе, полной лицемерных улыбок и политических масок, она выделялась — изящная, грациозная, словно не из этого мира. Её движения, её взгляд, её свет — всё в ней резко контрастировало с тьмой, в которой вращались они все. Но стоило ему узнать её фамилию — Моретти — как всё внутри сжалось. Враг. Их семьи веками стояли по разные стороны баррикад. Ничего не могло быть между ними.
Тогда он ещё не знал, что их судьбы соединит решение отцов — перемирие, скреплённое браком.
В ту первую брачную ночь он почти не дышал. Держал себя в руках изо всех сил, не позволяя желаниям взять верх. Он не прикоснулся к ней — не потому, что не хотел, а потому, что слишком сильно хотел. И знал: шаг вперёд может всё разрушить.
Но потом... Потом он услышал, как она поёт.
Этот голос — чистый, хрупкий, как стекло на грани трещины. То, как она закрывала глаза, теряясь в музыке, или напевала себе под нос, расчесывая непослушные, мягкие, светлые волосы. С каждым днём она сбивала его с толку всё сильнее. Он жаждал её. Страстно, мучительно. Но держался на грани. Из-за её возраста, из-за долга, из-за их общего прошлого.
А теперь он понял: она уже давно выросла. Мыслит глубже, чем он ожидал. И может быть, именно она — та, кто сильнее этой войны.
Романо с рывком стянул галстук, будто срывал удавку, которая душила его изнутри. Он бросил его на пол — как проклятие, от которого хотелось избавиться. Следом за ним — пиджак, а затем, он расстегнул верхние пуговицы рубашки, оголяя грудь, тяжело дыша от переполняемых чувств.
Он поднялся, собираясь убрать разбитое стекло у бара чтобы хоть что-то контролировать в этом хаосе. Но дверь вдруг приоткрылась.
И вошла она.
Холодная, безмолвная, грациозная — как шторм, надвигающийся на рассвете. Ни одна эмоция не дрогнула на её лице, но её присутствие перекрывало воздух.
Он застыл. Дыхание сбилось. Мысли исчезли. Она встретила его взгляд — прямо, твердо. Ни капли слабости, ни капли сомнения. Её глаза медленно скользнули по комнате: на осколки бутылки... на рояль... на него. А потом снова — в его глаза.
— Я пришла за вещами, — произнесла она и направилась в сторону спальни.
— Это... твоё решение? — его голос прозвучал хрипло, словно сорвался с края эмоций, которых он больше не мог сдерживать.
Она остановилась. Но не повернулась.
— Нет, Романо. Это было твоё решение. Ты сам сказал, чтобы я не попадалась тебе на глаза, — её голос был холодным, как лёд, обжигающим сильнее пламени. И когда он схватил её за руку, она резко дёрнулась, пытаясь вырваться.
Но он не отпустил.
Его пальцы сомкнулись крепче, как будто она — единственное, что ещё держит его на плаву. В следующее мгновение он приподнял её, легко, будто она весила ничего. Посадил на край фортепиано, вжимаясь ближе, в ту самую грань между сдержанностью и отчаянием. Его сердце колотилось, взгляд — обнажённый, не прячущийся больше за гордостью.
— Не уходи... — прошептал он, будто это было всё, что у него осталось.
— Я устала, Романо, — её голос зазвучал тихо. — Ты то холоден, как лёд, то внезапно нежен. Кто я для тебя? Обязанность перед отцом? Или просто красивая трофейная жена, которую не стыдно вывести в свет?
Она смотрела прямо на него — без слёз, без истерик. Просто до предела искренне.
Он протянул руку, провёл пальцами по её щеке — медленно, почти нерешительно, будто боялся, что она исчезнет, рассыплется, если прикоснётся сильнее. Она не отпрянула, но и не приблизилась.
— Ты для меня всё... — хрипло произнес он. — Мне невыносимо без тебя, Лукреция. Я не умею говорить красиво. Не умею правильно чувствовать. Но... я хочу учиться. Ради тебя.
Её лицо оставалось спокойным, но глаза дрогнули. И через мгновение она подалась вперёд и поцеловала — мягко, осторожно, как будто в этом поцелуе держалась надежда, которую нельзя было спугнуть.
Романо ответил сразу, будто ждал этого всю вечность. Его поцелуй был другим — глубоким, наполненным всем, что он так долго прятал: тоской, желанием, страхом потерять. Его руки скользнули вниз, обхватили её бёдра и сжали крепко, будто пытались вырезать в памяти каждый изгиб, каждое движение её тела. Он не мог отпустить. Не теперь, когда наконец позволил себе почувствовать.
Лукреция замерла, растерянная, словно её тело не знало, как правильно двигаться, как отвечать — и в этой скованности, в этой робкой неуверенности, Романо нашёл нечто большее, чем просто влечение. Она была не тронута никем, не изуродована чужими руками или взглядами. В её теле, в её дыхании, в её смущении была невинность — настоящая, не показная. И она принадлежала ему. Только ему.
Он отстранился на несколько сантиметров, чтобы взглянуть на её лицо — смущённое, трепетное, такое живое. Чёрт, она была невероятна. Этот лёгкий румянец, вспыхнувший на щеках, делал её ещё более притягательной, почти неземной. Он не мог отвести взгляд.
— Я хочу видеть тебя, малышка, — прошептал он, прикасаясь губами к её. Его голос был низким, обволакивающим, и в нём слышалась не только страсть, но и восхищение.
Лукреция не ответила словами — лишь кивнула едва заметно и опустила взгляд, поняв, чего он просит. Сначала она медленно стянула с себя футболку, неловко, словно делала это впервые, и на мгновение прикрыла грудь руками, будто инстинктивно защищаясь. Но потом, вдохнув глубже, опустила руки и перешла к брюкам.
Пальцы дрожали, когда она расстёгивала пуговицу. Поднявшись с инструмента, она чуть потянула за ткань, и та мягко соскользнула вниз по ногам, обнажая стройное, тонкое тело. Она стояла перед ним почти беззащитная, но в этом не было слабости — лишь искренность и желание быть настоящей. Только для него.
— До конца, Лукреция, — голос Романо был прерывистым от желания, почти шепотом, как будто признание, — покажи мне всю себя.
Её дыхание сбилось, она медленно, чуть дрожащими руками расстегнула бюстгальтер. Ткань соскользнула с плеч, обнажая грудь, и Романо заметил, как её соски уже напряглись от напряжения и возбуждения.
Когда её руки скользнули к тонким кружевным трусикам, она на секунду замерла — то ли от стеснения, то ли от нарастающего чувства уязвимости. Всего пару минут назад она стояла перед ним с ледяным взглядом, а теперь — нежная, смущённая, почти робкая. Он не мог не улыбнуться этому контрасту.
— Я помогу... — прошептал он, опускаясь перед ней на колени.
Его пальцы бережно коснулись кружева, стягивая его вниз с её бёдер, с колен, с щиколоток, будто это было священное прикосновение. А потом, не поднимаясь, он склонился к её коже, оставляя лёгкие поцелуи на внутренней стороне бедра — медленные, чувственные, будто выстраивая путь к самому центру. Лукреция с затаённым дыханием прикусила губу, когда почувствовала, как его горячее дыхание коснулось самого сокровенного.
Он провёл языком по её чувствительной плоти — медленно, с наслаждением, будто смакуя её вкус. Стоны Лукреции прорезали тишину, наполненную напряжением и страстью. Романо жадно впитывал каждый её звук, словно это была музыка, написанная только для него.
Её ноги задрожали от охватившего тела волнения, и он, поднявшись, мягко подтолкнул её к дивану. Лукреция послушно опустилась, глаза её были затуманены, дыхание — рваное, но в этом смущении и растерянности было нечто бесконечно трогательное.
Он начал расстёгивать рубашку, затем сбросил брюки, двигаясь уверенно и не отводя от неё взгляда. Когда его обнажённое тело полностью предстало перед ней, она слегка отвела глаза, а потом снова взглянула — с неуверенностью и почти детским стыдом. Она никогда не видела мужской эрекции, и это было новым, пугающим, но в то же время захватывающим.
Романо чуть усмехнулся — не с насмешкой, а с нежностью. Её искренность, её невинное удивление заводили его сильнее любых слов.
Романо уложил её, его тело нависло над ней, сильное, уверенное.
— Будет немного больно, но я буду осторожен, — его голос прозвучал у самого её уха, перед тем как его губы опустились к её шее. Он двигался медленно, оставляя влажную дорожку по её коже, скользя ниже — к груди. Когда его губы сомкнулись вокруг её соска, мягко посасывая, Лукреция застонала, выгибаясь навстречу ему, теряя контроль.
Его рука скользнула вниз — осторожно, исследующе. Один палец вошёл медленно, с почти бережной нежностью. Затем второй. Он двигался неторопливо, наблюдая за каждым её вдохом, каждым дрожанием ресниц, подготавливая к большему. Лукреция не знала, что делать с собой — внутри боролись смущение и жажда. Она инстинктивно пыталась прикрыться, но его прикосновения, такие уверенные, такие внимательные, будто растворяли в ней всякое сопротивление.
Романо перехватил её запястья, поднял их вверх, укладывая на подлокотник дивана. Его руки были крепкими, но прикосновение — мягкими. Взгляд не отрывался от её лица, когда он вошёл в неё, сначала лишь касаясь кончиком, входя по миллиметру, чувствуя, как её тело принимает его, сжимается вокруг его твердого члена.
Она зажмурилась, прикусив губу — боль пронзила её, но она не оттолкнула его.
Романо остановился. Его ладонь легла ей на щёку, и он наклонился, целуя её — нежно, глубоко, чтобы успокоить, чтобы отдать ей свою тишину взамен её тревоги.
И тогда, уловив момент, когда её дыхание стало мягче, он вошёл в неё резче — уверенно, до конца, с той самой страстью, которую держал в себе слишком долго.
Он двигался в ней — глубоко, размеренно, сдержанно, словно старался удержать грани, но каждая секунда рядом с ней их стирала. Её кожа казалась огнём, её запах — безумием. Она больше не пыталась спрятаться. Не прятала взгляда, не отворачивалась. Её глаза нашли его — распахнутые, уязвимые, настоящие.Лукреция сомкнула ноги вокруг его бёдер, будто хотела впустить его не только в тело, но
и глубже — туда, где пряталась её тишина, её страх, её любовь.
Романо довел ее до оргазма, и в её теле прошла волна дрожи — глубокая, искренняя, без остатка. Романо едва сдержался, чтобы успеть вырваться, и горячее семя пролилось на её живот, оставляя на коже след своей одержимости.
Он замер на секунду, глядя на неё, а потом встал, исчезая в тишине квартиры. Спустя пару минут вернулся держа в руках мягкие салфетки. Его движения были бережны, почти трепетны, когда он вытирал следы страсти с её тела. Ни в одной черте его лица не было пошлости — только сосредоточенность и нежность.
Затем он наклонился, протянул ей руку, помогая подняться. Она вложила свою ладонь в его, и он повёл её в спальню, не отпуская ни на мгновение.
— Я наберу тебе ванну, — сказал он тихо, входя в ванную комнату и поворачивая кран. Тёплая вода зашумела, и в этом звуке было что-то умиротворяющее — как будто всё внешнее исчезло, осталась только она... и он рядом.