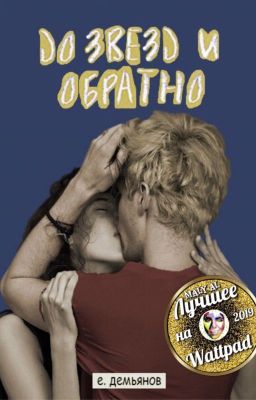Глава 14
Тюльпаны клумб аэропорта Схипхол вяли подо снегом, а Эль радостно катила чемодан к стоянке такси. Я хватался за ручку чемодана и помогал катить его, сияя. Перед нами распростерся родной Схипхол, скоро я встретил бы и mama, и Харберта. Наверняка, он много думал обо мне и об Эль и заждался. И если Клаус увидел бы мое чудо, понял, какая она чудесная. Да, черт, Эль просто прекрасна!
Таксист подскочил и повалил ее чемодан в багажник. Эль распахнула заднюю дверь и пихнула меня в салон, когда мужик скрылся, и так, как и в Нью-Йорке, коснулась моей руки.
- До Хитроу, дом пять, - кивнула Люци.
Он кивнул. Я и Эль засмотрелись в Амстердамское небо, мчались в отель «Телепорт», то есть чертпоймикуда, где я не был. «Телепорт» находился у стадиона Спирингхорн.
Мы поселились в номере двести два. Стену над изголовьем кровати исчеркали рисунком попугая ара. Он следил за нами даже в постели, смотрел, как спит Эль, а я наблюдаю за ней. Эль разбросала вещи из чемодана по постельному, а я присел на кровать. Она старалась сообразить, где я, бегала по номеру, обещая включить диктофон. Когда пятый раз она удосужилась забежать в ванную, я вынул мобильник из ее пальто и швырнул на подушку. Я утрамбовал кнопку, когда Эль вышла.
- Устала? - спросил.
- Жуть, - Эль откинулась, ее майка смялась и оголила живот. - Здесь так красиво, почему ты раньше мне не рассказывал, как здесь красиво?
- Для меня это место вполне привычно, - я прилег и повернулся.
- В центре еще красивей?
- Конечно.
Мы вздохнули.
- А на Сингел? - Эль спросила.
- Там чудесно... - я куснул губу, взглянул в зелено-карие глаза Эль и погладил ее по щеке.
«Там чудесно» повторил ван Белль.
***
К дому на Сингел напротив Цветочного рынка мы притащились в 17:35, когда mama возвращалась домой. Мое сердце выпрыгивало из груди, я засунул кисти в карманы и наблюдал за Эль, как она стучала в дверь. Колени у меня пошатывались. Когда Эль постучала четыре раза, я понял, что mama дома нет. Тогда мы просто примостилась у дверей, на верхней ступени крыльца.
Вода в канале журчала, снег таял.
Локоны mama поседели. Mama исхудала, ее голос осип, и ноги ее не держали. Она вытекла из такси, хлопнула дверью и запустила руку в сумку за связкой ключей. Те выпали из ее ладоней, пока mama еще не увидела Эль, она наклонилась у порога и подняла связку.
- Вы ко мне? - спросила mama, не узнав Эль.
После mama обомлела.
- Здравствуйте. Я к Вам. Я Эль, девушка Аве.
Mama молча завела нас в дом, и я застыл у зеркала. В нем я не отражался, но, уверен, выглядел я уродски. Mama удивлялась. Шарф Эль перестал огибать шею, пуговицы расстегнулись, пальто свешалось, сапоги слетели. Чудо ступила на дощечки и, я знал, точно уловила запах хлеба, яблок и газет. Она сжала ручки и, такая робкая, приютилась на багровой софе, а я рядом.
- Да, присаживайся, милая, - кивнула mama.
Взгляд Эль помчался по лестнице, она знала, что наверху моя комната, помчался по полкам, шторам, за шагом mama. Та зашла на кухню и поставила чайник на газ, стараясь собраться с силами. Mama знала, что Эль примчалась в Амстердам из Нью-Йорка.
Мой запах сохранился в доме и после моей смерти. Mama мучилась, что сказать, да и Эль тоже. Родная подсела к Эль, обогнув софу, и рассмотрела ее.
- Какая ты все-таки красивая, - mama поднесла кисть к губам. - Он так любил тебя, - она погладила себя по коленке. - Все время о тебе говорил.
Эль посмотрела сквозь меня, будто знала - я здесь, стою у фотографий. Тогда mama проследила за взглядом чуда вплоть до полок, вздохнула и встала. Mama смотрела мне в глаза. От каблуков, что она уже сняла, у нее болели ступни. Mama смела с рамки пыль, дунула на пальчик и взяла фото. Порыжевший к лету ван Белль, весь в веснушках, лыбился на фоне Кекенхофа. Мне тогда исполнилось пятнадцать. Я не терпел праздновать день рождение, а цветочки поднимали мне настроение, поэтому я умолил mama свозить в Кекенхоф.
Mama притиснулась к Эль и вручила рамку. Я оперся на подлокотник, по правую руку Эль, и рассматривал фото.
- Это в его день рождения. Ему исполнилось пятнадцать, до сих пор помню, как Аве умолял съездить в Кекенхоф.
Эль стиснула губы, и ее пальцы дрожали.
- Как ты здесь? - спросила mama.
- Мне хотелось побывать в Амстердаме, - Эль заикалась.
- Впрочем, это чудесно, милая. Мне кажется, тебе стоит кое-что увидеть. Аве наверняка хотел, чтобы ты увидела это. Пойдем.
Мама ступила на лестницу, а Эль до сих пор скрючивалась на софе. Она придерживала рамку у груди и потопала за mama в мою комнату. Там, как нигде, сохранялась вонь красок. Я встал в проеме дверей, по коже прошел жар. Эль обомлела. Она видела комнату лишь по видео, а тогда увидела вживую. Эль не могла шагнуть, mama тоже. Под письменным столом гнили коробки с моими записями, на окне пересох портрет Эль. Тогда чудо отодрала шторку, оставив mama фоторамку, и взяла холст.
Слеза скатилась по ее щеке.
- Он не говорил мне про него, - сказал Эль.
Она села на кровать, а mama вытащила из под стола коробку и поставила на койку. Эль оставила портрет и открыла коробку, и вытащила глыбу бумаги. Пожелтевшей и мятой, как фантики. Она пролистала все и начала откладывать в стопку. Кисти Эль дрожали и замерли на одном письме.
С первого этажа тянулся визг чайника, и mama понеслась вниз, а я с Эль застыли. Мне хотелось, чтобы когда-нибудь она прочитала вот так вот мои записи.
«Эль Люци Сантане
Когда ты написала мне четвертого января, я подумал: «Черт возьмись, это же девушка из моей долбанных и мечт, да ладно!?» И я весь сиял. За пару дней до нашего знакомства я наткнулся на кучу дерьма и умолял нечто спасти меня, вытащить из всего этого... И, кажется, ты стала этим нечто. Мне кажется, я влюбился в тебя за секунду, хотя нет, я влюблялся в тебя очень медленно. Я не знаю, как это стало возможным, ведь между нами рассекается океан, но когда я слышу твой голос, вижу тебя, вижу твои сообщения, я всем нутром ощущаю любовь к тебе.
Спасибо тебе, что рассказывала и рассказываешь сказки мне и читаешь стихи. Я до сих пор помню стих Джио Россо, что ты прочла первым. «Кафельный пол, на стенах трещины, водопроводная связь/я бы любил тебя, даже если бы ты не родилась».
Это мое 26 письмо тебе. И будет еще 154269824763 писем. Просто я вспомнил то четвертое января и решил записать, что думаю. Оставлю письмо на память, возможно, в будущем, когда женюсь на тебе, прочтешь.
С любовью,
Твой Милый А».
Mama терлась в пороге со стаканами кипятка. Фото с Кекенхофа она унесла.
- Вы читали его письма? - спросила Эль, подтирая слезы.
- Нет. Он запрещал даже подходить, когда писал. Я иногда замечала, конечно, краем глаза, - mama сглотнула.
- Как Вы думаете, он слышит нас?
- Конечно, - mama отпила кипяток, а другой стакан подала Эль. - Мне так его не хватает, - сглотнула mama и в ямочку у нее закатилась слеза. - Иногда у меня бывает ощущение, будто он обнимает меня со спины и не отпускает.
Mama холодала.
- Мне кажется, я тоже его чувствую, - прижала бумагу к груди Эль.
- Я тоже его чувствую, кроха, - mama улыбалась и готова была разрыдаться перед Эль.
***
Я ожидал, что за месяц Пим перестанет бухать. Но когда он ворвался в дом и швырнул кроссовки в сапоги Эль, выпучился, мол, что за гости, из его пасти снова пустилась вонь алкоголя. Черт подрал его! Мужик упал на стену, упал на софу. Я выбежал на лестницу, и он не успел свернуться, как и mama спустилась на первый этаж. Эль оставалась листать бумажки и точно слышала ор.
- Стефа-ана! - Пим поднял башку и вновь свалился. - Кх-кто там? - он поднял руки. - У нас гости, Стефана??? Мне надо поздороваться ведь, сейчас, сейчас я встану! - он привстал на локти.
- Пим, черт тебя подери, алкаш чертов, не кричи на весь дом! - mama скрестила локти.
Я посмотрел на верх лестницы, услышав шаги милой. Она прижимала глыбу бумаги, что уменьшилась в габаритах, к груди и вытирала слезы. Она спустилась и кивнула Пиму, а я стоял, приковав руки к бедрам, не знал, что делать. Мои ладошки вспотели.
- Я думаю, мне лучше уйти, - заикнулась чудо. - Я возьму это?
- Да, конечно, милая, - задрала голову mama. - Сядь нормально, - она дернула Пима.
- Приве-ет, - протянул тот.
И Эль кивнула.
- Подожди, милая, - начала mama. - Не хочешь прогуляться?
- Хорошо.
***
Музей бриллиантов находился у сборища других: Рейксмузея, музея ван Гога, Моко-музея и Стеделейка. Помню, выставка начиналась со второго этажа, ведь на первом торговали безделушками, и велась на третий, а четвертый перегородили лентой. Mama завела Эль Люци Сантану туда, сказав, что это ее любимый музей, и любая дама обязана побывать там. Она хлопала солнце по плечу, поджимая к боку сумку. Мы сели на двенадцатый трамвай, перейдя через канал, и вышли на остановке «Рейксмузей». Мне нравилась поляна около, порой у музея ван Гога играли саксофонисты, а на лавках спали бездомные, но не суть.
В общем, мы поднялись на крыльцо и зашли в музей. По правде, мне не хотелось идти. Я мог сходить в музей гашиша или марихуаны, или проституции. В музей проституции меня живым не пускали, мне было всего семнадцать. Мне и сейчас семнадцать, только теперь я могу делать все, что захочу. Дело еще в том, что у меня есть Эль... Короче, мы с любимой пошли не в музей проституции, а смотреть камушки.
В залах было тихо, лишь фильм из одной черной комнаты об обработке бриллиантов нарушал тишину. Mama и Эль молчали, а я готов был разораться. Когда мы обошли все вплоть до бриллиантового черепа на третьем этаже, mama застыла у экспоната около лестницы, застланной синей дорожкой, а я присел на ступень и вытянул лапы. Эль посмотрела сквозь меня и заметила, как я смял дорожку. Тогда она села тоже.
- Устала? - спросила mama, обернувшись, и Эль кивнула.
Эль коснулась моей руки и провела ей сквозь.
- Извини, что не отвечала на звонки и не сразу сказала об Аве, - mama оперлась на перила.
- Я понимаю Вас, это тяжело.
Я опустил взгляд в пол, перебрасываясь на ботинки Харберта Клауса.
- Когда случился пожар?
- С двадцать пятого на двадцать шестое, - mama опустила взгляд. - Это наша вина. Не стоило никуда ехать вообще. И они такие глупенькие - Аве с Монно. Кто ж знал, что они выпьют? - mama сглатывала.
Какого терять сына?
- Это не Ваша вина, мэм.
Я соглашался с Эль. Виноваты только я и Монно.
- Он слышит Вас и очень любит, - сказала Эль.
- Да... - кивала mama.
Мое сердце сжалось. Я посмотрел на Эль. Потом на mama. Потом вновь на Эль. Ее лицо багровело, а пальцы вцепились в синюю дорожку. Тогда я потянул ее складку джинсов.
- Тише, - я шепнул. Ты должна хоть чуть без этих мобильников и бумажек слышать меня.
Как бы грубо не звучало, но я начинал понимать, что Эль и mama могли начать жить без меня. Mama дальше могла б ходить в офис и рассказывать шутки Пиму за ужином. Эль могла окончить колледж и работать, и завести семью. Но я вогнал их в Амстердам, и теперь мы сидим на ступеньках и рыдаем. Я привык, что я мертвый. Но я не привык делать больно другим тем, что я мертвый. И это ужасно, правда. Я начинал понимать, что mama придет домой и расплачется у моей фотографии, а Эль уставится в потолок и будет стараться сдержаться. А я буду материть Мальборо за то, что убило нас всех.
Нужно просто оставить все и улетучиться. Харберт Клаус говорил, что так легче. Какая разница, если я даже понимать не буду, что меня нет.