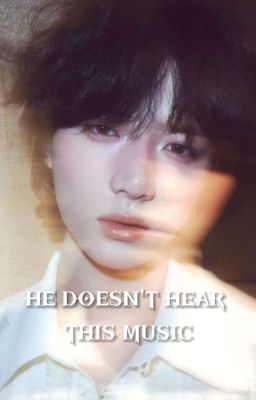Спи спокойно, влюблённый идиот
***
Ёнджуна не было в школе уже месяц. Он словно выпал из учебной жизни — исчез, стерся, как мел с доски после последнего звонка. Всё это время он крутился между подработками, как белка в колесе, пытаясь не утонуть в нищете и бесконечной усталости. Он давно перестал считать, сколько часов спал за ночь, сколько раз пропустил приём пищи и сколько раз слышал свой телефон, когда звонили учителя. Они пытались достучаться до отца. Но отцу… было ровным счётом плевать. Его безразличие звенело в трубке гулкой пустотой.
И всё же, как ни странно, казалось, будто в жизни Ёнджуна наметился тонкий, почти невидимый луч света — он научился выживать. Он почти привык к одиночеству, к холоду в квартире и к тому, что тишина иногда оглушает громче любого крика. Даже с отцом, каким-то чудом, начались едва уловимые подвижки — не тепло, нет, но хоть какое-то подобие разговора.
Но в тот вечер всё пошло прахом.
В квартире снова начался шторм — громы, молнии, раскаты гнева. Отец орал, будто сорвался с цепи, срывая на Ёнджуне очередной приступ вины, тоски и ненависти.
— Это ты! Это из-за тебя она умерла! Ты убил мою любимую!
Ёнджун стоял, как скала, долго. Но на этот раз сердце его не выдержало. Он не был мальчиком, который будет вечно молчать. В груди у него рвалась буря, и слова вырвались, как лава из вулкана.
— Да ты вообще слышишь себя?! Я твой ребёнок! РЕБЁНОК, чёрт побери! Почему ты вымещаешь всё на мне? Не только меня убиваешь, но и себя топишь. Очнись уже, отец... не будь уёбком.
Дверь захлопнулась с таким звуком, будто это сердце хлопнуло последним ударом. А за ней — тишина. Нет. Сдавленные, трескучие всхлипы. Как будто всё зло вышло наружу и осталось только горечь.
Утро встретило его холодным светом и щемящим ощущением "опять всё сначала".
«Бля, снова пахать, снова тащить на себе...» — подумал он, не в силах подняться с кровати.
И вдруг — скрип двери. На пороге отец. Такой... будто с него стерли злость.
— Давай поговорим.
Ёнджун не верил глазам. Его отец смотрел прямо, не пряча взгляд.
— Я найду... постоянную работу. Извини... сын. Иди в школу. Пора.
И в этот момент весь мир на секунду выдохнул.
Ёнджун чувствовал, как где-то внутри него крошечная искра надежды — как забытая свечка в заброшенном храме — вновь вспыхнула. Может, не всё потеряно. Может, впереди действительно будет утро.
Он шёл медленно, будто впервые в жизни мог позволить себе не спешить. Под ногами хрустел влажный гравий — дорога была знакомой до боли, но сегодня она казалась иной. Воздух тёплый, наполненный запахом свежей земли и набухающих почек, говорил о том, что скоро май. Совсем скоро. Ещё чуть-чуть — и всё зазеленеет, распустится, оживёт. И может быть, оживёт и он сам.
Он шёл в школу. Как-то даже странно. Вроде бы ничего особенного — та же форма, тот же ранец, та же улица. А всё внутри будто дрожит, переливается чем-то новым, непривычным. Точно кто-то смазал грани реальности — и теперь всё кажется мягче, теплее, чище.
Зашёл в круглосуточный, взял мороженое. Самое обычное — в вафельном стаканчике, с ванилью. Оно начало таять почти сразу, но Ёнджун не торопился. Он шёл и ел, глядя по сторонам. Словно впервые замечал, как солнце цепляется за оконные рамы, как ветер шевелит молодые листья, как кошка зевает на подоконнике.
Он никогда раньше не рассматривал природу — не было ни времени, ни желания. Всё это время он существовал, как человек, который живёт в режиме тревоги: где заработать, как не сорваться, как не развалиться. А сейчас… сейчас будто кто-то убрал камень с его груди. Или просто сделал паузу.
Может, ничего и не изменилось. Может, всё это — иллюзия. Но именно в этом утре, в этой весне, в этой дороге в школу была такая хрупкая, почти незаметная надежда, что всё-таки — всё налаживается. Или хотя бы может наладиться. И это уже что-то.
Ёнджун дошёл до своей всеминенавистной школы — здания, которое с каждым годом казалось всё более давящим, как будто стены сжимались, не давая дышать. Она стояла, унылая и выцветшая, словно покрытая пылью равнодушия, как и большинство людей внутри. Те же облезлые стены, тот же скрип ступеней, тот же запах чернил, линолеума и чужой усталости.
Он прошёл сквозь проходную, перекинул рюкзак за плечо и стал подниматься на третий этаж. Шаги глухо отдавались под подошвами, мысли были разбросаны — от утреннего разговора с отцом, до нелепого облегчения от того, что он хотя бы снова учится. И правда, всё будто бы стало немного лучше. Или хотя бы не хуже. Воздух пах почти маем: чуть влажно, зелено, терпко. Весна начинала просыпаться.
Позади послышался топот других учеников — трое парней, судя по голосам, не особенно спешили. Ёнджун машинально сбавил шаг, не желая влезать в их разговор. Он даже не пытался вникать, пока вдруг не услышал имя, от которого у него внутри всё резко застыло.
— Говорят, Бомгю, ну тот с аппаратами, спит со всеми подряд. Шлюха он, походу, конкретная, — лениво бросил один, с тем мерзким удовольствием, с каким любят обсуждать то, чего не понимают.
— Ага, и с Кан Тэхёном, вроде, мутит. Их у клуба видели. Ну, а чего ему париться — бабла же до фига, — подхватил второй с усмешкой.
— Может, ему просто внимания не хватает, — хмыкнул третий, и в его голосе прозвучала откровенная насмешка.
У Ёнджуна внутри будто включили сирену. Всё в теле напряглось — от плеч до пальцев. Он не повернулся, не выдохнул, не подумал — просто кулак сам сжался, словно тело знало, что делать, раньше головы. Ноги сами развернулись, и прежде чем он успел хоть что-то осознать — его рука уже врезалась в челюсть того, кто говорил первым.
— Ты чё, ох— — начал тот, но договорить не успел: с глухим звуком он осел на ступени, хватаясь за лицо, из носа тут же потекла кровь.
Ёнджун смотрел на него сверху вниз, тяжело дыша. И впервые за долгое время — не чувствовал вины. Не чувствовал страха. Лишь ярость и презрение. В нём что-то хрустнуло, что-то, что долго терпело и копилось, пока не лопнуло.
Конечно, в этот момент где-то сзади раздался голос учителя. Почти театрально вовремя.
— Что тут происходит?! — грянул он. — Немедленно к директору, оба!
И вот Ёнджун, с каменным лицом, шёл по коридору вместе с парнем, который прижимал к носу салфетку и шипел от боли. Вокруг уже начинали сновать любопытные взгляды — как всегда, школьная драма разносилась быстрее ветра. Но ему было плевать.
Плевать на кабинет, на выговор, на последствия.
Потому что внутри только и звучала одна мысль: "Какого чёрта вам не стыдно?"
Их отчитывали минут двадцать — с притворной строгостью, с усталой, заученной риторикой о морали, дисциплине и "лице школы". Но всё, к счастью, закончилось почти ничем: формальным выговором и кислым "впредь не повторяй". Ни звонков родителям, ни разговоров "на особом контроле". Всё обошлось.
Ёнджун вышел из кабинета без эмоций. Не то чтобы облегчение — скорее пустота. И когда он понял, что урок наполовину пройден, решил: пусть тогда и вся пара пойдёт прахом. Он свернул в сторону туалета, как будто именно туда вела единственная тропа от всей этой гнилой школьной сцены.
Вода из крана текла тёплая, почти ласковая. Май стучался в окна, но холод цеплялся за кожу. Он рассматривал свои руки: покрасневшие, шероховатые от весеннего ветра и дешёвой работы. Водил ими под струёй, будто смывал не только холод, но и усталость, злость, чужие голоса.
И вдруг — всхлип.
Он не обратил внимания. Мало ли кто сейчас в кабинке заливает слёзы — не его дело, не его жизнь. Второй всхлип — громче, резче. Он поморщился. Третий — почти вопль, в котором больше боли, чем слёз.
И тогда сорвался:
— Эй, придурок, потише можно?! Раздражаешь уже. И вообще — высморкайся, не мучай себя, долбоёб…
Тишина. Только шум воды, дыхание — и будто сердце замирает.
Но вместо ответа — рыдание. Такое, что будто у ребёнка в груди лопнуло что-то хрупкое. Ёнджун шагнул ближе. Остановился. Глянул в щель между дверцей и перегородкой — и сердце ухнуло вниз.
— …Бомгю?.. Ты? Ну хорош уже… Хнычешь, как девчонка.
Пауза. Он хотел пошутить, уколоть. Но тишина длилась дольше, чем нужно. И вдруг — надломленный, дрожащий голос:
— Я всё равно… глухой мальчик… прости… я не… услышу…
И в этот момент всё вокруг замолкло. Даже вода, казалось, перестала течь.
Ёнджун стоял у двери, будто к полу пригвоздило. Холодная плитка под подошвами, чуть влажная от старой уборки, казалась ледяной. За спиной — вода, всё ещё тонкой струёй стекающая с его рук в раковину. Перед ним — невидимая стена, в которую он упирался всем телом, всем сердцем.
Из-за двери доносились всхлипы. Уже не те — не сдержанные, не попытки спрятаться. Эти были оголёнными, беззащитными, настоящими. Будто кто-то там внутри крошился на части и даже не пытался собрать себя обратно.
И Ёнджун будто бы понял — не вдруг, не резко, а как удар ветра в спину, когда стоишь слишком близко к краю. У него внутри всё сдвинулось, как будто на мгновение сердце перестало гудеть своей обычной болью и пропустило чужую.
Он вспомнил — как закричал тогда на Бомгю, как швырял словами, будто камнями. Как глаза Бомгю округлились, а потом потухли. Всё потому, что на работе была каша: начальник, деньги, которых опять нет. Он был как оголённый провод — искрил и жёг, и тот, кто оказался рядом, просто попал под ток. А может… может, дело было не только в этом. Может, в глубине — в очень глубокой и глупой обиде: за тот дождливый день, когда он ждал. Мокрый до костей, дрожащий от холода и ожидания. А Бомгю не пришёл.
И теперь он стоит здесь, будто во время замерло, и слышит, как там, за перегородкой, ломается человек, которого он… возможно, даже не ненавидел. Ни тогда, ни сейчас. Просто не знал, что с ним делать.
Руки всё ещё тёплые от воды, но внутри опять стынет. И он не знает, как быть. Подойти? Открыть рот и сказать "прости"? Или просто посидеть рядом в тишине, пока Бомгю не перестанет дрожать?
Нет. Он делает шаг назад. Не потому что не чувствует. А потому что боится. Боится, что снова сломает. Что скажет что-то не то. Что Бомгю оттолкнёт его — справедливо.
Он разворачивается и уходит. Неспешно, будто ноги тянут якоря. И только в голове гудит одна мысль: "А вдруг я всё-таки ещё могу это исправить? Но не сейчас… не сегодня".
***
Прошла неделя, но тишина между Ёнджуном и Бомгю оставалась незыблемой, как стена, выстроенная из недосказанных слов и неразрешённых вопросов. Каждый день был похож на предыдущий: Бомгю по-прежнему избегал его взгляда, и даже случайные касания будто обжигали. Они поменялись местами с Джихеном, тем самым одноклассником, который всегда был на грани с невидимостью. И вот, Ёнджун сидел у окна, словно на пустом острове, окружённом бурей одноклассников, но всё равно одинокий — взгляд его терялся в оконной раме, как если бы он пытался найти что-то или кого-то в бесконечном просторе.
С каждым днём школьные будни становились серыми, без ярких пятен. Люди рядом шептались, обсуждали, но было ощущение, что никто не замечает, как Ёнджун изменяется. Он по-прежнему оставался в своей оболочке — сдержанный, спокойный, молчаливый, но если присмотреться внимательнее, можно было увидеть, как он немного медленнее отвечает на вопросы, немного меньше смотрит в лицо, как будто на какой-то момент теряет контакт с этим миром.
Учёба стала легче. Он отказался от дневной подработки — по настоянию отца, который наконец нашёл постоянную работу. Отец, который раньше почти не показывался дома, теперь приходил, уставший, но целеустремлённый. Он не рассказывал, что именно делает, и Ёнджун не спрашивал. Это не имело значения. Важно было другое — впервые за долгие годы в доме снова ощущалась стабильность. Тот уютный, незаметный порядок, которого всегда не хватало.
Но от вечерней и ночной работы он не отказался. Тот уголок жизни, который был его единственным способом зарабатывать, чувствовать, что хоть как-то контролирует свою судьбу. Вечером он помогал доброй аджуме в её маленьком круглосуточном магазинчике, где старуха с больными коленями едва справлялась. Она угощала его оставшимися кимпабами и всегда говорила, что он — "как сын, которого ей не судьба было родить". Этими словами она укрывала его, словно мягким пледом, когда холод затягивал всё вокруг.
Ночью же, скрипка становилась его спасением, его способом молчаливо говорить о том, о чём он не решался говорить вслух. Струны вибрировали в темноте клубов и полутёмных баров, где свет был едва заметным, а тени густыми потоками стелились по полу. Там не было зрителей, не было ни аплодисментов, ни понимания. Только звук, который рвался из него, как невыраженная боль, как долгий вздох в пустом пространстве. Это была его молитва — не к Богу, а к самой себе.
Всё шло своим чередом, но мысли о Бомгю не покидали его. Было ли это невыносимое молчание — его виной? Или молчание было просто таким, как оно есть? Внутри разливалась тихая, но настойчивая боль. Всё чаще в голове звучало его голос: "Я всё равно глухой мальчик…"
Как в ответ, сердце Ёнджуна тихо шептало: "Я всё равно слепой дурак…"
И вот эта неразрешённая боль, как зыбкий облачный след в небе, висела между ними. Каждый день всё больше напоминал край бездны, в которой нет ни начала, ни конца. Всё было как прежде, но что-то уже не было тем же.
***
Енджун сидел за кассой, его взгляд невольно скользил по складу, пытаясь прогнать мысли, которые не давали ему покоя. Всё вокруг было каким-то серым, несмотря на яркие огоньки магазина. Но вот его взгляд зацепился за силуэт — знакомый, слегка размазанный в тусклом свете. Он не ошибся: это был Бомгю. Странное ощущение — казалось, тот еле держался на ногах, чуть ли не прислонившись к стене. Енджун скрипнул зубами и невольно стал молиться, чтобы тот не ушел, не исчез до окончания его смены — всего десять минут. Они казались вечностью.
Как же долго тянулось время, пока, наконец, смена не закончилась. Секунды, минуты — всё стало затягиваться, как вязкая субстанция, не дающая двигаться. Когда, наконец, Енджун выскочил из магазина и направился к улице, он был готов просто убежать от этой тяжести, но был в другом настроении. Его шаги становились всё быстрее. Он почти бежал.
Но тут его нос уловил тот знакомый, тягучий запах спиртного. Он резко остановился, и сердце ёкнуло. Спиртное. Проклятые запахи из прошлого, из детства. Ему с этим не было легко. В голове сразу всплывали образы, когда отец приходил домой пьяным, когда бутылки стояли по углам. Это было не просто неприятно — это было как разрыв в его сознании.
Он снова взглянул на Бомгю. Тот, похоже, не заметил его приближения, сидя на ступеньках с бутылкой в руках. Енджун медленно подошёл, не зная, что скажет.
— Малявка, откуда спиртное взял? — его голос был прямым, холодным, будто отгородившимся от того, что происходило вокруг.
Бомгю, услышав его, с явным усилием поднял голову, глаза были расплывчатыми от пьянства, и он вдруг начал смеяться. Его смешок был нервным, неуверенным.
— О, Енджунаааа... ик! — он замолчал, осознав, что сказал что-то не так, и резко закрыл рот, словно сдерживая себя. — Ой, ты...ты же говорил не называть тебя так...
Енджун почувствовал, как в груди что-то сжалось, но одновременно внутри тепло расцвело от этих слов. Даже несмотря на его резкость и попытки сохранить дистанцию, было что-то в этих шуточках Бомгю, что пробуждало в нем странную, неохотную теплоту.
— Эй, ты что? — раздраженно бросил он, но голос уже не был таким строгим. — Ты что, совсем с ума сошел? Я тебе говорю — не вздумай опять пить...
Но Бомгю, не успев услышать, что ему ответил Енджун, вдруг сказал:
— Хочу на ручки... Как ты меня называл... а, точно, твой медвежонок хочет на ручки?
Енджун замер, не зная, как отреагировать. Его тело словно окоченело на месте. На секунду он забыл, как дышать.
Это было настолько... странно. И в то же время... тепло. Но он не мог позволить себе сейчас этого. Не мог.
Ёнджун вздохнул, словно сдаваясь самому себе, и развернулся, опускаясь на корточки перед Бомгю, молчаливо предлагая ему забраться.
Бомгю, неуклюже улыбаясь, тут же обвил его за шею руками и забрался ему на спину, словно маленький ребёнок — доверчиво, тепло.
Ёнджун ожидал, что вес Бомгю будет тянуть его к земле, ломать спину тяжестью, но парень оказался легким, почти невесомым, как пушинка, как забытый в поле одуванчик. Он едва ощущал его тяжесть — только тепло рук, дыхание у самой шеи, лёгкое, щекочущее, как прикосновение перышка.
— Ну что же, медвежонок, — хрипло усмехнулся Ёнджун, стараясь скрыть смущение, — куда направляемся?
— Иди куда хочешь… — Бомгю промямлил, прижимаясь к нему, как замёрзший котёнок.
Улицы в это время были почти пустыми, только фонари лениво рассыпали своё мутное золото на мокрый асфальт. Где-то вдали слышался плеск воды. Недавний дождь очистил воздух — пахло мокрым камнем, весенними листьями и чем-то по-детски чистым.
Ёнджун подумал, что набережная будет идеальным местом. Там было просторно, и, может быть, этот странный вечер расставит кое-что на свои места.
Шли молча. Пять минут, а может, и всю вечность — время будто расплывалось в сером воздухе. Бомгю не шевелился, только его дыхание тёплым облачком касалось кожи Ёнджуна, и от этого на щеках того выступил лёгкий румянец, который он упрямо игнорировал.
Внезапно Бомгю тихо спросил, голосом хрупким, словно тонкий лёд:
— Ты меня... правда ненавидишь?
Ёнджун крепче сжал руки на бёдрах Бомгю, будто боялся, что тот исчезнет. Потом, чуть глуховато, буркнул:
— Стал бы я тебя сейчас тащить на себе, если бы ненавидел?.. Спину себе калечить ради кого-то, кого не выношу?.. Давай... просто забудем тот чёртов дождливый день и встречу возле клуба. Мы ведь квиты. Окей?
Бомгю чуть крепче прижался к его спине, словно хотел раствориться в этом тепле.
— Но ведь ты был прав… я и правда глухой… хоть и не полностью… — прошептал он, сжав пальцы на ткани его куртки.
Ёнджун поморщился и покачал головой:
— Я сказал — давай не будем. У меня тоже к тебе обиды есть, знаешь. Но я не хочу про них вспоминать. И тебя, заметь, не грызу за каждую мелочь.
— Кстати, ты стал... добрее, — вдруг добавил Бомгю, будто между прочим.
Ёнджун фыркнул, чувствуя, как внутри всё нелепо щемит:
— С чего ты взял?
— Ты меня не материшь через каждое слово. — Бомгю хихикнул, тёплым, чуть пьяным смешком, который резонировал где-то у него под сердцем.
И ведь правда. Ёнджун всегда был резким — ругался даже с ветром, даже на самого себя. А сейчас... с Бомгю он был другим. Мягче. Тише. Словно рядом с этим парнем его вечная злость растворялась сама собой, уступая место странной, пугающей нежности.
"Что ты делаешь со мной, малявка..." — с горечью подумал Ёнджун, продолжая шагать к тихой, окутанной туманом набережной, где ветер мог унести с собой все тяжёлые слова, которые так и не были произнесены.
Асфальт под ногами блестел, будто город напялил на себя зеркало — не для того чтобы полюбоваться, а чтобы забыться, стереть своё отражение. Дождь утих, оставив за собой лёгкий запах озона и сырости, как след от чужих слёз на чужих щеках. Улицы были безлюдны, будто весь мир на время задержал дыхание, дав им двоим возможность остаться одними.
Ёнджун шёл медленно, почти бережно, будто нёс не человека, а что-то хрупкое, уязвимое, спящее. Бомгю висел у него на спине — тихий, тёплый, лёгкий, как недосказанное «прости». Его дыхание касалось шеи — едва ощутимо, как ветер на рассвете, и от этого сердце у Ёнджуна стучало как-то по-другому, мягко и упрямо, будто перебирало в себе каждую эмоцию, пытаясь не уронить ни одной.
— Из-за чего ты тогда в туалете плакал? — спросил он почти шёпотом, чтобы не спугнуть хрупкость момента.
Долгая пауза. Только шаги да ночной город, спрятавший свои фонари в лужах.
— Ты серьёзно не слышал? — наконец сказал Бомгю, и голос его был ровным, почти уставшим.
— Слухи. Грязные, липкие, как жвачка на подошве. Что я якобы… сплю со всеми. Что я "лёгкий", что у меня нет стыда. Что я с Тэхёном. Что мы якобы…
Он запнулся, но не потому что стыдно — просто слишком больно. Вдохнул поглубже, чтобы не сорваться.
— Я… мне всего семнадцать, — выдохнул он, и в этом выдохе было больше правды, чем в любой защите.
— А ещё… мой первый поцелуй. Он… он был с тобой. Тогда.
— Голос чуть задрожал. — Я так и не сказал — прости за это. Я… испугался. Да, и было интересно, что это такое.
Ёнджун не ответил. Просто шагнул сильнее, твёрже, будто хотел прогнать всё то дерьмо, что цеплялось к Бомгю. А он продолжал, уткнувшись щекой в его плечо:
— Тэхён… он поддержал. Не осуждал. Говорил, что я не обязан никому ничего доказывать. Он хороший. Правда.
— Пауза.
— Но… тогда мне казалось, что я один против всего мира. И что всё, что во мне осталось — это страх.
— Ещё тише: — Ты ведь не думаешь, что это правда?.. Всё, что говорят?
Ёнджун на секунду остановился, смотрел вперёд, на реку, где огни плясали по поверхности, как сорванные с неба звёзды. И сказал, просто:
— Я думаю, ты сильный. И честный. А люди — злы.
— Повернул голову слегка, но не до конца. — Ты у меня на спине, Бомгю. А не где-то там — вдалеке. Разве это не говорит больше, чем слова?
И пошёл дальше.
Река была совсем близко. Воздух звенел от свежести и недосказанностей. Бомгю больше не говорил — только крепче обнял его за плечи, будто нашёл то место, где наконец можно дышать.
Шаги отмеряли ночную улицу, как секундная стрелка часов, на которых давно стерлись цифры. Всё вокруг будто затихло — и город, и ветер, и даже дыхание, которое несло в себе запах весны, смешанный с пьяной исповедью. Бомгю всё ещё сидел у Ёнджуна на спине, мягкий, словно сон, чуть горячий от алкоголя, с щекой, прижатой к его шее.
— И знаешь… — выдохнул он, едва слышно, — я тогда… в туалете… плакал не только из-за этих слухов.
Ёнджун чуть напрягся, но ничего не сказал — просто слушал.
— Просто… есть человек. Один. Мне он нравится уже долгое время… — голос дрожал, словно струна, натянутая между страхом и надеждой. — А он всегда груб со мной. Ну, типа очень. И я не знаю… кажется, он даже не догадывается, что я к нему чувствую. Он… он туповат немного, если честно.
— Улыбка Бомгю была кривой, растерянной. — Как думаешь… это может быть взаимно?
Ёнджун замер. Его лицо стало чуть тише, чуть ниже. Взгляд погас, как гаснут фонари под утро. Он будто почувствовал, как в груди что-то легло камнем — не обидой, а чем-то непонятным, глухим, как эхо чужой надежды.
— Если объективно… — сказал он медленно, выбирая слова, как стеклянные осколки, — ты симпатичный. И характер у тебя несложный. Думаю, у тебя есть шансы.
Молчание. И в следующую секунду Бомгю обвил его сильнее, как будто боялся упасть — не физически, а из тех чувств, что рвали его изнутри. И, будто в бреду, с мягкостью, от которой у Ёнджуна дыхание сбилось, он приложился губами к его шее, а затем к щеке — легко, но так, будто в этих прикосновениях было больше правды, чем в тысяче слов.
Ёнджун замер. Он застыл, как дерево в первый заморозок. И в этом замешательстве случайно ослабил хватку.
— Ай, блядь, Ёнджун! — донеслось снизу. Бомгю рухнул на холодный асфальт, будто вся его смелость рассыпалась вместе с падением.
Ёнджун тут же рванулся к нему, сердце будто сорвалось с цепи.
— Бомгю! Прости! Ты в порядке?! Всё нормально?
Бомгю, пьяный, растрёпанный, с запутавшимися чувствами и лунным светом на лице, посмотрел на него снизу вверх и хрипло засмеялся.
— Ты нормальный вообще?.. У тебя есть человек, который тебе нравится…
Ёнджун опустил глаза, уже не понимая, что происходит в этом вечере.
И тогда Бомгю, чуть осоловев, тихо, будто выкрикивая в пустоту:
— Ты, долбоёб. Это ты. Не тупи.
И город, кажется, снова замолчал. Только где-то в небе пролетела птица, как запоздавшее "ну наконец-то".
— Это… это случайно не твой пьяный бред?! — ёкнул Ёнджун, чувствуя, как начинает закипать. — И вообще… чего я сразу тупой, а?
Бомгю, развалившись на асфальте, устало фыркнул, словно кот, которого подняли за шкирку:
— Дай мне шанс… Я красивый, умный… — прошептал он с ленивой улыбкой, от которой сердце Ёнджуна предательски дёрнулось.
Ёнджун медленно поднялся на ноги, словно земля вдруг стала зыбкой под его подошвами. Он стоял, не зная, что делать дальше — уговаривать Бомгю подняться или просто уйти, оставить всё это ночи на переваривание.
И тут Бомгю, полусонно, жестом поманил его к себе — мол, подойди, скажу кое-что важное.
Ёнджун недоверчиво, но всё же опустился на корточки рядом, наклонился ближе…
И в следующую секунду руки Бомгю цепко поймали его за лицо, как якорем приковали к себе, и, прежде чем Ёнджун успел выругаться или отстраниться, губы Бомгю мягко коснулись его губ.
Лёгкий, пьяный поцелуй — мгновение, сотканное из тепла и чего-то странно настоящего.
Бомгю, всё ещё держась за его щеки, ухмыльнулся:
— И вроде целуюсь неплохо… — пробормотал он, прежде чем тяжело выдохнуть.
Ёнджун резко отпрянул, глаза расширились, лицо вспыхнуло.
— Ты вообще совсем, блядь, не знаешь, что такое личные границы?! — взорвался он. — Ты же недавно извинялся за тот первый поцелуй! Совсем с дуба рухнул, малявка!
Он хотел ещё что-то сказать, накатить целую лавину слов — но замер. Бомгю уже без сил опустился на асфальт, глаза его прикрылись, дыхание стало ровным, почти детским. Он вырубился.
Ёнджун стоял, чувствуя, как ярость медленно сменяется растерянностью. Внутри него что-то клокотало — непонимание, досада, щемящее тепло.
И только одна мысль не давала покоя:
А вдруг… вдруг всё это только пьяный бред?
Ёнджун посмотрел на распростёртого на асфальте Бомгю и тяжело вздохнул, словно на его плечи навалился не один, а сразу три Бомгю.
— Ну заебись, — проворчал он, поправляя сползшую с носа кепку. — Признался в любви, поцеловал и сдох тут же. Романтика уровня "бог".
Он осторожно подтолкнул Бомгю носком ботинка. Тот тихо промычал что-то невнятное и перевернулся на бок, как ленивый щенок.
Ёнджун потер переносицу.
— Почему мне всегда достаются самые тяжёлые случаи? — простонал он, наклоняясь и аккуратно, почти с нежностью, закидывая Бомгю себе на спину.
Тот что-то пробормотал сквозь сон:
— Медвежоооонок... на ручки...
Ёнджун едва не споткнулся.
— Ещё раз так скажешь — оставлю тебя тут гнить, понял? — пригрозил он шёпотом, хотя сам понимал: никуда бы он его не бросил.
Пошатываясь под тяжестью спящего знакомого (хотя кто теперь его знает, друг он ему или кто похуже?), Ёнджун побрёл в сторону дома. В голове у него роились мысли:
Что за хуйня вообще творится? Я что, теперь нянька для пьяных школьников? Или будущий отец семейства?
Небо над ними заволокло туманом, улицы были пусты, словно город вымер, оставив им двоим целую вселенную для этого абсурдного, но какого-то странно уютного момента.
Ёнджун усмехнулся сам себе.
— Ладно, медвежонок, — пробурчал он себе под нос. — Хоть бы завтра всё это оказалось сном. Хотя с моим везением — это теперь моя реальность.
И, перехватив поудобнее бормочущего что-то во сне Бомгю, он зашагал дальше, тихо матерясь сквозь лёгкую, почти заботливую улыбку.
***
Бомгю очнулся от холодного утреннего ветра, который ударил по щекам так, будто хотел окончательно добить его за ночные приключения. Голова раскалывалась — каждый шорох отдавался внутри черепа как землетрясение.
Он пошевелился на жёсткой скамейке, проморгался и на автомате хлопнул рукой по уху, проверяя слуховой аппарат. На месте? Работает? Фух... хотя бы эта техника выдержала вчерашний апокалипсис. Уже кое-что.
Но расслабиться не успел: краем глаза он заметил человеческое тело, распластанное на асфальте у скамейки.
Бомгю мигом превратился в визжащего хорька, взревев так, что даже вороны в парке взметнулись в небо.
Тот человек, кажется, тоже дёрнулся от испуга.
— Ты что, дебил? — с видом вселенской усталости проворчал Ёнджун, поднимая на него мутный взгляд.
И тут в голове Бомгю щёлкнул тумблер: кусочки памяти посыпались в кучу.
Он вспомнил — спина Ёнджуна, падение, пьяный поцелуй, крики, признания...
ЧТОООООО?!
Лицо Бомгю моментально окрасилось в алый цвет.
Он судорожно огляделся: похоже, домой они всё-таки не доползли. Замёрзли, промокли, и просто сдохли на обочине городской жизни.
Бомгю резким движением обернулся к Ёнджуну, глаза на мокром месте. Тот, как ни в чём не бывало, лениво пожал плечами.
Бомгю в панике начал лепетать:
— Ой, прости, Ёнджун! Я... я не хотел! Я был пьян! Я тупой! Можно я просто исчезну, пожалуйста? — и уже собрался удрать, но чья-то рука как кандалами перехватила его запястье.
Ёнджун притянул его обратно и, ухмыляясь краешком губ, спросил:
— Так... на свидание пойдём? Ты же сам сказал, что я тебе нравлюсь.
Бомгю открыл рот, закрыл рот, опять открыл — но кроме какого-то "ыыыы" ничего выдавить не смог.
Ёнджун склонился чуть ближе:
— Ну так что? Ответ трезвого человека: да или нет?
Бомгю тихо пищал:
— Д-да...
Ёнджун усмехнулся и потрепал его по волосам:
— Отлично. В следующий раз предупреждай перед поцелуем, а не падай на меня, как мешок с картошкой.
Бомгю хотел провалиться под землю. Но... внутри стало как-то уютно.