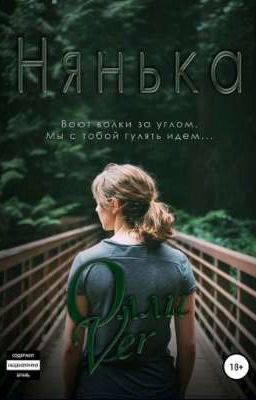Глава 6 - Те, кто ничего не хотят от нас
Она смотрит на меня голубыми глазами, и по её взгляду я вижу – плевать ей, о чем я думаю и чем мне обернулась наша выходка. Она злится:
– То есть как – не хочет?
Я обреченно пожимаю плечами:
– Вот так, – и изображаю оплеуху невидимому затылку.
Анька смотрит на мой незамысловатый жест – она не смеется, как сделала бы раньше. Она переводит взгляд серьезных голубых глаз с моей руки на мои глаза, и мне становится неуютно под её взглядом. Под её взглядом мне частенько становится неуютно даже тогда, когда она улыбается. Её волосы распущены и ложатся на плечи крупными волнами сверкающего на солнце золота. Они искрятся переливами, а отдельные локоны настолько воздушные и мягкие, что напоминают мне сахарную вату.– И ты перестанешь гулять со мной?
А что мне делать? Какие у меня варианты?
Я пожимаю плечами. Анька смотрит на меня и её пухлые губы превращаются в тонкие полосы.
********
Мама ходит из угла в угол. Меня перевели в одноместную палату, и моя мама круглосуточно сидит со мной – бледная, всклокоченная, злая. Она не говорит по телефону – она шипит в различных тональностях. На том конце провода её секретарь, который принял на себя большую часть обязанностей на время маминого отсутствия в офисе и присутствия её здесь, со мной. Её пребывание здесь стоит немало, и я не столько о моральных затратах, что понадобились, дабы поднять на уши всех знакомых врачей и обеспечить мне полноценный уход «все включено», сколько о финансовых, если принимать во внимание убытки от упущенных возможностей. Сейчас мама не работает, сейчас мама никого не принимает, сейчас мама – не адвокат – она –мать и сторона защиты своей дочери. Не поймите меня неправильно – я совсем не хочу сказать, что мама бросает все и мчится ко мне, чтобы потом в припадке ярости кидаться в меня своей добродетелью, словно камнями: «я недосыпала ночей ради тебя; я работала до седьмого пота, чтобы у тебя было все, чего ты пожелаешь; я бросила все ради тебя». Нет. Я почти уверена… нет! я твердо знаю, что она никогда не «припомнит» мне своей самоотдачи, потому что мама очень быстро забывает геройские подвиги – как чужие, так и свои собственные. Она очень быстро проживает эту жизнь, и ей некогда оглядываться назад и разглядывать под микроскопом последствия своего самопожертвования. Она очень быстрая, и, наверное, именно это делает жизнь с ней такой нелегкой – она ждет от остальных той же прыти. К сожалению, далеко не все на неё способны. Например, я.
Следователи допросили меня еще три дня назад. Допросили, как свидетеля, потому как совершенно очевидно – я такое сделать не смогла бы.
Первыми нас нашли две женщины и один мужчина, прибежавшие на мой крик – я валялась в обмороке, прислонившись спиной к стене дома, блондинка под одним из тополей. Обе – в луже собственной мочи.
Дальше – скорая, полиция, больница.
Само собой, я – свидетель, ведь ничего подобного я сделать не смогла бы. Не смогла хотя бы потому, что врачи, дежурившие в тот день в приемной, вызывали из короткого отпуска самого опытного и рукастого хирурга края, дабы он по-людски соединил воедино верхнюю и нижнюю челюсти блондинки. Я бы не смогла заполнить третью часть её легких экссудатом (чем-чем?) неизвестной этимологии (что это вообще за слово?), так что теперь у блондинки из бока выходит трубка – дренаж, который стравливает жидкость, чтобы та могла дышать. Я бы точно не смогла порвать ей рот так, что теперь у блондинки два внушительных шрама по бокам её рта, так что сам Гуинплен обзавидуется. Но главное не в этом – я бы точно не смогла ввести молодую здоровую девчонку в состояние кататонического безмолвия. Физически блондинка полностью восстановится, врачи даже обещают сделать косметические операции по уменьшению шрамов – их даже видно не будет. А вот её психическое состояние оставляет желать лучшего.
Поэтому я – свидетель. Я – свидетель. Свидетель тому, что врагу не пожелаешь. Даже такому, как блондинка.
Где мы двое?
Закрываю глаза – мама мерит шагами комнату и пытается не орать, а я вспоминаю лицо жуткой твари, что сломала блондинке челюсть.
Где мы двое?
Не орать у мамы получается очень плохо.
Что тварь имела в виду? Если вообще имела. Сейчас, под сильным успокоительным, я могу думать о ней, как о вещи совершенно будничной. Её образ, смягченный добрыми дяденьками-фармацевтами, становится безобидным и, в какой-то мере, даже красивым. Нет, она все еще уродлива, но уже не в той мере, что была четыре дня назад. Сейчас она даже становится какой-то привлекательной. Нет, не так – до привлекательности уродливой. Я вздыхаю,мама рычит – вот вся моя жизнь в нескольких словах.
Где мы двое?
Это был именно вопрос, и тварь хотела, чтобы я на него ответила.
Мама нервно дышит в трубку, и, наверное, сетует на то, какие маленькие палаты в государственных больницах – негде размахнуться. Я открываю глаза и смотрю на белый потолок и думаю о том, как забавно складывается моя жизнь – сколько себя помню, я – трусливая и молчаливая – всегда притягиваю к себе сильных и громких людей. Всегда. Я для них, как магнит. Все, кто меня окружают, так или иначе превосходят меня, неважно, в какой мере и в каком качестве, важно то, что всю свою сознательную жизнь я догоняю, а не веду. Мать, Анька, Тимур и даже Кирилл. Вам покажется забавным, но на этом круг моих близких заканчивается. И в этом кругу я – единственная трусиха и плакса. Ко мне так и тянет тех, кто любит и умеет командовать, начиная от матери, которая никогда не упускает возможность проверить мои мысли и действия на соответствие социально одобренным шаблонам,заканчивая Кириллом, который ловко стащил с меня одежду при первой же возможности. Никакая я не константа, нет во мне точки отсчета его реальности – я просто очередная.
Где мы двое?
Откуда мне знать? Я тебя впервые вижу.
Даже Анька, и та всегда была в авангарде, таща меня за собой на буксире, как шлюпку с пробитым дном. Я всегда шла за ней, укрываясь от встречных ветров за её узкой спиной. Мой микро-Наполеон.
Я представляю себе человека, который всю сознательную жизнь плывет по течениям, создаваемыми другими людьми. Он ничего не решает сам кроме того, что ему надеть и съесть, но ведь и не это делает отдельного индивида полноценной личностью, верно? Большую часть жизни я ведома за руку теми, кто сильнее, смелее, умнее, проворнее меня. Тем, кому хватает смелости жить так, как им хочется, а не так, как им сказали. И вот этот человек барахтается, подгоняемый потоками чужих желаний, не в состоянии понять, чего же он сам хочет. Он просто не успевает сообразить, ведь как только он выплывает из одного водоворота, его тут же засасывает в другой.
А теперь представьте, что все потоки исчезли. Его выбросило в открытое море жизни, перестало нести его по волнам и теперь он (или она) предоставлен сам себе. Итак, что же будет делать человек, выброшенный в открытое море, которого всю жизнь тащили на себе или за собой?
Тонуть.
Никто не учил меня плавать – меня всегда тащили и подгоняли, и в один прекрасный день, когда вся движущая сила испарится, я пойду ко дну.
Я очень боюсь утонуть.
Я уже осталась без Аньки, и это было так больно, словно меня четвертовали. Смотрю на свою мать, вышагивающую из угла в угол, и думаю, что с такой работой она очень быстро заработает какой-нибудь недуг. И что мне делать тогда? Я – рыба-прилипала без хозяина. Бестолковый кусок плоти, который не отращивал плавники за ненадобностью, не затачивал зубы без особой необходимости, необрастал сложной сенсорной системой, способной обнаружить даже самые слабые электрические разряды, не нажил панциря. Эволюционный мусор.
Где мы двое?
Да отстань ты!
И тут меня осеняет…
Сильнее этой твари в моей жизни еще никого и никогда не было.
Судя по всему, ей не грозят ни инфаркты, ни инсульты, ни падения с моста. Судя по тому, как она выглядит, ей уже приходилось подыхать. И это её не остановило...