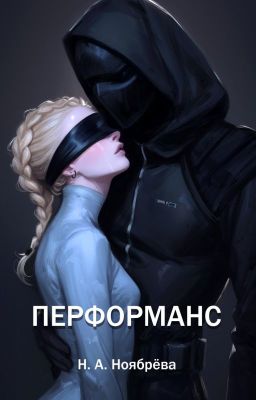Save#19: Чёртовы прятки
Торчащие из-под повязки пальцы выглядят плохо. Цвет у них синий-синий. Мне кажется, они собираются отмирать и изо всех сил просят поторопиться. А что будет после положенных трёх недель в гипсе?..
Вскрытие не сильно продвинулось. Я начала его с внутренней стороны ноги, ближе к задней части, чтобы не бросалось в глаза, и очень быстро поняла, что это самое сложное место. В таком духе расправа даже над коротким "носком" потребует массы времени, что уж говорить про жёсткий "получулок", обтягивающий вторую ногу. Его мне точно не одолеть. Но это неважно. Уверена, и в нём смогу передвигаться.
Сперва я попробовала смочить гипс водой, но облила в итоге не его, а простыню с матрасом. Пришлось поумнеть и придумать схему с полотенчиком. Когда оно впитало жидкость, оставшуюся в стакане, я обернула им свою средневековую колодку заключённой. И жду теперь, когда всё отсыреет. Надеюсь, быстро. Дело срочное. Времени ровно до следующей гигиенической процедуры, на которой диверсию скорее всего раскроют.
Подушки, на которых лежат мои ноги, заслоняют отверстие в спинке койки — и вид на соседей. А им на меня. Снимаю полотенчико. Решаю рискнуть и, не особо скрываясь, принимаюсь за старое.
Вздрагиваю, когда понимаю, что меня засекли. Одна из знакомых медсестёр подходит, едва я прячу драгоценную вилку. Но повреждений не замечает. Почему-то сочувствует:
— Знаю, к вечеру хуже становится. Но лучше не трогай.
— Я не...
— Пациенты нередко пытаются рассечь бинты. Это из-за отёка неровности повязки сильно впиваются. Если совсем плохо, переделают.
Протестую:
— Всё хорошо, не надо переделывать!
Протест принимается. Но она меня напугала. Временно меняю вид деятельности и жую принесённые Ди батончики, чтобы набраться сил.
Только гораздо позднее, уже при включенном ночнике, осмеливаюсь продолжить. Тяжело. Много мусора — ваты или похожих на вату обрывков бинта, трухи какой-то. Вот бы ссыпать всё это в пакет, убрать за собой. На самом деле прячу гору крошева под одеяло. Мне стыдно за грязь. Но что поделать.
Стараюсь не пыхтеть от усилий и не шипеть, когда вырываются зацепившиеся волоски. Кажется, я всё вожусь над одним и тем же местом, вниз ничуть не продвинувшись. Не поддаётся, блин.
Когда я наконец освобождаюсь, то разглядываю лодыжку, как будто впервые увидела: область у косточки чёрная, при дневном свете наверное страшного фиолетового оттенка. Распухшая. Прикосновений не чувствует. Я немного массирую щиколотку, чтобы вернуть к жизни, но бестолку. Нога просто не моя. Может, так даже лучше?
Аккуратно перекидываю за край кровати обе стопы, только пола коснуться не успеваю, вдруг чувствую ужасное давление. Кажется, нижняя часть моего тела собирается взорваться.
Ничего, не паникую.
Вот бы льда.
А пол наверняка холодный...
Ставлю ноги на линолеум, и раздетую мгновенно охватывает без преувеличения адская боль. Я зажимаю рот, но кусочек крика вырывается всё-таки. Вглядываюсь в глубину палаты. Жду шевелений.
⠀
Нет, я не смогу, если будет так. К такому я не готова. Перелом всё-таки реальный.
⠀
Да уж, старалась, чтобы в итоге как следует и не попробовать.
Мне всё равно тут больно и плохо, и этому нет конца. Лучше перетерпеть, но в итоге освободиться. Где же мой бунт против собственной игрушечности? А вечная тяга ломать правила, искать бреши в механике, пользоваться чита́ми?
Проходит какое-то время, привыкаю. Готова действовать дальше. Готова попробовать встать. Затекшие конечности щиплет, но это ничего, это только начало. Я опираюсь о тумбочку (мы вместе дрожим) и отрываюсь от матраса, а ту ногу, на которую я возлагала все свои надежды, сводит судорогой. Она не хочет стоять... Не может удержать мой вес. Весь вес. Вторая ей тут не помощница совершенно. Я давлюсь слезами, захлёбываюсь осознанием: ничего не выйдет.
Падаю на кровать.
И всё равно упрямствую.
Просто стоит начать с упражнений. Лежу и двигаю мысок вперёд-назад. Давай же, ножка, мы с тобой были такие быстрые. Мы постоянно куда-то двигались. Ты была моя основная. Ты не успела бы так ослабеть!
Возможно это сумасбродство на всю оставшуюся жизнь лишит меня способности нормально двигаться. Но здесь и сейчас никакой оставшейся жизни я для себя не вижу. С каждым потерянным днём надежда всё исправить гаснет. Ужасно, когда власть в руках людей, которым не понять.
На третий раз выходит сделать нормальный шаг. И ещё один. От странных ощущений в лодыжке мне не по себе, но я знаю, что и сама могу их додумывать. Я хромаю, хватаясь за всё подряд, к двери. Выбираюсь далеко не бесшумно, но стационар отучает от чуткого сна. Я оказываюсь в коридоре. Смотрю по сторонам. Всё одинаковое — сложно вспомнить, с какой стороны меня доставили. Зато замечаю лифт. Отлично, что он здесь есть. С лестницами временно не дружим.
Попасть в лифт непросто: почему-то двери нужно самостоятельно открывать, не разъезжаются. На это уходят последние мои силы. Я забираюсь внутрь, нажимаю кнопку первого этажа и, прислонившись к стенке, тихонечко по ней съезжаю.
Покидаю кабину уже ползком и не без труда преодолеваю несколько метров. На коленях не получается, ноги мешают. Тащусь на бедре, боком, помогая себе руками... Это жесть.
Всё. Конечная.
Тут меня и находят.
Не возвращают в палату, поднимают и оставляют в коридоре. Заглядывают в ближайший кабинет и вызывают ещё одного мужчину, который сразу направляется ко мне. Я понуро жду, когда он подойдёт.
Среднего возраста, приятной внешности. В неплохом расположении духа. Сходу спрашивает:
— Ну что, экстремальщица? Куда собирались?
Неожиданное начало, но я слишком устала, чтобы выказать удивление.
— Больница — не заброшенное здание, понимаю. Скучно стало, на рентген захотелось. Вот вы поднялись, а нам кроме старых проблем с последствиями разбираться. За такие трюки сразу выписываем. Нарушение режима.
— Это хорошо. Мне вернут мои вещи?
Рада, что мы так сошлись в желаниях. Впрочем, ничего удивительного. Представляю, как моя семья всех тут достала: постоянный караул, пререкания, полиция...
Я не сразу понимаю, что это была угроза, вовсе не приговор. Но на этаже как-то надолго становится тихо, и оживление моё тоже тихнет. Потом врач говорит:
— А, так вы и хотите выписаться? Оригинальный вид отказа от госпитализации.
Отказ от госпитализации! С готовностью хватаюсь за эти спасительные слова. Теперь он оставляет насмешливый тон и внимательно ко мне присматривается.
— После операции нужен хороший уход, дома такого не будет.
— Понимаю.
— Всё равно придётся наблюдаться.
— Ничего, это ясно.
— Ответственность за последствия ляжет целиком на вас.
Я хмурюсь, пытаясь выбрать нужные слова.
— Поверьте, к вам у меня не будет никаких претензий. Мне просто надо выписаться. Очень.
— Просто очень надо — и всё? Так, давайте без этого детского лепета. В палату, ждать новую повязку. Я обычно несчастных в вашем положении отправляю шагом марш, но тут даже поостерегусь. Лежите смирно. Лечитесь, как положено, как все остальные.
Снова остроты. И "детский лепет"... Его страшилки про последствия выписки — вот детский лепет для меня. А словами про отказ он меня подразнил просто... Нехорошо так обнадёживать, чтобы обломать в итоге.
Когда мужчина отворачивается, цежу:
— Всё равно ведь выпишете. Не добровольно, так за нарушение режима. Если, конечно, поймаете.
Теперь я точно выгляжу ненормальной, с которой себе дороже нянчиться.
— Я верно понимаю, рекорд свой вы намереваетесь побить?
Бросаю с вызовом:
— Ну да. Тут не тюрьма ведь.
— Бог с вами, золотая рыбка! По закону больница не имеет права вас удерживать, поскольку вы девушка совершеннолетняя, формально дееспособная. Принесу образец. И будем разъяснять вам риски.
Принимаю старую знакомую — планшетку. Выслушиваю, чем грозят при моих травмах ошибки реабилитации. Нетвёрдой ещё рукой пишу заглавие и первые строчки. Врач стучит пальцем по правому верхнему углу.
— Заявление будет на имя заведующего отделением хирургии Кормашова Максима Леонидовича.
Вдруг пугаюсь новой волокиты и спрашиваю:
— А когда он сможет его рассмотреть?
— Да тут же, не отходя от кассы. И зачем ещё завотделением дежурит?..
— Это вы, — наконец понимаю.
— Так, вещи. Вещи утром вернут со склада. Если что, всё равно вам в помощи отказать не имеют права, обращайтесь. А лучше здоровой приходите — расскажете, стоило ли оно того.
Ну чего вы волком смотрите? Что ж вам так нужно врагов-то себе найти? Вы для себя сейчас сами и есть главный враг. А я вам, как видите, в насилии над собой не мешаю. Подумайте, до утра есть время изменить решение. У меня столько бумажек, ваша легко потеряется.
Как только слышу про утро, сразу представляю себе нашу с Ромкой встречу. Нервно облизываю губы. Глупо верить, что он там будет, но не верить я не могу.
Только вместо него я снова вижу маму. Конечно, ей позвонили, чтобы меня забрала. Эх, стоило ли надеяться на освобождение? Вещи мне выдали на руки, а саму меня точно так же на руки выдали семье.
В свойственной себе манере (хоть для неё наша фамилия говорящая) мама пытается выяснить, почему дочь выселяют, и только подписанные бумаги убеждают её, что ничего теперь не поделать. Моя раздетая нога её ужасает. А про новый гипс я и слышать не хочу, даже про облегчённый вариант, так что небезучастная медсестра в конце концов советует ей спросить у травматолога про какие-то ортезы. Чувствую в маме предельное напряжение, пока она, отказавшись от помощи, как тягач, тащит меня на выход. С каждым метром коридора я боюсь всё больше. Скоро он закончится, и дальше будет только одно из двух.
На крыльце никого. Ранища... Беспомощно цепляюсь взглядом за раскиданные вокруг окурки. В груди страшно ноет.
Кое-как погрузившись в машину, мы отбываем.
Не могу же я заявить, что останусь здесь...
⠀
ТВ часами крутит идиотские фильмы, в суть которых я даже не пытаюсь вникнуть. Мама с тётей лежат по обе стороны от меня и активно обсуждают происходящее на экране. Пытаются и меня вовлечь. Или скормить мне что-то с подноса на ножках — как будто сама не дотягиваюсь.
Больница, прости, не скучаю. У меня всё равно тут постельный режим. Даже круче. Затяжное пижамное торжество во славу тоски и безделья. И разбитого сердца.
Как-то так даже могли бы выглядеть нормальные зимние каникулы.
Грех в общем-то жаловаться. Я ведь ждала разборок, но по итогу меня вообще не трогают. Сомнительные темы не поднимают, хотя поглядывают косо. А между собой обмениваются другими, типа "умными" взглядами. Терпимо, надо признаться.
Терпимо особенно потому, что я немного хожу. И никто не против. Как оказалось, средневековые колодки и костыли не так уж необходимы. Медсестра посоветовала неплохую вещь. Мне купили два вполне сносных тканево-пластиковых сапожка, похожих на обувь для сноуборда, в которых можно двигаться и которые можно снять, чтобы нормально помыться. Но главное — в них я чувствую себя почти спортсменкой, а не увечной.
Теперь всё, что мне нужно, — найти способ связаться с миром вовне.
Системник пережил ту мою вспышку, но для работы требует периферии, которую я убила. Так что никакого пока компа. А судьба смартфона с "угрозами" так и осталась мне неизвестной. Знаю, что со средством связи помогать мне точно не станут, но я кое-чему недавно научилась — могу незаметно одолжить его сама.
Ёрзаю, сползаю с кровати. Делаю вид, что подтягиваю один из ремешков на липучке, а сама снимаю с зарядки лежащий на полу мобильник. Медленно и совершенно неподозрительно иду в туалет, запираюсь в нём. Скидываю крышку унитаза, чтобы присесть.
Так. Я не помню номер наизусть, попробую списаться. Не везёт: это мамин телефон, а у неё приложение ВК не установлено, она сидит в Фейсбуке. Захожу через браузер, вбиваю данные...
Страничка медленно прогружается. Но сверху вдруг вылезает плашка звонка. И раздаётся трель входящего. Нажимаю кнопку включения, сигнал обрывается. Перевожу на беззвучный и случайно принимаю вызов. Ох, чёрт, надо было заранее это сделать. А теперь я даже не знаю, как поступить...
Из динамика слышится: "Алло. Алло, здравствуйте. Мы с вами договаривались о беседе". Паникую и скидываю.
Пару секунд тихо — мама думает, где могла оставить телефон. Потом слышатся шаги — проверяет кухню. И что-то, видимо, складывается у неё в голове — дёргает ручку двери в ванную.
— Вета?
Я, конечно, могу телефон где-нибудь спрятать. Выйти как ни в чём не бывало. Потом мама попросит Таю набрать, всё станет очевидно.
Могу сразу признаться. И продать свой манёвр совершенно бездарно.
А могу довести дело до конца.
— Что ты там делаешь?
— Я в туалете, блин.
Суетливо ищу его в диалогах, соображаю, что написать. Плашка вызова так и маячит, действует на нервы.
— Ты взяла мой телефон? Верни пожалуйста. Я жду важного звонка.
Набираю просто его имя. Хочу дописать, что скучаю, но мама начинает повышать тон, и это вместе со звуком дёргающейся двери ужасно бьёт мне по ушам. В щели над порогом колышатся тени. Всё расплывается.
— Я не буду злиться. Просто открой мне и отдай телефон. Давай. Считаю до десяти.
Сдаюсь на восьми. Понимаю, что есть ещё два, так что я успею. У меня просто нет иммунитета к её требованиям. Она отбирает мобильник и уходит с ним на кухню, где, судя по всему, перезванивает.
Так и сижу, где сидела, выслушиваю:
— Девушка. Двадцать будет весной. ... Завёлся молодой человек с проблемами. Я так и не поняла, что там между ними творилось. Итог — она вся переломанная. ... Я бы даже сказала очень изменилось поведение. ... Разрыв с зависимостью, да, стараемся сохранить. Но он постоянно приходит. А я физически не могу его прогнать. Здорового лося, понимаете? У нас нет мужчин, которые могли бы это сделать. ... Я просто очень боюсь, что времени мало. Уже ведь есть вред здоровью. И никто не может сказать, столкнул он её, или прыгнула сама. ... Вот только что заперлась она в ванной. А я уже в ужасе: может, хотела с собой что-то сделать?
Ну, скоро захочу. Возвращаюсь в комнату и даже смотрю кино в каком-то трансе, пока диалог героев не перебивает дверной звонок. Я радуюсь, что, раз мама занята, могу узнать, кто это (кто это?..), и подскакиваю в постели. Но я ещё медленная — она опережает. Походя явно неспроста закрывает дверь из комнаты в коридор. Всё же слышу: с кем-то говорит, понизив голос. Меня начинает поколачивать.
— С чего ты взял, что она здесь? — мама.
— В больнице её нет, — он.
Ногти впиваются в одеяло. В секунду я срываюсь с места и уже готова перемахнуть через подлокотник, но оказываюсь в клетке из Таиных рук. А разговор за дверью продолжается:
— Её вообще нет, — мама.
— Просто позвольте нам поговорить, вы увидите... — он.
Тая ловит меня за подбородок и заставляет смотреть на себя. Всем видом как бы извиняясь за это. Вздрагивает, когда я спрашиваю:
— А уши мне не заткнёшь?
— Мальчик, ты слышал? Нет Веты, — мама.
— Это же бред. Она сама так говорить попросила? — он.
Ну всё. Ещё рывок, тётя цепляется за меня, пока я цепляюсь за ручку двери. Ругаюсь. Снаружи слышится скрип, голоса становятся ещё тише. Зову его, но беззвучно, потому что Тая зажимает мне рот и с несчастным видом мотает головой.
— Господи, убери. Напугать пытаешься? — мама.
— Нет, я... Просто на нервах, — он.
— Так лечи свои нервы. И не таскайся сюда больше, понял? — мама.
Она влетает в комнату, когда мы с Таей уже почти дерёмся: я пытаюсь вырваться и наношу тёте вполне реальный урон, а она терпит, хватку не ослабляет.
— Прекрати истерику! Тебе нельзя беситься!
— Но мама!..
Я подаюсь вперёд, раскинув руки со сжатыми кулаками. Получаю пощёчину и возможность сравнить. Жестокий звук... Саму себя так не ударить.
Это вполне бы мог быть первый, даже оправданный отчасти раз.
Но он не первый.
Я начинаю пыхтеть, поджав губы, как будто регрессировала в далёкое детство, в тот день, когда мама, которая без сомнения меня любила, всё же не справилась морально с очередной моей затупкой. Она, привыкшая идти напролом, оказалась не в силах до меня достучаться словесно и попробовала физически. Только раз. Всего один. Мог ли он оставить отпечаток? Мне кажется, мог, и я до сих пор живу со следом от ладони.
Жалела ли она о том эпизоде? Не знаю. Тогда мама сказала Тае что-то вроде: "Этот ребёнок всё равно ничего не чувствует. Ни ласки, ни затрещин". А я всё чувствовала, и чувствовала, возможно, даже сильнее.
Это случилось давно. Я была слишком маленькой, а она — молодой. Почему же сейчас воскресло?
Теперь Рома под нашими окнами, воет моё имя. Мама тут же оказывается в другой части комнаты и задёргивает шторы. У меня лицо горит. Глаза разъедает. Тая гладит меня, пытаясь утешить. А мама смотрит в щёлку между полотнами занавесок. Пробую всё им высказать, но говорить не могу, мешают всхлипы. Получается только:
— Спасибо. Хочу. Сдохнуть.
Маму это задевает, она наконец бросает своё окно. Неужели я получу во второй раз? Нет, Тая заслоняет меня.
— Нин. Поставь чайник. А мы пока умоемся. Да, милая?
В ванной я всё так же предаюсь отчаянию. Тая собирает мои волосы, пропускает пряди сквозь пальцы.
— Что, так сильно влюбилась?
Оборачиваюсь. Собираюсь сказать: "Ты даже не представляешь".
— Может, поймёт Нина.
— А ты? Понимаешь?
— Я глупая. Мне не хочется тебя мучить. Но вдруг иначе выйдет только хуже?
— Что, хуже, чем так?.. — голос у меня никакой, как часто бывает после слёз.
— Ну... Пойду-ка поговорю с ней.
Я понимаю, что это дохлый номер. Тая для мамы не больший авторитет, чем я сама. Но не отказываюсь — мне хочется, чтобы кто-то побыл на моей стороне. Вздыхаю:
— Бедные наши соседи.
И действительно, скоро в квартире становится громко.
"Ты, что, её поддерживаешь?!" — "Тебя я поддержала, помнишь? Зря?" — "Может, и зря! Ты лицо его видела?"
Не хочу слушать. Сыта этим всем по горло.
Тая возвращается конечно же побеждённой, зализываем раны на кухне.
— Ничего, — теперь я её утешаю. — Было глупо рассчитывать, что с первого раза получится...
Вливаю в себя чашку приготовленного ею отвратительно сладкого чая. Жалуюсь постфактум:
— Ну и вкус.
— Пара капель пустырника.
А он помогает: я расслабляюсь, даже глаза закрываю.
⠀
Чтобы снова проснуться в машине. Только не Скорой, а мамы. На заднем сидении, под одеялом. С заботливо подложенной подушкой.
Их головы маячат впереди. Я выглядываю в окно и обнаруживаю закатные розоватые ёлки. Смотрю на запущенный навигатор. До конца маршрута шесть часов тринадцать минут. Мы едем домой, в посёлок... Как же так?
Меня снотворным угостили? Здорово, тётя. Круто.
— Вы же понимаете, что я не в том возрасте, чтобы так мной распоряжаться?!
Мама явно подготовилась:
— Возраст тут ни при чём. Хоть ты и ударилась вдруг в подростковый бунт. Для Таи мы бы сделали то же самое, правда? А для меня? Меня бы вы бросили? Спасение утопающего — дело рук его родных.
Не дождавшись ответа, добавляет:
— Очень надеюсь, что ты не станешь выпрыгивать на ходу.
Я отворачиваюсь от них. Тут капли на стёклах. За ними чёрные ветки, торчащие из канав. И целлофановое небо. Редкие унылые остановки, которые можно посчитать. Их много. Но он же найдёт меня?..
На заправке мне покупают кофе, который так и остаётся в подстаканнике. Ни крошки, ни капли из рук врагов.
⠀
Не знаю, откуда во мне взялась вера, что у него получится меня найти. Я никогда не говорила ребятам, что приезжая. Нигде этого не указывала. Видел ли он прописку в моих документах? Боюсь, я просто исчезла.
И всё равно надеюсь однажды его здесь встретить. Мания непреследования выходит на новый виток. Может, именно поэтому я каждый день покидаю родную двухэтажку и выбираюсь в центр, чем немного облегчаю ему задачу. Потому что про микрорайон стеклозавода даже Google Карты ничего не знают.
Ничего удивительного — завод закрылся ещё до моего рождения. Он изготавливал ёлочные игрушки во времена СССР. Потом это светлое прошлое оказалось попрано. Я, на тот момент трёх- или четырёх летняя, никак не могла такого запомнить, но почему-то всё-таки помню, что когда-то на его территории существовал стрип-бар, и каждый вечер часов с одиннадцати на стоянке перед зданьицем выстраивались автомобили лесников. Вряд ли мужчин приманивали цветные надписи на окнах, но что творилось за теми окнами, так и осталось для меня загадкой. Тревожной загадкой. Выходя, они громко смеялись. Смех был какой-то необычный.
Этот стрип-бар, вебкам, посетительницы квестов... С самого детства я поняла, и дальше только убеждалась: для девушки сексуальный контекст унизителен. Везде были эти дурные ассоциации. Теперь я вижу, что интерес к парням запускал во мне серьёзное противоречие.
Неважно. Завод. Что стало с заводом?
Когда часть цехов выкупило производство варенья, нечто чистое, жизнеутверждающее вернулось в этот медвежий угол.
Даже самый центр посёлка после Питера — гарантированная дереализация. Похоже на песочницу, без шуток. Вразброс невзрачные куличики-дома. Пёстрые формочки-магазины. Вместо ведёрка колокольня монастыря. И странно: как это местные воспринимают свою жизнь всерьёз?
Я потихоньку слоняюсь, вспоминая себя раньше и думая, как же докатилась до жизни такой. А у одной из кирпичных стен застываю в тягостном оцепенении. Потому что понимаю кое-что. Что мы с Ромой особи одной породы: я ведь тоже Мимик из одноимённого кино.
Тот человек — я хорошо это запомнила — появился в конце лета, когда я только собиралась впервые пойти в школу. Новое лицо привлекло моё внимание. Он тоже меня заметил.
На сколько лет он выглядел? Когда ты ребёнок, ты не особо разбираешься в возрастах. Сейчас я думаю, что где-то на двадцать пять, это только в то время он казался мне очень взрослым. Выглядел он невраждебно, был симпатичный. Разве что, сутуловатый. Он не скрывал лицо, не хвастался ножами. Возможно, я бы не отказалась изучить его получше, но он, хоть и ходил всегда где-то неподалёку, не приближался ко мне.
Я знала, что он смотрит на меня, а он знал, что я это вижу. А ведь я никогда не глядела на него прямо и открыто. Только быстро поворачиваясь в его сторону и так же быстро "отвлекаясь" на что-то другое. Но он всегда показывал, что оценил это: принимался жестикулировать или корчил рожицы. Иногда он подолгу всё повторял за мной. Это казалось мне милым. Обычно я подстраивалась под то, как вели себя люди.
Почему-то я вбила себе в голову, что это мой папа. Я не видела отца и ничего не слышала о нём, но полагала, что он не мог ну совсем никак не участвовать в моей жизни. А этот человек, явно неравнодушный, вполне годился на его роль. Так что в моём представлении мы уже дружили, и если бы он однажды заговорил со мной, то...
Забавно, но меня не учили не контактировать с незнакомцами. Привыкли, что я по умолчанию ни с кем не контактировала. А обстановка в посёлке тогда казалась вполне безопасной.
Потом я засела за комп и больше его не видела. На какое-то время игры стали единственным моим интересом.
Не просто так...
Я была одинокой девочкой, и с началом школьной поры это не изменилось. Ведь все дети давно друг друга знали, подружились и разбились на компании ещё задолго до. Оглядываясь назад, легко их понимаю. Например, я всегда носила одну и ту же буквально одежду — это, конечно, никому крутым не казалось. Плюс многие ребята жили близко к центру, а я на стекольном... Кроме меня там вообще никого не было.
В какой-то момент я решила не возвращаться сразу после уроков домой. Стала задерживаться, чтобы попробовать быть со всеми. Ребята играли, правда, меня всё равно не звали к себе. Обычно я просто смотрела на них. Наверное, выглядела я как тот тип. Зато хорошо выучила правила. И если бы меня всё-таки пригласили присоединиться, то не пожалели бы об этом — мне ничего не пришлось бы объяснять.
Чаще всего это были прятки. Водящий становился лицом к стене и громко считал до пятидесяти, а остальные прятались. Увидев спрятавшегося, вода должен был первым добежать до места, откуда начал, ударить по стене и сказать: "Чур-палочки за того-то". Но если тот игрок добирался до стены первым и говорил "Чур-палочки за себя", то считался спасшимся. А ещё иногда вода ошибался именем, потому что ребята менялись куртками и шапками. Это были "Обознатушки-перепрятушки", ещё один способ не стать застуканным. А последний игрок мог спасти всех застуканных, сказав: "Чур-палочки за всех".
Сейчас я понимаю, что пряткам в семь лет не учатся, их прекрасно знают уже в детском саду...
О, как я обрадовалась, когда одна из девочек взяла меня за руку и подвела ко всем перед началом очередной игры. Спросила, почему я никогда не подходила сама. А я и не знала, что так было можно.
Ненадолго, но она стала для меня кем-то вроде Ди. Под счёт мы побежали в одну сторону и спрятались вместе. А к вечеру поменялись верхней одеждой и разделились, чтобы усложнить воде задачу.
Я видела, как она зашла за трансформаторную будку. Через какое-то время оттуда послышался странный вскрик.
Я занервничала. Замерла в своём укрытии, глядя на будку и не зная, как поступить. Что-то в создавшейся ситуации мне не нравилось, подсказывало действовать. Но вот каким образом? И я помнила правила: не высовываться, пока не увидишь воду. Я была уверена, что нарушать их нельзя.
Как обычно слишком поздно я поняла, что ошиблась. Что тупые прятки того не стоили. Что не стоило ставить выше человека какие-то идиотские правила. А стоило сломать чёртову, блин, игру.
Я переволновалась и облажалась. Сильно. Последнее, что она сказала, было: "Сиди тут". И я сидела, и меня никто не нашёл. Я прождала до темноты, пока не поняла, что уже давно голосов не слышала. Это был далеко не первый круг, а все участники, кроме нас, уже отыграли. В конце концов им надоело ждать. Постепенно ребята разошлись по домам, вода тоже сдался. Вероятно, решил, что рано или поздно мы вылезем сами.
Осталась я, но я тоже её не нашла. Её вообще больше никто никогда не видел, так хорошо она спряталась...
А искал её весь район. Только о ней все и говорили. Девочка с косичками смотрела с каждого столба, а ещё листовки содержали описание моей одежды. Ту будку ребята постарше быстро превратили в её мемориал: расписали странными словами, которые так и притягивали внимание. Когда я вспоминаю себя, то не могу понять, чего же всё-таки во мне было больше — чувства вины или (но я была ребёнком! я...) ревности? Зависти?
Говорят, игра — это способ познания мира. Ну, я познала. Не лучшую его сторону.
Я подхожу к стене и трогаю серый кирпич. К чёрту маски, грехи. К чёрту все эти вездесущие фальшивые откровения. По-настоящему чёрные секреты не лежат на поверхности. Их не доверяют ежедневникам, компьютерам, видеокамерам. Их даже от себя скрывают.
Чур-палочки за Свету.
Ведь на её месте должна была быть я.