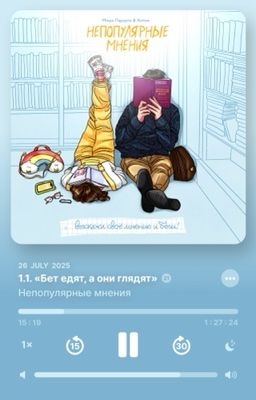1.5. Токсичное писательство: сдохни или умри
Миша заходит в студию и потягивается. Занимает место в кресле.
Антон: Ну что, перекурил, идём дальше?
Миша: Да, можно продолжать, я думаю.
Антон: Всем снова здравствуйте, мы вернулись. Доброго вечера.
Миша: Или дня, или ночи, когда бы вы нас ни смотрели или слушали...
Антон: И добро пожаловать на пятую часть подкаста «Непопулярные мнения».
Миша: С вами Антон... Мой Антон, мой коллега... Мой коллега Антон Бэтменович... — Смеётся и шёпотом добавляет: — Кто понял, тот понял...
Антон: Ого, какой баян ты выкопал. Достойно. Да, Антон — это я.
Миша: И я, Миша Паршута. И вообще мы не договорили на прошлой записи подкаста. У нас ещё осталась парочка незатронутых тем, потому что я что-то очень сильно разошёлся на постороннюю тему под конец и сожрал всё эфирное время... Извинитесь! — Смеётся. — В общем, да, у нас ещё осталось несколько тем, на которых я не хочу долго задерживаться, поэтому опционально быстренько их обсудить и перейти к основной части этого подкаста — токсичное писательство. Антон, что думаешь?
Антон: Кхм, ладно, давай пробежимся по списку. У нас на повестке очередное высказывание, которое я принёс из книжных клубов «тем, кому за...». Это, кстати, немного в продолжение той же скандальной темы. — Смотрит с намёком.
Миша: Зай, я всех разъебу, ты же знаешь! Говори уже, не тяни кота за яйца.
Антон: Звучит так: литература о нетрадиционных отношениях разрушает общество, из-за неё у нас падает демография, и её давно пора запретить. Во всяком случае её нельзя давать детям, а то они вырастут геями. Как ты смотришь на такой хоттейк?
Миша: Ну блядь... началось! Нихуя она из-за этого не падает. И гейству нельзя никого научить. Иначе бы, учитывая пропаганду гетеронормативных отношений, которая складывалась веками, никаких геев и лесби бы не существовало. Давай я перечислю тебе лучше причины, по которым демография действительно падает...
Антон: Не-не, ты же сам сказал, что у нас тут не про политику!
Миша: Поздно, я уже начал! Загибай пальцы! Посмотрим, сколько проблем я смогу назвать... Первое — поколение зумеров ебётся меньше из-за наличия других, более важных интересов и переизбытка легкодоступного дофамина. Второе — зумеры не экспериментируют в постели, потому что мы уже всё прочитали в интернете, поэтому, зная все детали, на практике многие вещи пробовать не хочется. Третье — женщинам больше не нужно вступать в брак, потому что они могут финансово защитить себя сами. Четвёртое — наше поколение самое информированное и самое образованное из всех, что было ранее. Пятое — многие государства не могут обеспечить безопасность будущему поколению. Шестое — многие хотят жить для себя. Седьмое — низкие зарплаты по сравнению с теми, что были во времена поколения «икс», поэтому большинству хватает денег только на хавчик для себя. Восьмое — молодёжь живёт в аренду — такси, каршеринг, съёмные хаты, подписка на кучу сервисов, — соответственно, ничего в собственности нет, а это, опять-таки, отсутствие стабильности и безопасности. Девятое — зумеры живут для себя, живут моментом, сегодняшним днём и сиюминутным удовольствием, — кофе, булочки, тортики, пицца и прочая чепухня, которая стоит десятки тысяч рублей в год, — ни у кого ещё не было столько выбора, сколько есть у нас, — это культура активного потребления. Десятое — все так заняты работой, карьерой и самореализацией, что нет времени заводить семью. Дальше...
Антон: Миш, притормози. Во-первых, пальцы закончились, а во-вторых, тебя уносит.
Миша: Нет, это уже соревнование!
Антон: С кем?
Миша: Я же сказал: «Посмотрим, сколько я смогу назвать». Это я только по верхам прошёлся! Одиннадцатое — стандартные патриархальные семейные роли, к которым привыкли наши предки («защитник» и «хранительница очага»), постепенно уходят в прошлое, и многие не могут найти себя в семейной жизни, потому что альтернативных и наглядных рабочих примеров очень мало. Двенадцатое — всё моё поколение занимается осознанностью, поэтому понимает, что не сможет вырастить ребёнка без психологических травм. Тринадцатое — молодежь в большинстве своём разочарована в семейной жизни, потому что есть базовая история под названием «папа ушёл за хлебом». Дальше продолжать?
Антон: Пожалуйста, остановись.
Миша: Ну вот поэтому гейские книжки тут вообще ни при чём. А ты что думаешь? Помешает ли тебе наличие «нетрадиционных ценностей» в медиапространстве завести бейбика?
Антон: Ну, этому уже поздно помешать. Но да, причины, которые ты перечислил, точно поважнее книжек и фильмов с «повесточкой». Это просто удобная отговорка государства, чтобы свалить свои ошибки в социальной политике на тлетворное влияние «нетрадиционных» ценностей. Идём дальше?
Миша: Да, давай. Что там ещё есть?
Антон: Как ты вообще считаешь, есть ли темы, на которые писать вот прям нельзя? Понятно, что тотальная цензура это не выход, но полная свобода — это вариант? Или всё же есть тематики, которые ты точно забанил бы для литературы?
Миша: Для меня полное табу — книги романтичного и сексуального характера с участием лиц младше восемнадцати лет. Такое вообще не должно существовать. И любые другие книги, где участвуют персонажи без какой-либо осознанности. Зоофилия, педофилия — ёбаная хуета, созданная больными уебанами для больных уебанов. Тут даже объяснять не буду. И так всё очевидно. У тебя есть что добавить?
Антон: Ну погоди, но если мы возьмём подростковую литературу, там часто встречаются романтические отношения между школьниками. Я не буду вспоминать «Ромео и Джульетту», но даже в твоём любимом Гарри Поттере первый поцелуй Гарри произошёл до восемнадцати. Тебе не кажется, что тут нужно уточнить?
Миша: Я уточнил. Педофилия. А если обоим героям, вступившим в более близкое знакомство, нет 18 лет, то как будто бы это не так критично. Но даже писать секс с участием подростков, несовершеннолетних — тоже такая себе идея. Я бы не стал такое писать. Вообще, как я считаю, дети не должны заниматься сексом. Это очень опасно, особенно если никто из участников полового контакта не знает, как защитить себя от ЗППП, или — уж тем более! — не имеет никакого представления о том, как выглядит психологическое, физическое и сексуальное насилие. Потому что есть куча историй в интернете, когда один из партнёров не хотел вступать в половой контакт, но его принуждали под соусом «если мы это не сделаем, то я с тобой расстанусь». Это насилие, которое подростки не могут распознать. И мы об этом не говорим публично! Соответственно, это порождает небезопасный секс, психологические, а возможно, и физические травмы. И учитывая то, что у нас до сих пор не проводятся действительно полезные «разговоры о важном», а родители делают вид, будто секса не существует и детей вообще нашли в капусте, то всё это приводит к огромным проблемам. А некоторые, кому дано стоять на вершине, не решают эти проблемы, отдавая предпочтение нормализации детской беременности. Пусть адекватность будет хотя бы в литературе. Поэтому, наверное, стоило бы писать книги для подростков, в которых бы наглядно описывались ситуации, в которых секс может быть небезопасен, потому что это могло бы помочь. Потому что у нас как будто нет хорошей научпоп-литературы с такой важной темой. Возможно, это даже можно сделать через нарратив, чтобы вводить подростков в тему плавно и без нудной хуйни по типу «делай так, а не так», но я уж точно никогда не осмелюсь заниматься этим самостоятельно. Потому что детская психика слишком хрупкая, чтобы обычные писатели, как я, без психологического образования, сочиняли книги для подростков именно с тем мотивом, который я предлагаю. Как я и говорил в первых выпусках: у меня самого была травма, связанная с фанфиками, где не стояло предупреждение о том, что в тексте будет упоминаться жёсткое порево. Поэтому я этим точно никогда заниматься не буду. Все мои книги предназначены для лиц старше восемнадцати лет, соответственно, и герои должны быть старше 18 лет. В этом я очень категоричен.
Антон: Вот я и привёл тебя к мысли, на которую хотел намекнуть. — Смеётся. — Тотальная цензура на какое-либо явление приводит не к сдерживанию пороков общества, а к распространению заблуждений, слухов и дезинформации. Лучше иметь возможность говорить о чём-то и просвещать других, чем сделать вид, что этого не существует, и всё. Вот что я думаю о цензуре. Конечно, без минимальной регуляции мы рискуем получить романтизацию насилия, педофилии и прочих извращений, фетишизмы и другую грязь в больших масштабах. Но я уже сделал для себя вывод, что идеального мира не существует, вся человеческая история это маятник цензуры и вседозволенности. Перегиб в любую сторону опасен, а остановиться на золотой середине мы не способны. Годы цензуры и запретов сменяются годами оттепели и беспредела, и наоборот. Но мне больше нравится иметь доступ к информации, к любому контенту — пусть приходится иногда его сортировать, — чем не иметь такого доступа вовсе. А автор, каждый сам за себя, должен понимать, что он пишет не в вакууме, что он делает вклад в мировую культуру. И оценивать — что он хочет туда вложить: здоровые идеи или хуету какую-то. Потому что о проблемах можно и нужно говорить, только так мы сможем их проработать.
Миша: Но я точно не стану брать на себя такую ответственность. Это слишком для меня. Пока я стараюсь не писать хуйню и подходить ко всему осознанно, но даже так я могу нанести кому-то вред. Так что просветительством пусть занимаются другие. Потому что, когда я был молод, я думал, что смогу взять на себя ответственность и говорить о чем-то серьёзном громко, но чем дальше в лес, тем больше я понимаю, что этот мир полон оттенков и ничто не делится на чёрное и белое. Я не могу говорить о том, что правильно, а что нет. Поэтому я рассказываю истории и ставлю дисклеймеры, чтобы люди сами думали о том, правильно ли это или нет.
Антон: Каждому своё. Ты не обязан нести ответственность, если ты не чувствуешь в себе сил. Это очень здравый подход.
Миша: А что для тебя табу? Что бы ты никогда не стал читать или писать?
Антон: Хм-м... прям строгого табу, наверное, нет. Только вещи, которые мне лично не очень приятны. Это боярки и другие фэнтези с попаданцами в каких-то князей Милославских, которые неизбежно скатываются в стёб, клюкву и гаремники. И ещё псевдофилософия от экзальтированных женщин. А, ещё «тренинги успеха», «сто лайфхаков для мотивации», книги про самопознание и саморазвитие, вот эта вся хуета, которая приносит успех исключительно самому автору за счёт продаж всяким лохам своих «успешных» книжечек. Но эти вещи мало кто читает на серьёзных щах, а если кто-то и читает, то ему уже ничем не поможешь. — Смеётся.
Миша: Спасити... Я ни слова не понял. Что такое «псевдофилософия от экзаль...» Экза, чё? — Смотрит с полным недоумением.
Антон: «Экзальтированных»?
Миша: Да, вот этих женщин. Потому что у меня вообще никаких ассоциаций с этим нет. Какая это литература, что она из себя представляет? И вот это вот... Э-э-э, ягоды? Боярышник? Боярки? У таких книг есть отдельное название? Про попаданцев в князей?
Антон: Короче, смотри. Бояръ-аниме — это такой жанр ублюдской смеси анимешного тропа про попаданцев в магический мир, с суперспособностями и гигантскими волшебными мечами, только в старорусском сеттинге, с графами, боярами и холопами. Когда ты был Вася из Шмелеёбска, тебя сбил самокатчик, ты очнулся в теле наследника дома Романовых, у тебя есть личный дракон и ты вампир-экстрасенс и сейчас приведёшь Российскую Империю к расцвету, победив орду зомби.
Миша прикрывает рот рукой и изображает шок в шоке.
Антон: Не смотри такими глазами, это очень популярный жанр... в некоторых кругах. Буквально половина «Автор.тудей». Ну, про гаремники и почему они идут рука об руку с таким фэнтези, я думаю, объяснять не надо.
Миша: Окей, ладно, понятно, что это прям те самые Мери Сьюхи... Беда пришла откуда не ждали. — Вздыхает. — Блин, ну... Звучит это так, как будто даже из таких идей можно сделать крутые истории. Мне кажется, что в такие книги нужно добавить немного адекватности и присыпать это всё реалистичным взглядом на события, без гиперфиксации на том, что персонаж всесилен как бог. Да и если так подумать, то всем Сьюхам не хватает психологизма и глубокой проработки персонажей, чтобы избавиться от кринжа. Потому что... Я терпеть не могу читать книги, в которых все проблемы можно решить по щелчку пальцев или всесильным авторским обоснуем «этот герой так может»! Я вот просто одного не понимаю: зачем писать историю, если все проблемы будут так просто решаться? Где, в таком случае, мне искать интерес? Где тогда будут приключения, проблемы, напряжение и реалистичная проработка мира? Если герою легко даётся разрешение любых проблем, то в таких книгах не остаётся места для читательского сопереживания и эмоциональной привязки к герою, а если участия быть не может, то значит, что книга сама по себе очень слабая и не обладает хотя бы толикой ценности для кого-то, помимо автора.
Антон: Эти книги и не пишутся для художественной ценности. Это попытка самореализоваться для людей, которые не преуспели в обычной жизни. В реальности у них занудная работа, быт, неудовлетворённость отношениями, нет ощущения своей значимости. И они компенсируют это книгами, где пытаются изобразить из себя крутых перцев. Как ты и говорил, решают свои психологические проблемы. Короче, это не литература, это сублимация.
Миша: Какой я умный, если так однажды сказал. А «псевдофилософия»? Что там за кринж, который тебя так вымораживает?
Антон: Что касается псевдофилософии... в рекламках Литреса встречаются частенько такие книжки, за женским авторством, где очень много пафоса и нихуя не понятно. Например: название в стиле «Лавандовые шрамы» или там «Тревожный рассвет», в описании что-то типа «Гениальная книга, бестселлер всех времён, невероятное погружение в тайны души, исследование человечества и моральности, никого не оставит равнодушным», без единого слова про сюжет или концепцию. При том, что никто про этот бестселлер толком не слышал и «великий автор непревзойдённых шедевров» это какая-то неизвестная мадам, копирайтер-фотограф-вышивальщица-кондитер-учитель истории в младших классах, лет сорока. И сюжета в таких книгах нет, только набор метафор, как героиня шла по бульвару, встретила летящий листочек, он сел на срущего голубя, и это должно символизировать её внутренние моральные трудности и суровость эпохи. Это вещи, которые пишутся ебанутыми для ебанутых, но почему-то их очень любят рекламировать за деньги. Я не перестану тыкать пальцем на дебильное «Бюро слухов» Оффилл, которое как раз хорошо иллюстрирует такие псевдокнижки.
Миша: Ну так а в чём минусы? Просто то, что это литература без сюжета? Мне кажется, что в таком же контексте можно говорить и о сборниках авторских сочинений с зарисовками вайбов: «Я шёл по улице, наблюдал за тем, как город окрашивался в ярко-красные цвета закатного солнца». В этом есть созерцание и какое-то отчуждение от мира. И тип вся книга может состоять из таких вот зарисовок-сочинений, направленных на погружение во внутренний мир героя через наблюдение за внешним миром. Просто вайб и настроение — то, как я понял, о чём ты говоришь. Верно или нет? Или я всё ещё не понимаю, о чём ты?
Антон: Не совсем. То, что ты назвал, это вроде экспрессионизма. Художественное переложение своих эмоций. А я говорю о книгах, которые пишутся «потому что писать книги это модно», и в голове у автора изначально нет никакой задумки, кроме «надо написать книгу». Отсюда пересказ реальности в стиле «что вижу, о том пою» и попытка выдать это за творчество путём саморекламы и выебонов. Когда автор краем уха слышал, что у хорошего писателя «синие шторы» это метафора на меланхолию (к примеру), но сам он придумать такую метафору не в состоянии и просто решает «напишу «синие шторы с жёлтыми кругами и красными полосами» и сделаю вид, что это ещё более сложная метафора, а кто не понял, тот сам тупой». Объяснения у метафоры, конечно, не будет, потому что изначально это текст ради текста, без внутренней идеи.
Миша: В таком случае я снимаю этот вопрос, потому что писать книги по причине «это модно» — бред. Сочинительство — это не про моду, а про авторские страдания и решения психологических травм. И я удивлён, что люди до сих пор не понимают такую простую истину — ни один нормальный человек не станет заниматься творчеством.
Антон: Вот и я об этом! Ладно, что там у нас дальше по списку?
Миша: Я заготовил ещё один тейк, который мне бы хотелось обсудить — не отходя от кассы, так скажем, — раз уж мы уж прошлись по ЛГБТ-тематике и прочим социальным проблемам. Что ты думаешь об омегаверсе?
Антон: Ох, сложный вопрос. Не хочу никого обидеть, но мне эта тематика кажется нездоровой. Омегаверс подразумевает наличие двух полов, которые оба вроде как мужчины, но по факту один из них выполняет женскую роль. Казалось бы, почему просто не взять в текст обычных женщин... может, это скрытое желание заставить мужчин почувствовать все недостатки женского пола на себе? — Смеётся.
Миша: Я вообще думаю, что омегаверс — это то же самое, что и гет в рамках патриархата, но без женщин. Там вообще нет ничего нового: спиздили из патриархата всё, вплоть до стереотипов, угнетения, репродуктивного насилия, социального неравенства, проституции и прочей фигни, включая адаптивки. То есть получается, что в омегаверсе все беды женщин просто переложили на омежек, тех же женщин, но с членами. И меня больше удивляет, что мир омегаверса преподносится читателям как норма, потому что там никто не пытается бороться за свои права и всё воспринимается как должное. А те же «гомоотношения», омега-омега и альфа-альфа, воспринимаются как «неправильные». И я не понимаю, в чём прикол? Это попытки романтизировать патриархат и гетеронормативные отношения, где женщину воспринимают как объект? — Вздыхает. — Что ж, учитывая, сколько девочек я знаю, которые обсасывают и облизывают омегаверсные фанфики по БТС вдоль и поперёк, пропаганда удалась.
Антон: Я думаю, ты прав. Это романтизация, такая же, как в историях про влюблённость в насильников и других мудаков, которые сначала творят всякую хуйню с героиней, а потом, так и быть, берут её замуж и обеспечивают деньгами, и это преподносится как счастливый финал. Я про вот эти ублюдские любовные романы в мягкой обложке. Тут то же самое. Про женщин уже как-то не принято писать такую унизительную, дискриминирующую хуйню, а про омег вроде как можно, это же мужчины. И получаются те же яйца, только в профиль, у нас тут слабый сопливый омега и весь из себя мужественный-секси-богатый-пафосный альфа, для которого надо рожать детей и варить борщи. И можно наслаждаться этим шаблоном без боязни прослыть жертвой патриархата. Но это ловушка дьявола, потому что по сути то же самое.
Миша: Меня просто до жути раздражает сам факт существования омегаверса и людей, которые его читают да в придачу ещё и романтизируют. Была у меня одноклассница на курсах по корейскому, которая однажды сказанула такую лютую дичь... Это было что-то вроде: «Я хочу попасть в омегаверс, быть омегой и жить счастливо!» Боже, я не знаю, как выглядело моё табло в тот момент, но мне кажется, что оно было очень красноречивым. Я хотел спросить: «А "жить счастливо" сейчас здесь, с нами, в этой комнате?» Мое желание морализаторствовать в такие моменты растёт с удвоенной силой. Во-первых, мы сейчас живём в ёбаном омегаверсе, а во-вторых, подобный контент создаёт ложные представления о том, что в гомосексуальных парах отношения должны строиться на гетеросексуальной основе. Из-за этой вот хуйни и появляются тупые вопросы в стиле: «А кто из вас женщина, а кто мужчина?»
Антон: Мне кажется, омегаверс — по крайней мере, те немногие вещи, с которыми я ознакомился, — это даже о гетеросексуальных парах даёт крайне ложное впечатление. Это вообще какая-то извращённая версия отношений в принципе. Допускаю, что мне не попадались приличные тексты, но то, что я видел, была лютая хуета, написанная на подрочить свой фетиш. Если кому-то это так уж нравится, хрен с ним, но на полном серьёзе мечтать о таких вещах в реальной жизни, это нездорово. Пусть это останется только в рамках фанфиков.
Миша: Даже в рамках фанфиков... Это приносит такой вред психике! Потому что начинаешь принимать бред за норму! Вот все, кто однажды думал подобный романтизированный ужас про омегаверс, просто прикиньте разочек: речь идёт об отношениях с токсичным ублюдком, который сексуально, физически, репродуктивно, финансово и морально насилует человека, которого якобы любит; у такого человека отсутствует понимание себя, понимание своих чувств, сочувствие и эмпатия к другим людям; уровень организации такой личности колеблется от пограничного к психотическому. Я сейчас перечислил базовую базу таких фанфиков, чистый фундамент. Норм? Нет?
Антон: Когда ты так говоришь, у меня мурашки. Очень страшно, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое...
Миша: Бу! Я рассказал страшную сказку на ночь. Правильно, бойся этой хуйни... Но я не мог это не упомянуть. Всё ради осведомлённости общества. Потому что иначе, если верить в «нормальность» таких фанфиков, мы все в лесу будем выбирать не медведя. Хотя медведь, чисто субъективно, по моему мнению, в таких ситуациях лучше, чем арбузер. — Вздыхает. — Антон, мы тут закончили? Есть что добавить?
Антон: Давай забудем как страшный сон. Если долго вглядываться в омегаверс, он может начать вглядываться в тебя, а я этого не хочу.
Миша: Страшно, очень страшно... Не надо нам, чтобы омегаверс всматривался в нас. — Смеётся. — Раз уж мы закончили обсуждать всё, что не успели в прошлый раз, то можно перейти к нашей основной теме: токсичное писательство. Мы уже обсуждали графоманию и то, что она вредит творчеству в прошлых выпусках. Но вот что вредит творчеству в тысячу раз больше — так это сумасшедшие дедлайны. Антон, ты согласен со мной?
Антон: Ура, мои любимые сложные вопросы. Сами по себе дедлайны неплохи — для кого-то. Вот я, как человек ленивый, скажу честно: совсем без дедлайнов я бы не сделал ничего в своей жизни. Мне всегда нужны чёткие временные рамки, иначе я забиваю хуй. Но не все люди одинаковы, к тому же дедлайны могут быть адекватными, а ты наверняка не про них хотел поговорить.
Миша: Конечно, нет! Иначе стал бы я поднимать эту тему? Сейчас будет небольшая подводочка... — Усмехнулся. — Все писатели, наверное, слышали о существовании такого замечательного челленджа под названием NaNoWriMo, читается как «нэнораймо», но когда я был школьником и ещё не знал английский так хорошо, то я привык называть этот челлендж «Нановримо» — для своего удобства я буду называть его так — и ебитесь с этим как хочите. Расшифровывается это так: «National Novel Writing Month», — дословно переводится как: «Всенациональный романский написательский месяц».
Антон: Вообще-то «Всеобщий месяц написания романа». У кого-то встроенный автопереводчик из две тысячи десятого?
Миша: Нет, это просто то, как мой мозг ощущает эти слова на русском языке... И вообще, чего это я должен оправдываться? Не соль, в общем! Главное — почувствовать вайб страдания. Переведу ещё точнее: «перестаньте жить, порвите жопу, но напишите ебучий роман объёмом 50 тысяч слов за какой-то там месяц», — делов-то! Сам я узнал о существовании этого челленджа еще в далёком 2016 году, когда мне ещё было 15 лет... — Вздыхает и прикрывает глаза рукой. — Боже, это было десять лет назад... В общем, да, я узнал о существовании этого челленджа в пятнадцать лет, когда мама решила поддержать мой интерес к писательству и подарила мне книгу под названием «Литературный марафон». В этой книге один прошаренный чувак рассказывает о своём опыте написания книг в формате этого челленджа. Сказать честно? Я впечатлился. И что вы думаете? С тех пор я пытался осилить этот челлендж, но так и не прошёл его до конца! Ни разу! До восемнадцати лет я устраивал эти челенджи каждый сезон, круглый год, но не написал ничего стоящего, да и вообще свою первую книгу я закончил лишь в 21 год. И рядом со мной сейчас сидит человек, мой коллега по токсичной продуктивности, Антон, который в прошлом ноябре рискнул и решился взяться за этот челлендж. Антон, скажи, у тебя всё хорошо?
Антон смеётся: Это намёк, что у меня беды с башкой, раз я в это ввязался?
Миша: Что-то типа того, ага. Ладно, задам вопрос поточнее: где ты откопал эту древность в 2024 году и почему решил поучаствовать? Потому что, сказать честно, после 2018 года, когда я перестал чекать хештеги челленджа Нановримо в Инсте и Твиттере, я больше не видел упоминание этого абортыша продуктивности нигде, кроме твоего канала.
Антон: Ну спасибо. Вообще-то это мелькнуло в писательском сообществе, на которое я подписан. И до сих пор народу нравится. Я ни разу ещё не участвовал, хотя многое слышал. И я уже упоминал, что совсем без дедлайнов работать не могу. Поэтому раньше я пытался стимулировать свою писательскую жилку участиями в конкурсах и литературных дуэлях. Вот мне и показалось, что челлендж — тоже может быть прикольно. А что из этого вышло, ты и сам помнишь.
Миша: Но наша аудитория не помнит, поэтому я планирую расспрашивать тебя долго и мучительно. Мне важны все детали, потому что в них кроется дьявол. Вообще как ты подходил к старту челленджа? Ты собирался писать уже по готовой идее? У тебя был хоть какой-то маломальский план?
Антон: У меня был план надёжный как швейцарские часы. Я думал, что если каждый день по часу-двум пялиться в пустой Вордовский документ, то у тебя через месяц там что-то появится. — Вздыхает. — На самом деле у меня куча гениальных идей в голове, но ни одного чёткого плана пока не родилось. Я надеялся, что силой усадить себя за клавиатуру как-то поможет. Вместо этого я получил месяц страданий и в итоге сдался. Оказывается, такой объём выдать физически тяжело, не говоря уже о том, что все мозги кипят ежесекундно в попытках родить что-то, дотягивающее до ежедневной нормы слов. И месяц — это очень мало, потому что он быстро пролетает, а ты в постоянном стрессе от того, что нихуя ещё не написал. А ещё совсем нет времени продумывать логику, исправлять сюжетные дыры, придумывать события помимо основных и вообще хоть как-то структурировать текст. Месяца может хватить разве что на то, чтобы нагнать сырой текст на уже готовый и продуманный костяк сюжета, и это без вычитки и прочего. А если плана сюжета нет, это сразу до свидания, можно было и не связываться.
Миша: Отличный план — пялиться в пустой файл Ворда! — Смеётся. — Я вообще удивлен, что ты, как человек со стратегическим мышлением, подошёл к этому челленджу из рук вон плохо! Но я с тобой согласен: написать книгу за месяц невозможно. Для того, чтобы написать полноценную книгу, даже объёмом 50 тысяч слов, нужно долго готовиться: продумать сюжет, ключевые моменты, прописать особенности персонажей, характеры и то, как всё будет переплетаться и влиять друг на друга. Даже без учёта написания самой книги у меня уходит довольно много времени просто на проработку идеи и персонажей. Прежде чем написать книгу, нужно хотя бы немного подготовиться, составить реально рабочий план. Потому что важны все детали, начиная от того, кто будет повествующим лицом, заканчивая глупым цветом штор, означающих печаль главного героя. Иногда я вот слушаю писателей, которые якобы пишут книги от души, ничего не продумывают и естественным путём рождают новые идеи для книги по ходу сюжета, и думаю: а таким способом вообще возможно написать действительно глубокий и проработанный сюжет? Для меня такие подходы к написанию книг как будто слишком поверхностные. Потому что если я буду писать книги «естественным путём», то там сюжет уйдёт в такие непонятные дебри, там будет столько неопределённостей, что я скорее не книгу напишу, а свой психологический дневник. А я терпеть не могу книги в стиле «поток сознания»!
Антон: Наверняка есть такие уникумы, которые могут писать напрямую из головы, но теперь я точно знаю, что это не я. — Смеётся. — Да, я начал без плана, но я знал, что не дойду до конца. Я просто хотел подтолкнуть себя хоть к какому-то тексту, перешагнуть через барьер «пустого листа». Это изначально не задумывалось как готовая книга. Если я начну работать над настоящим текстом, без плана будет не обойтись. Может, в следующем ноябре я как раз попробую по-правильному.
Миша: Вот это правильно, то, что ты говоришь! План — всегда хорошо... Хотя нет... Давай так: я считаю, что к таким челленджам нужно подходить комплексно и прибегать к ним только в том случае, когда начинаешь прокрастинировать через планирование или есть страх «пустого листа», как ты и сказал.
Антон: Вот сейчас не понял, расскажи поподробнее.
Миша: Планирование?
Антон кивает.
Миша: «Прокрастинация через планирование», как я это называю, это вещь, абсолютно полярная «естественному писательству». Иногда писательское планирование настолько затягивает... Ну, знаешь, все эти таблицы, списки, схемы... Некоторым людям это настолько нравится, что они готовы переделывать свою черновую структуру сюжета десятки тысяч раз, лишь бы вообще ничего не писать. Это что-то вроде страха перед прыжком в глубокий бассейн, после того как учился плавать на мелководье: база и фундамент у тебя уже имеются, но глубже заходить страшно — вдруг ноги не достают до дна и есть риск утонуть? Вот эти люди, прокрастинаторы-планировщики, как на уроках плаванья: всё на мелководье ногами барахтаются, за бортик руками держатся и глубже заходить боятся — ничему новому они уже не научатся, топчась на месте. Так что планированием тоже нельзя увлекаться. Нужно действовать!
Антон: Боже, как сложно. Долго планировать нельзя, мало планировать нельзя, чё делать-то? Как какать? Где волшебный рецепт, чтобы вжух — и ты написал книгу?
Миша: Как какать? Как какать?.. Тут я и сам не знаю... Волшебного рецепта нет, в этом вся и фигня. В поиске золотой середины помогает только опыт. Так что, если заниматься писательством, да и любой другой деятельностью в принципе, опыт решает многое. Так что нельзя бояться сделать фигню. Чем больше фигни сделаешь, тем больше опыта получишь. Ты и сам, наверное, это знаешь. И всё осложняется тем, что ты хочешь изначально получить конфетку, а в итоге может выйти какашка. — Смеётся. — Мне писательский челендж Нановримо дал очень много опыта и научил ценным вещам, прежде чем я выдал свою первую законченную работу.
Антон: То есть, занятие не совсем уж бесполезное?
Миша: Да, это не совсем шляпа. Как говорится, если долго мучиться, то что-нибудь получится. В моём случае получился нихуевый такой опыт выживания. В первую очередь я научился структурировать процессы и полностью планировать всю свою деятельность от и до. Самодисциплина. Это прям очень сильная вещь. Никакая мотивация не сравнится с дисциплиной, это я знаю на все сто процентов. Мотивация — это лишь пять процентов от успеха, а всё остальное — упорный труд. Это очень важно осознавать... Да. И ещё я научился выдавать текст даже тогда, когда нет ни сил, ни слов, ни времени. Но, естественно, я этим умением редко пользуюсь, иначе будет смерть: насилие, даже над собой, еще никого до добра не доводило. И я перестал бояться белого листа. В моменты, когда сидишь и не знаешь, с чего начать, главное — начать. Вроде бы простая мысль, которую знают все, но вот чтобы перевести ее в активное действие — нужно постараться, потому что страх иногда сильнее желания. Так что я, наверное, просто скажу, что главное в этом деле — не бояться неудачи и пробовать действовать по-разному: так и сяк — как будто вертишь кубик Рубика без знания комбинаций, — со временем понимание придёт, но только если будет опыт. Ты, кстати, сталкивался с выгоранием в моментах, когда смотрел на пустую страницу в Ворде и не мог ничего написать? Или же прям во время написания чувствовал, что сил у тебя нет, и возникала мысль всё бросить в моменте?
Антон вздыхает: Пока это единственная мысль, которая у меня возникает, когда я сажусь за Ворд. Я вспоминаю кучу разных прочитанных крутых книг и думаю, что раз у меня не получается выдать хоть что-то похожее, то и ну его к чёрту. И в итоге, пока я в муках рожаю одно слово, кто-то выкладывает сто восьмую главу шестнадцатого тома приквела третьей серии про попаданца в Гитлера. И я думаю — зачем пытаться? Понимаю, что это не тот настрой, с которым рождаются шедевры, но пока как-то так.
Миша: Ты вообще часто себя сравниваешь с другими? Потому что я тоже подписан на кучу продуктивных писателей, чья активная деятельность может по-настоящему пугать и деморализовать. Мне становится особенно грустно, когда у меня нет времени на писательство, а родить какой-то текст ну прям очень хочется.
Антон: Да, я часто анализирую чужие тексты и хорошо вижу, какой уровень мне пока недоступен.
Миша: Как ты спасаешься от того, чтобы не сравнивать себя с другими и не впадать в уныние?
Антон: Надо понимать, что все писатели разные. Нет идеальных книг, но есть очень много крутых, ценных произведений, и все они по-разному работают. В этом очень помогает вдумчивый анализ. Когда читаешь книгу и не просто думаешь «Блин, как здорово написано, вот бы мне так», а разбираешь по деталям. Почему вот тут хорошо? Как это работает? Как бы я мог применить эту идею? Некоторые приёмы работают только в определённом жанре, некоторые вещи даются только писателям с определённым характером или типом личности. У каждого автора свой стиль, свои сильные и слабые стороны, свои фишки. Нельзя сказать, что условный Толстой лучше Достоевского, а они, в свою очередь, лучше Донцовой.
Миша падает от смеха на фоне.
Антон: Ну я серьёзно. Это разные люди с разным бэкграундом, с разными писательскими целями. И каждый может быть хорошим писателем, если найти свою нишу и свой стиль. Может, ты дохуя продуктивный, а может, ты всю жизнь пишешь один важный роман. Главное — идти в своём ритме.
Миша: Тут я абсолютно согласен. Спешка реально вредит.
Антон: А ты?
Миша: А я? Почти как ты! Просто я ещё стараюсь не ожидать от себя многого. Я спасаю себя той мыслью, что у каждого свой темп. Кто-то работает быстро, а кто-то медленно. Мне кажется, что нужно принимать свои особенности и учитывать потребности. Не всем же быть Стивенами Кингами, которые могут сесть за текст и писать его, пока руки не отвалятся. Но я бы сказал, что и как Джордж Мартин в творчестве себя вести не стоит, потому что (как он сам говорил) он может размышлять о том, что напишет в следующей главе, месяцами, если не годами. Это, как я считаю, часть прокрастинации и лени. Но я признаю, что у меня тоже бывают моменты, когда я могу сидеть над одним абзацем днями и тщательно подбирать слова, потому что есть такие эмоциональные сцены в историях, когда даже я не справляюсь. И, когда такое всё-таки случается, я просто стараюсь быть искренним с самим собой: «Да, у меня не получается, значит, сейчас я могу написать хуйню», — я признаю это, пишу хуйню и иду дальше. Со временем я стал воспринимать такие моменты как тесты на экзаменах: учителя всегда мне советовали не зависать на трудных заданиях и сразу переходить к следующим, а в конце вернуться к тому, что вызвало сомнение, если останется время.
Антон: Забавно, что я тоже слышал такой совет от учителей, но мне не приходило в голову использовать его в творчестве. Вот что значит быть писателем, все мысли только об одном, да?
Миша: Я живу только ради писательства.
Антон: А вот у меня ещё к тебе вопрос. Ты говоришь, что умеешь писать, даже когда нет вдохновения. А бывает наоборот? Что гениальная мысль приходит, когда под рукой нет ни тетрадки, ни ноута? Ты вскакиваешь в два часа ночи, чтобы записать то, что вертится в голове? Или это тоже признак неорганизованности?
Миша смеётся: Ты буквально описал каждую мою ночь во время работы над книгами. Именно поэтому я почти не сплю. Моя голова всегда находится в процессе генерации идей, иногда они хорошие, а иногда нет. Но я тебе так скажу: гениальных идей не существует. Это всё очень субъективно. Я обычно оцениваю «успешность» идеи только по одному критерию: насколько хорошо идея будет работать в онлайн-формате, соберёт ли достаточно просмотров и откликов. Но кстати, в основном я выбираю не «успешные» идеи, а те, которые мне нравятся. У меня есть сейчас две работы, которые приносят постоянных читателей, — это дилогия «Другая» — то есть это моя основная аудитория, и две работы, которые поднимают охваты — «Властитель» и «Личность» — все читатели-мимопроходцы. Так что, прежде чем взять любую идею в работу, я оцениваю её перспективы. Когда я не знаю, стоит ли вообще тратить время на сиюминутные «гениальные» вбросы своего мозга, то даю идее пожить какое-то время, но для начала я всегда её записываю в заметки или прорабатываю в голове так, чтобы рассмотреть под разными углами. «Даю этой шляпе два месяца!» — так я говорю, когда сомневаюсь. Если идея меня не покинет за это время, то игра стоит свеч. За два месяца сомнений можно расписать всё, что пришло в голову, а потом решить, надо оно тебе или нет. Потому что иногда наши идеи не могут быть реализованы в моменте, мы можем быть не готовы к ним морально. Вот, например, моя идея с дарк-романом: я задумал его написать ещё года три тому назад, но всё ещё не начал, потому что не был готов погружаться в то, что придумал. Недавно я снова вернулся к этой идее, но как будто я уже решил все сюжетные моменты, кроме одной, самой главной детали — от чьего лица я буду повествовать? От лица насильника или жертвы, а может, от лица автора, а может, микс, как в «Тайне»? Этот вопрос сейчас самый насущный, потому что именно этот выбор повлияет на читательское восприятие всей истории в целом. Это, наверное, единственный случай, когда я так долго думаю над книгой. Потому что в основном я достаточно импульсивен. К примеру, за «Властителя души» я взялся в моменте. Я просто взбесился от чьей-то нелогичной работы на Фикбуке и решил полностью переписать чужую историю под себя! От идеи до реализации не прошло и секунды: как только я закрыл страницу Фикбука на телефоне, то уже сидел за компьютером и писал первый абзац, начиная историю прям с того момента, который первым пришёл в голову! Даже план глав я составлял на ходу, описав всё лишь ключевыми словами по типу: «неразделённая любовь», «тайная личность» и «драма». Потому что я уже знал, что придумал то, что получит неплохой спрос на Фикбуке. Так и вышло, кстати! «Властитель» сейчас, даже несмотря на нулевую активность моего профиля, приносит мне неплохие охваты. Так что тут стоит вопрос о том, насколько хорошо идея работает именно для тебя. Гениальна же она или нет... Пусть решают читатели. Иногда мы называем простые вещи чем-то гениальным, а иногда и сложные. Вот у тебя были такие идеи, которые ты прям горел реализовать в моменте? Прям здесь и сейчас?
Антон: Собственно, мои небольшие публикации — это они и есть. Когда моё вдохновение совпало с моей продуктивностью и получился маленький рассказ. Очень редкий случай, когда так. Обычно я пишу наброски и заметки, а потом они покрываются пылью, пока я окончательно не забью на них хуй. Ни разу такого не было, чтобы старая идея многолетней давности дошла до чего-то финального. Это либо я вот прямо сейчас что-то сделаю, либо можно хоронить.
Миша: Я тебе уже говорил это лично, но повторюсь ещё раз: нужно брать себя на горячем. Печь, пока горячо! Со временем идеи могут потерять актуальность, особенно если ты понимаешь, что как личность ты быстро растёшь. Если ты всё время учишься и каждый день получаешь новую информацию, обдумываешь её, воспринимаешь, проживаешь, пропускаешь через себя, то ты всё время меняешься, не стоишь на месте. А мы с тобой такие люди, которые жадные до знаний. В наших головах возможно всё. Мы перерастаем идеи быстро, молниеносно. Поэтому нужно действовать уже сейчас, пока идея не лишилась актуальности. Потому что тогда ты уже не будешь жалеть об упущенном моменте! И если берёшься за идею, которая работает только здесь и сейчас, то лучше всего не растягивать работу надолго. До того, как я поступил в корейский университет, который забрал у меня всё свободное время, я не давал себе более трёх месяцев на реализацию одной идеи и старался закончить как можно быстрее. Сейчас же у меня не так много свободного времени, поэтому и работа растягивается. Я стараюсь поддерживать в себе интерес к старым работам, чтобы не забрасывать их, так что процесс идёт, но медленно.
Антон: Хороший совет, осталось только найти время на такую мощную концентрацию.
Миша: Мощную концентрацию? Я почему-то вспомнил прикольные асаны из йоги. Кстати, попробуй шавасану, она классно прокачивает Сахасрару. Это просто лежание на спине. Там такая мощная концентрация энергии происходит... Я обычно именно в этой позе придумываю все крутые идеи для книг! Лежать и думать. — Смеётся. — Кстати, вот по поводу боязни белого листа: ты вообще когда-нибудь думал, откуда это вообще в нас берётся? Типа... Мы же творцы! Творцы гораздо ближе к богу, потому что он тоже является создателем. То, что мы можем что-то придумать, это уже что-то великое... Но откуда этот страх?
Антон: А у тебя никогда не было такого, ещё в школе, что ты берёшь чистую тетрадь и думаешь, вот сейчас буду писать красиво и аккуратно, но к третьему листу всё идёт по пизде, почерк как из задницы, появляются помарки и зачёркивания? И получаешь стописят замечаний от учителей и от мамы. И в итоге ты просто покупаешь кучу тетрадей, но тебе жалко их тратить, потому что все они потом станут потрёпанными и некрасивыми?
Миша: Нет, у меня всю жизнь был почерк как у курицы, пишущей лапой. На меня реально орали все, но мне было так пофигу, потому что я ничего не мог с этим сделать. У меня и буквы кривые были, и ошибки были, и отзеркаливание... Одним словом — дислексия. Думаешь, это влияет?
Антон: Влияет, скорее, реакция окружающих. Если тебя дрочили за некрасивости, тебе сложнее принимать свои ошибки. Мне кажется, это что-то вот оттуда. Пока ты ещё ничего не написал, ты ещё ничего не запорол. И с текстом так же. Ты хочешь написать сразу идеально, но боишься ошибиться. Понятно, что в Ворде можно стирать и писать заново сколько угодно, но вот этот психологический барьер в башке, он стоит.
Миша: Ну не знаю... У меня так-то и тетради даже не было. С пятого класса я носил один листочек на все предметы, а учителя называли его туалетной бумагой. — Смеётся. — Мне кажется, что у тебя синдром отличника просто.
Антон смеётся: Ну вроде того. Я тот человек, который никогда не чертил графики ручкой, у меня всегда был полный пенал карандашей, ластиков, линеек, циркулей и цветных ручек для выделения. Почерк у меня хуёвый...
Миша: А-а-а, так ты заранее готовился стать врачом... Боже... Какова дальновидность...
Антон: Кстати, в меде мой почерк, наоборот, исправился. Парадокс. Но ещё со школы я старался писать так, чтобы идеально соблюдать отступы, абзацы, не переносить слова по строчкам и чтобы было симметрично, хотя в меде это уже было нереально.
Миша: Знаешь, что я тебе скажу? Я даже слова переносить не умел. Если дальше были красные поля, то я писал на них до тех пор, пока слова не начинали сползать по странице вниз. Но вот эта вот история с отступами у тебя... Я никогда о таком не думал. Мне было глубоко плевать на эти правила по оформлению.
Антон: Бля, у меня, возможно, были проблемы с башкой... Ладно, пойдём дальше. Я вспомнил ещё один тейк из интернета, с которым часто залетают начинающие писатели. Хочу услышать твоё мнение по вот такому высказыванию: «Я знаю, что моя книга написана плохо, сыро, с ошибками, но ничего менять или редактировать не буду, потому что мне уже неохота или я занят другими текстами. К тому же я уже выложил такую версию, так что нет смысла что-то делать». Как ты считаешь, это правильный подход? Не отнимать время от работы над новыми идеями, чтобы допилить старые?
Миша: По мне так это трезво. Если это, конечно, не грамматические ошибки, которые можно исправить с помощью редактора или беты, просто потыкав на галочки и исправив парочку предложений, как это у нас с тобой происходило, то можно и оставить работу. Когда весь текст — это одна сплошная ошибка, то проще принять его таким, какой он есть, взять во внимание все недочёты и, научившись на старых ошибках, пойти дальше писать книги. Нет смысла зацикливаться на старом. Мы поэтому и совершаем ошибки, чтобы учиться на них. Если зацикливаться и всё время пытаться доработать то, что доработать нельзя, то можно совершить ещё больше ошибок и увязнуть в них. Прогресса в таком случае не будет. Лучше довести плохую работу до конца, потренироваться на ней, а потом начать всё с чистого листа. «Личность», моя первая законченная книга, вообще далека от идеала, она не дотягивает до оценки «приемлемо» в моих глазах. В ней нет ни искусного языка, ни логичного и глубоко проработанного сюжета. Да и «Другая терапия» тоже вышла не самой крутой с точки зрения языка. Но если бы я завис на этих работах, пытаясь выверить каждое слово, огранить всё до бриллианта, то, скорее всего, алмаз бы просто раскрошился в моих неопытных руках. Пусть это будет не лучшая огранка, но зато драгоценный камень останется целым. Я считаю, что старые работы должны оставаться такими, какими авторы их пишут на момент своей учёбы, чтобы возвращаться к ним спустя какое-то время и наглядно видеть свой прогресс. Первые работы никогда не будут идеальными. С этим просто нужно смириться. А ты как думаешь? Я чувствую, что ты один из тех людей, которые не могут оставить работу, пока не замучают ее до идеала; пока самих не начнет тошнить от постоянного переписывания. Я прав?
Антон: Ну почти. Я просто не хочу, чтобы мой писательский след начинался с откровенно слабых работ. Если я вижу, что сейчас я могу лучше, я хочу вернуться и переделать. Но я не рассматриваю это как зависание на одном месте. Это всё ещё работа над собой, просто на старом материале.
Миша: А по мне, так это прикольно, когда твои читатели могут вернуться к твоим старым работам и сказать: «Вау, по твоим текстам реально виден рост!» Меня лично очень вдохновляет перечитывать старые работы авторов, за которыми я слежу уже долгое время. Меня это успокаивает, потому что я думаю о том, что каждый с чего-то начинал, а это значит, что у любого человека есть возможность стать лучше. Ты вообще как думаешь, тексты, которые самому стыдно читать, их вообще стоит удалять, скрывать ото всех, или лучше оставлять в публичном доступе?
Антон: Я бы скрыл. Я вообще многое скрываю, что не хочу показывать прямо сейчас. И по социально-политическим причинам в том числе. Но ещё потому, что мой профиль должен быть идеальным: не историей проб и ошибок, а как резюме — чистым и гладким. Это мой перфекционизм, ничего не могу с собой поделать.
Миша: Тут ещё стоит учитывать то, что твой профиль должен подчёркивать твой профессионализм как редактора. Резюме — это прям в точку. Если бы я вёл профиль редактора, то я бы тоже постарался его вылизать, чтобы он прям был представительным. И, — без шуток, — я бы поставил на аватарку свою фотографию в костюме! — Тихо хихикает. — Я не смеюсь! Но как писатель я бы стремился быть максимально открыт с аудиторией. Да и я, наверное, слишком хвастлив, мне всегда нужно выставлять свои результаты и достижения напоказ. Я не про тишину. А вот ты довольно скрытный, так что это понятно.
Антон: На самом деле мне тоже нравится читать чужие произведения из разных периодов творчества, следить за ростом и развитием, отмечать прогресс. Я никогда не осуждаю чужие старые произведения, если они хуже новых. Но к самому себе у меня другие стандарты.
Миша: Тебя можно понять. Ты идеальный мальчик с Фикбука. — Смеётся. — Кстати, я тоже нашёл клёвый тейк, и мне интересно, что ты скажешь. — Смотрит с прищуром.
Антон: Ну-ка, ты меня заинтересовал.
Миша: Звучит так: можно ли быть хорошим писателем, но при этом не читая много или вообще не читая? И еще дополнительный вопрос на засыпку: что вообще должен читать писатель? Потому что я вообще struggling with the answer.
Антон: Ответ будет неутешительным, но читать надо. Прям надо. Мне встречались неплохие авторы, который признавались, что читают мало, не любят литературу, но это скорее исключения из правил. Дело даже не в том, что ты чтением поднимаешь навыки русского языка или формулирования мыслей, с этим может помочь и грамотный редактор. Но ты банально держишь руку на пульсе современной литературы. Что сейчас пишут, как пишут? Какие темы популярны? Какие авторы на волне трендов? Почему? Все эти вопросы нельзя изучить по чужим мнениям из тик-тока.
Миша смеётся: Мой любимый тик-ток!
Антон: Вот-вот, ты понял намёк. Я к тому, что ты, как писатель, должен постоянно в это погружаться, если хочешь, чтобы твои тексты были актуальны. А вот что читать, тут вопрос посложнее. Я бы сказал так — читайте всё. Читайте классику, она грамотная и вдумчивая. Читайте современное, модное и хайповое. Читайте статьи и обзоры, это тоже может быть полезно, чтобы быстро почерпнуть для себя какие-то идеи. Читайте детские и взрослые книги, они хорошо показывают, под какими разными углами люди смотрят на мир в разном возрасте. Читайте даже, хуй с ним, Мерисьюшные фанфики, если это приносит вам удовольствие, потому что удовольствие тоже важно. На самом деле я только что придумал шикарную метафору на свой совет. Представьте, что вы — нейросеть. А человек это и есть очень сложная нейросеть. Любая нейросетка, как бы хорошо она ни была написана, не может работать без базы, на которой она обучается. Вот чтением вы загружаете в себя эту базу знаний: чем больше книг прочитано, чем более они разнообразны — тем шире ваша база и тем проще вам потом выдать релевантный ответ. Если вы читаете мало или делаете упор только на один жанр, то и ваша база будет однобокой, а ваше мышление — узким. Понятно, что всё на свете прочесть нереально, но к этому можно идти. Как-то так.
Миша: Кстати, да. Очень хорошее и толковое сравнение. И я не могу не согласиться, что нельзя стать реально крутым автором, не находясь глубоко в литературе. Нужно изучать то, в чём хочешь стать лучшим. Нельзя написать программу без знания компьютерного языка, так же и книги. Но я как будто могу сказать, что не обязательно много читать. Потому что очень крутым штукам можно научиться и в жизни, и таким авторам так же будет что рассказать, правда, с точки зрения литературного языка такие книги могут не дотягивать. Я говорю именно с точки разнообразия контента, мнений и прочего, ведь по факту вся литература наполнена каким-то опытом, которым мы хотим поделиться. И в принципе, если человек — экстраверт, с кучей разного жизненного опыта, с разными взглядами на мир, да и вообще сам по себе творческий человек с фантазией, то в литературу он может зайти довольно легко. Да, это будет не так идеально, слабо, но, в принципе, такое тоже возможно.
Антон: Ну в целом да. Если мы не берём техническую сторону, то в плане мнений и идей можно обойтись и просто познанием мира. Но чтение, как по мне, это самый простой способ. Через книги можно пережить самый разный опыт, который уже проработан, разложен для тебя на буковки и выдан тебе на блюдечке. Миллиарды идей, тонны контента, характеры людей и особенности мироустройства — всё уже предложено, только открой книгу и возьми. Можно искать всё самому, общаться с людьми, путешествовать, работать на разных работах — а можно просто прочитать про это. Но я не уменьшаю ценность реального жизненного опыта, конечно, он тоже важен.
Миша: Это верно. Но, как я думаю, авторам, которые вообще ни разу в своих руках книг не держали, будет гораздо проще написать историю без клише. Потому что, читая книги, особенно плохие, мы довольно быстро начинаем разделять персонажей на плохих и хороших, вешать на них ярлыки, описывать их через архетипы и прочее, чтобы выявлять их ценность для сюжета. И я хочу заметить, что с таким подходом у очень многих авторов есть риск сделать персонажей уж слишком искусственными и притянутыми за уши. И также у нас есть риск «вдохновляться» теми самыми сюжетными клише по типу двух врагов, запертых в кладовке, или же влюблённых, которые оказались в комнате с одной кроватью. Человек же, не шарящий за все эти тонкости подачи материала, может с лёгкостью неосознанно обойти все эти маркеры, привнеся в литературу что-то новое, или же, наоборот, пойти по пути, что называется, «изобретения велосипеда», то есть может заново написать «Ромео и Джульетту». Я бы очень хотел посмотреть на такого автора и узнать, что же он напишет. Был бы крутой эксперимент.
Антон: А я вот тут не соглашусь. Мы же не живём в вакууме. Если кто-то не читает книги, он всё равно смотрит фильмы, сериалы, слушает байки и анекдоты. А там сплошные клише. Всех детей учат базовым вещам, читают им сказки и нравоучительные рассказы. В том и проблема, что человеку, воспитанному на таких вещах, но не продолжившему развиваться, будет казаться, что очередная история про «Золушку, но в наши дни» — это свежо и оригинально. А когда ты прочитаешь сотую книгу с таким сюжетом, ты уже заподозришь, что пора бы отходить от стереотипов и пытаться в переосмысление. Очень многие «оригинальные» идеи уже написаны до нас. Тут мы идём от противного, смотрим, что уже было, и делаем иначе.
Миша: Но ведь мы говорим о человеке с широким кругозором и гигантским жизненным опытом. Я думаю, что если учитывать этот фактор, то можно получить что-то необычное. Потому что моя младшая сестра вообще никаких книг не читала лет до двадцати, и когда она однажды прочитала пару абзацев моей книги, то смогла дать мне несколько реально небанальных советов, на основе которых я построил неплохие сюжетные повороты. Так что тут уж как карта ляжет.
Антон: Ну вообще человек с широким кругозором по определению открыт для всего нового и активно интересуется разными сторонами жизни. Чтобы такой человек при этом полностью отказался от литературы, он должен прям осознанно исключить для себя чтение по какой-то причине. Это достаточно странное решение. Наверное, это будет то самое исключение из правил. В основном люди с активной жизненной позицией, с открытым и свободным мышлением не ограничивают себя от литературы или других форм творчества.
Миша: Мне кажется, она просто никогда не интересовалась чтением раньше, потому что недавно она подсела на литературу по саморазвитию. Всё-таки чтение — это хобби не для всех.
Антон: Интересно, а сколько твоей сестре лет? Просто в моём поколении ещё было так, что чтение — самое простое хобби, вперёд всего остального.
Миша: Да вот ей в этом году, в декабре, только двадцать два будет.
Антон: Мне кажется, тут сильно повлияло развитие интернета. В том плане, что в моём детстве был ещё диал-ап и интернет был в основном текстовый. Хочешь не хочешь, а будешь читать. И все как-то читали. А когда интернет стал быстрее и начал тянуть видосики, люди массово пересели на видосики и чтение стало уже чем-то неактуальным. И сейчас я вижу, как люди младше меня всего лет на 6-8 с удивлением открывают для себя текстовые форматы. Это не плохо, но это забавно.
Миша: Интернет создает поколенческую яму. О как.
Антон: Я думаю, сейчас с каждым годом будет формироваться новое поколение. Раньше люди были похожи друг на друга в рамках тридцати- и двадцатилетий, а сейчас всё так быстро развивается, что один-два года жизни делают тебя другим человеком. Технологии очень круто всё меняют. Те же нейросети, ИИ, они ворвались в реальность буквально за месяцы. А там уже и до андроидов недалеко, и до виртуальных реальностей с полным погружением, и до летающих машин. Я верю в лучшее, если что, несмотря на некоторые политические неудачи. — Смеётся. — Хотя ядерная война тоже очень резко бы всё поменяла.
Миша: Не ядерная война, а магматический плюм. Мы все сдохнем через лет десять. Так что можно ни о чём не беспокоиться. Всё на волю судьбы! Ну это так, между слов. Следующий тейк!
Антон: Так, что там у нас осталось? Мы уже обсудили, как стремиться к продуктивности — не брать нереалистичные дедлайны, двигаться последовательно, но не перебарщивать с планированием. А как всё-таки дойти до конца? В какой момент ты понимаешь, что твоя книга подошла к финалу и надо уже делать выводы?
Миша: Я считаю, что книга подходит к концу тогда, когда все проблемы, о которых говорил автор в книге, логически завершились. Но, как я заметил, очень многие авторы настолько привязываются к своим персонажам, что дают им новую жизнь, продолжая придумывать и развивать проблемы, а затем превращают свои книги в целые сериалы. А это не очень хорошо, потому что затянутые сериалы обычно постепенно становятся скучными и теряют изначальную изюминку, за которой приходила аудитория.
Антон: О! О! Я как раз хотел про это поговорить. Знаешь такую очень бесючую сериальную тенденцию: искусственное навязывание персонажам проблем? Ну то есть, например, для победы героям надо было найти какой-нибудь артефакт, и вот они его нашли, но потеряли по пути, а потом он сломался, а потом детали рассыпались, а потом пришёл ещё злодей и снова украл артефакт, и так до бесконечности. Доходит до того, что ты уже по первой строчке главы понимаешь, что опять у персонажей что-то пойдёт не так и они снова окажутся посреди проблемы. С одной стороны, ты продолжаешь читать в надежде, что рано или поздно это закончится, а с другой, это может порядком заебать. Я считаю, что проблемы должны по максимуму заявляться в первых главах и дальше просто планомерно решаться, иначе это скатывается в кринж. Тебе так не кажется?
Миша: Мне так очень даже кажется, потому что именно при помощи такого растягивания сюжета авторы создают тревожную атмосферу: проблема на проблеме и проблемой погоняет, — и нет концовки. Когда действие не завершается, то мозг воспринимает это как опасность, поэтому очень важно, чтобы в литературе приключенческого жанра в конце всегда ставилась точка. Я обычно не читаю серии такого рода, без концовок. Я и так слишком тревожный человек. У меня на самом деле есть куча вопросов к людям, которые настолько сильно полюбили своих героев, что не могут с ними распрощаться. Как ты думаешь, в чём причина такой ярой любви?
Антон: На самом деле интересное замечание, я только после твоих слов понял, что мне тоже гораздо комфортнее читать, если глава заканчивается на жизнеутверждающей ноте, без вечных подвешиваний над пропастью. А вот в чём причина любви... да хрен его знает. Казалось бы, если так сочувствуешь своему герою, подари уже ему «долго и счастливо», и хватит его мучать. — Смеётся. — А если серьёзно, это от неумения отделять себя от персонажа. Когда они у тебя все — самостоятельные личности, со своими целями и характерами, тебе гораздо проще их отпускать. Как обычных людей. А если автор проецирует себя в персонажа, пишет его по своим проблемам и психологическим нюансам, то расстаться с ним — это как расстаться с собой, и что тогда делать? Отсюда и попытка оставить персонажа в сюжете навечно. Потому что придумать нового персонажа станет проблемой, это как придумать нового себя. Ну, или это просто доение удачной серии на бабки, такое тоже бывает.
Миша: Вот я, кстати, думаю, что авторам просто удобно доить своих персонажей. Потому что когда создал что-то, что имеет спрос у аудитории, то с этим уже трудно расстаться. Герои продаются — одни плюсы. Но тут ещё может крыться и другая проблема: страх создать что-то менее удачное. Многие думают, что раз уж они создали что-то воистину великое, то во второй раз уже не смогут переплюнуть свой успех. Истории знакомы авторы, которые не написали ничего лучше первых работ, которые завирусились. Так что тут важно вовремя остановиться, слезть с иглы и попробовать сделать что-то новое. Никто не обещает, что новый проект провалится или станет популярным, однако движение вперёд всегда ведёт к новому опыту, как минимум. Так что я плохо воспринимаю затянутые серии книг: сразу чувствуется авторская тревожность или алчность. Но если смотреть на это с другой стороны, то можно ещё увидеть другую авторскую проблему — неумение писать концовку. Ты умеешь писать сюжет, наполнять его интригующими сюжетными поворотами, но не чувствуешь, когда энергия должна пойти на убыль. Потому что обычно пик истории приходится на середину книги или же ближе к развязке, но авторы будто не ощущают этого и продолжают подогревать сюжет, хотя и так уже слишком жарко. В такие моменты я хочу кричать: «Всё! Ставь на паузу! Это уже прожигает мой мозг!» Нужно уметь постепенно сбавлять градус напряжения, закрывать дыры и заворачивать сюжет к концовке. Иначе эта канитель может тянуться бесконечно. Как говорят действительно умные люди: «Хороша та история, которая вовремя закончилась».
Антон: Я знаю одного автора, который написал успешную серию книг, она выстрелила, сделала автора реально популярным. Прошло лет пятнадцать, автор уже пересел на совсем другие жанры. И вот в своём блоге пишет типа: «Вы меня постоянно просите вернуться к первым книгам и сделать продолжение. Но это писал другой человек, на пятнадцать лет моложе, с другим опытом и с другими интересами. Я не могу и не хочу писать продолжение, я взрослею и пишу то, что мне нравится сейчас. Поэтому отстаньте со своими просьбами и читайте что-нибудь ещё, если вы недовольны тем, что есть». Как думаешь, ты бы так же сказал?
Миша: Я уже сделал так однажды, когда спустя два года написания одного гигантского фанфика сказал, что перегорел и больше не интересуюсь тем пейрингом, о котором писал. В общем, я забросил ту работу, хоть она и стала, наверное, легендарной на одном из сайтов. Мне до сих пор, вот уже спустя почти десять лет, присылают сообщения в личку с просьбой закончить работу. Именно поэтому я завёл новый профиль для написания ориджиналов. И я не хотел перегонять свою бывшую аудиторию на новый аккаунт, потому что знал, что они устроят вакханалию. Так что это правильно. Лучше отказываться от того, что тебе не интересно, чем насильно что-то делать ради одобрения аудитории. Вот, кстати, Джоан Роулинг правильно поступила, когда решила писать детективы, — взяла себе псевдоним. По-моему, так и нужно делать.
Антон: Кстати, есть такая практика — для разных типов творчества брать разные псевдонимы. Один, скажем, для сатирических рассказов, другой для драм, третий для статей. С другой стороны, это всё ещё творческая история одного человека, и не всегда удобно её разбивать, иногда хочется, чтобы она была цельной и многогранной. Каждый решает сам, как ему комфортно, оба варианта имеют право на жизнь.
Миша: Согласен. Нужно действовать исходя из ситуации.
Антон: Но мы чуток отклонились от темы, у нас тут про концовки шла речь. Ты говорил, что проблема затянутых концовок может быть в привязанности к персонажам.
Миша: Да, продолжая говорить об этом, можно затронуть ещё одну ситуацию, когда герои, наоборот, не проработаны. Я с точностью в сто процентов могу сказать, что есть писатели, которые (в отличие от фанатично-влюблённых в своих героев авторов) скучают со своими персонажами, они им неинтересны, да и сюжет сам из-за авторского уныния никуда не идёт. Из-за этого написание книги может стопориться. Честно сказать, даже сейчас у меня бывает такое, когда я в моменте могу потерять интерес как к персонажам, так и к сюжету.
Антон: Мне кажется, это как раз проблема излишнего планирования. Ты уже продумал текст до мелочей, твои персонажи из живых людей превратились в чётко выверенные схемы. Ты у себя в голове решил все проблемы персонажей, представил себе концовку, сто раз обдумал её и перегорел к ней. Типа как сдал экзамен и расслабился. Процесс из творческого стал совсем механическим, и как будто уже незачем продолжать.
Миша: Да, кстати, это правда. По-моему, я и сам когда-то об этом говорил. Но ещё я думаю, что персонажи в какой-то момент могут наскучить автору из-за того, что он перестаёт видеть в них какие-то определённые черты, которые закладывал изначально, а может, и не закладывал вовсе. С героями книг, как и с людьми, скучно тогда, когда ты их либо не знаешь, либо же знаешь настолько хорошо, что они становятся уже слишком предсказуемыми для тебя, однако чувства привязанности так и не случилось. Обычно в такие моменты я добавлю героям в историю как можно больше новых деталей, которые бы освежили мой взгляд. Например, интерес к Яну из «Личности» я терял дважды: на момент третьей главы и шестой. К третьей главе у меня случилась неприязнь, когда он показался мне слишком мягкотелым, поэтому мне пришлось дорабатывать сюжет, чтобы увидеть в нём новые черты характера, а в шестой главе я понял, что мне не хватает личной драмы Яна и небольшой мотивации для борьбы, поэтому я стал прорабатывать его семейную историю и таким образом вышел на создание Риэ. То есть я связываю авторскую скуку и неумение заканчивать книги с фиговой проработкой сюжета и персонажей. Если персонажи не цепляют даже автора, то история обречена на провал. Как-то вот так я решил. Поэтому даже свой интерес нужно стимулировать.
Антон: Кстати, мне кажется, такая проблема есть у многих авторов с второстепенными персонажами. Знаешь, когда главного героя окружают такие стереотипные личности, персонажи-функции. Злой дядя, который хочет захватить власть. Добрая тётушка-соседка. Весёлая и непосредственная младшая сестра. Мудрый наставник. Если персонажа можно описать всего одним-двумя словами, это так себе персонаж, с ним не будет интересно. Любой персонаж должен быть личностью.
Миша: Согласен, поэтому я иногда прорабатываю второстепенных персонажей даже лучше, чем основных, просто их истории остаются за кадром.
Антон: И это круто! Грузить читателя биографиями каждого мимокрокодила не стоит, но держать в голове и добавлять пару тонких деталек при случае — это надо. Но есть — как я всегда говорю — и другая сторона. Нельзя же бесконечно наделять своего героя, даже главного, дополнительными чертами. Мы уже обсуждали, что персонаж должен развиваться в произведении. Вот герой прошёл свой путь, выучил свой урок — но он не может меняться вечно; он взрослеет, стареет, обзаводится семьёй и хочет дожить спокойно остаток своих дней. И настаёт момент, когда пора отпустить этого персонажа и создать нового, и важно не пропустить этот момент. Правильно провести линию развития и завершить её. Особенно это важно с большими сериями книг, где события могут растянуться на десятилетия.
Миша: Именно поэтому, кстати, я боюсь писать серии с одними и теми же персонажами. Потому что серии — это, во-первых, долгий и сложный процесс, а во-вторых, мой интерес к персонажам довольно быстро затухает и я не знаю, что делать с ними дальше. Если серия не повествует о становлении персонажа, а посвящена, допустим, какой-то одной сюжетной линии, к примеру любовной, то я не могу долго такое ни читать, ни писать. Я не верю в вечную любовь. Вот есть же «50 оттенков серого»? Там, в принципе, как я считаю, можно было остановиться на первой книге. И не нужен был нам никакой хэппи-энд. Расстались и расстались. Всё. Хватит. Или можно было закончить эту историю на смерти Кристиана во второй книге. Но нет, нам запихали туда предложение руки и сердца. Хуйня, в общем. А ещё я не выношу затянутость сюжетов, в которых чё-то разгоняют про страдания. Сейчас всех фанатов ЛВПГ прошу закрыть уши, потому что речь пойдёт о книге «О чём молчит Ласточка»: я считаю, что эта книга слишком затянутая за счёт того, что там очень нудно и муторно описываются страдания двух персонажей. В принципе, если бы книгу сократили и вырезали некоторые моменты, то хуже она бы не стала, а читать было бы легче. Да, там, несомненно, поднимаются разные философские вопросы о смысле жизни, психическом здоровье, одиночестве и прочем-прочем, но это почти никак не подкрепляется сюжетными действиями, и мы просто всю книгу читаем о пиздостраданиях героев, которые никак не двигаются, не идут вперёд, не развиваются и ничему новому не учатся. По ощущениям, всё, что там написано, — это депрессивная трясина, затягивающая читателей в минус вайб. Это прям очень плохо. Поэтому я считаю, что иногда в продолжении и нет нужды.
Антон: Я уже упоминал, что в моём подростковом возрасте были популярны фэнтези-серии: от Гудкайнда и Рудазова до Емца, Сержа Брюссоло и Кассандры Клэр. И все они отличались тем, что были жутко затянуты. Ребята никогда не останавливались на двух-трёх хороших книгах, а читабельны были максимум пять. Но тогда почему-то считалось, что если уж ты оседлал свою волну, то должен доить её, пока твои книги не станут занимать в магазине пару отдельных полок. И что самое главное, находились читатели, которые могли всё это осилить и попросить добавки! Я рад, что эта эпоха уходит в прошлое. Сейчас и сериалы делаются не по сто сезонов, а в формате «длинных фильмов»: шесть-восемь серий и финал. Люди научились переключаться, и это правда лучше, потому что ты можешь спокойно сесть и прочитать или посмотреть что-то за неделю или выходные, не надо десять лет ждать выхода очередной серии Санта-Барбары. Я избавился от чувства «долга», которое заставляло непременно страдать и читать до конца, хотя там уже откровенно сюжет высосан из пальца, а авторы ищут себя в новых форматах и лучше планируют короткие, ёмкие тексты, вместо задрачивания одной и той же сюжетной линии до тошноты.
Миша: Вот именно! Серии об одних и тех же персонажах сейчас уже никому не всрались, именно поэтому я пишу книги, в которых знакомлю читателей с разными персонажами, которые являются частью одной большой вселенной. И каждый может найти себе то, что ему больше нравится. Серии, которые были в нашем подростковом возрасте, уже не актуальны, как я думаю. И я не понимаю, почему люди продолжают их писать. Я даже принёс пример с очень плохой серией. Хочешь узнать, что это?
Антон смеётся: Разумеется, мы же должны оправдывать своё токсичное название. Давай плюнем в кого-нибудь уже ядом.
Миша: Мне нравится такой подход! — Смеётся. — Я думаю, что уже всему книжному тик-току известен пример этой серии, которой могло бы и не существовать, если бы авторка не была жёсткой графоманкой. Я сейчас говорю о серии романов «Система: эксперимент» Сии Тони, в которой рассказывается о межгалактической ебле в формате «Дома 2». Это так плохо написано, так растянуто, так бессюжетно, что можно было бы обойтись и одной книгой, но нет. И мне очень жаль всех, кто это прочитал. Потому что я начинал читать первую книгу ещё на момент её выхода на онлайн-платформах... Это прям плохо. Это не порно между землянкой и мужиком инопланетной расы, а расчленёнка русского языка. Даже я в шестнадцать лет писал лучше.
Антон: Похоже, не все авторы сумели переключиться на новый формат. Но я думаю, это скоро совсем уйдёт в небытие. Учитывая, как люди полюбили тик-ток, тенденция к краткости будет только развиваться.
Миша: Подписываюсь под этим мнением! Оно очень ёмко передало то, что я так сильно хотел сказать! Ну всё, вроде бы, да? У нас уже время заканчивается. Да и ночь на дворе. Птички не поют. Нужно закругляться. Прощаемся?
Антон: Да, точно, опять засиделись. Уж кто бы говорил о краткости.
Миша смеётся: Точно не я!
Антон: Ну что ж, всем пока, доброй ночи, а если вы извращенцы и хотите ещё, то заглядывайте в наши пристанища и ищите непопулярные мнения там.
Миша: А где наши пристанища? Узнаете сами, всё тайно. — Хихикает. — С вами были скромные гении из литературного мира, Миша и Антон. Пишите свои мнения в комментариях, нам будет интересно почитать! Всем пока! И увидимся в следующем выпуске!
Антон: Ура, выключайте бычка. У меня чуть язык не отсох.
Миша: Кстати, а ты не хочешь нетоксично посостязаться в следующем ноябре?
Антон: Что я слышу? Кто-то решил предложить мне тот самый Нановримо, который мы так обосрали?
Миша смеётся: Ага! Как раз у нас будут почти равные условия: у меня учёба, у тебя работа, а между тем соревнование — кто больше напишет? Как тебе?
Антон: Я за любой движ. Кстати, я обожаю писательские соревнования и дуэли. Лёгкий дух соперничества меня всегда очень стимулирует.
Миша: А вдруг ты не вывезешь? Я тебя переплюну! Спорим?
Антон: Это кто ещё не вывезет! Ты меня на слабо не бери, потому что я поведусь. Всё, ловлю на слове и уже начинаю заранее составлять план, чтобы не повторять прошлых ошибок.
Миша: Пф-ф-ф-ф! Тебе до моего планирования как до Китая пешком со сломанной ногой!
Антон: Это мы ещё посмотрим! Всё, пойдём уже, ночь на дворе.
тг-канал Антона: likebetalikeauthor («бет едят, а они глядят»)
тг-канал Миши: mishaparshuta («парашют»)