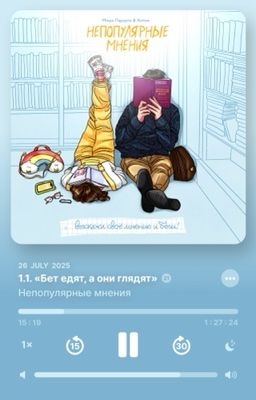1.3. Что внутри книги?
Миша: Времени на раскачку нет! Работаем! Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Непопулярные мнения», где я, ваш покорный слуга-писатель, Миша Паршута, и мой соведущий, Антон Бэтменович... — Шепчет: — Антон, поздоровайся.
Антон: Добрый день, очень рад.
Миша: По совместительству Антон ещё писатель с кучей работ в столе и мой редактор. Да, и, в общем, мы делаем подкаст, где я и Антон обсуждаем без цензуры всё, что связано с литературой и писательством. И в прошлом выпуске нам не хватило эфирного времени, чтобы обсудить всё, что связано с написанием книги, потому что... Антон, напомни нам, почему?
Антон: Потому что жизни не хватит, чтобы обсудить абсолютно всё. Но мы попытаемся.
Миша: Да, в том числе. В общем, в прошлом выпуске мы обсуждали структуру книги и основы построения сюжета, а сегодня мне бы хотелось поговорить о том, что вообще писать в этих тупых книгах, где брать вдохновение и мотивацию. Антон давно ждал серию этих подкастов, поэтому на записи предыдущей части сорвался с цепи, но сегодня я планирую всё держать под своим контролем. Правда, Антон? Ты же не будешь баловаться в этот раз?
Антон: Посмотрим, как ты заставишь меня замолчать. — Подмигивает.
Миша: Как хорош этот подлец! — Смеётся.
Антон: Ничего не обещаю, но постараюсь вести себя прилично. Ну давай, веди нас по своему сценарию, мистер планировщик.
Миша: Ну спасибо! — Смеётся. — Давайте для начала установим, что вся художественная проза имеет кучу направлений, жанров, жанров по сюжету и так далее. Но всё это можно разделить на четыре жанра по форме и объёму: первый — роман: это такая толстенная книжка с кучей персонажей, сюжетных линий и мест событий. На современной терминологии Фикбука — это макси. Яркие представители романов: «Война и мир», «Гарри Поттер». Вторая по длине у нас повесть. Эта такая книжечка потоньше романа, в ней чаще всего одна сюжетная линия, реже — несколько, она быстро читается, и в ней не так много персонажей. На языке фикбукеров — это миди. Представители этого жанра: «Человек недостойный», «Похороните меня за плинтусом», «Цветы для Элджернона». Дальше у нас есть — что? — правильно! — новелла. Новелла — это короткая история с каким-нибудь неожиданным концом, ярким, но лаконичным повествованием без занудных описаний, с сильным акцентом на каком-то одном конфликте или сюжетном повороте. То, что сейчас называют новеллами, — это хуйня какая-то, а не новеллы. Так что давайте я приведу в примеры то, что исконно ими считалось: Гоголевский «Нос» и «Чистый понедельник» Бунина — это из того, что я читал сам. По-нашему, современному, «новелла» — это мини или, на крайняк, миди. Но не путайте русский жанр по объёму повествования «новелла» с англоязычным словом «novel», которое означает «роман», а то в комментариях начнется: «Вот! Китайская новелла! Вот! «Лолита»!» Это всё романы, а не новеллы. И вот мы подобрались к последнему жанру! Рассказы. Те же драбблы или мини. Тут всё понятно: один герой, одно событие, один конфликт — всё очень коротко и сжато. Рассказы — это про вайб, характер, настроение, момент.
Антон: Немного дополню: рассказ не обязательно должен иметь полную сюжетную линию — завязка, развитие, кульминация и так далее. Иногда это просто зарисовка, которая фокусируется на одном-двух из этих этапов.
Миша: Да, верно. Это что-то типа быстрого фото на телефон. Яркие примеры: «Каштанка», «Старуха Изергиль», «Хамелеон». Это что касается жанров объёма в формате повествования. Ещё из разновидности жанров по форматам у нас есть поэма, стихи и пьеса, но тут я не хочу задерживаться, думаю, что все и так знают, как отличить эти жанры. А ещё есть жанры как литературные направления: повествовательные, лирические и драматические. В повествование у нас входят: романы, эпопеи, историческая проза, биографическая и автофикшен. В лирические жанры у нас входят: оды, сонеты, элегии и прочая поебень, в которой можно не разбираться, если вы не собираетесь готовиться к ЕГЭ и ОГЭ по литературе. Драматические жанры: трагедия, комедия, абсурд, трагикомедия и всё вот это вот, театральное. Это тоже всё очень скучно, поэтому не будем вдаваться в подробности. Мы тут не ради этого! Так что я упомяну последнее, на что делятся все литературные произведения, — это жанры по содержанию. Вот тут-то мы и задержимся!
Антон: Слава богу, я уж боялся, что ты захочешь поговорить о стихах. Ни черта не понимаю в стихах.
Миша: Я на разборах стихов собаку съел, потому что их было раза в два больше, чем повествовательного жанра. Меня тошнило от стихов ещё месяца три после ЕГЭ по литературе, потому что большую часть подготовки я потратил именно на них. Чтоб они были неладны! Хотя я сам написал много стихов.
Антон: Я тоже писал стихи, но терпеть их не могу. Моё поле — это проза.
Миша: Как же я рад, что мы будем готовить только о повествовании! Потому что все уже поняли, что они хотят писать романы и прочее, а не какие-то пьесы и стихи... Так что да! Думаю, в таком случае нам нужно определиться с жанром по содержанию. Всё-таки выбранный жанр задает определённый настрой и помогает сохранить целостность всей истории. Было бы странно, если изначально я начинал читать какой-нибудь лёгкий роман в стиле «почувствуй себя хорошо», а под конец он слился бы в жёсткий триллер или ужасы. Мы, как читатели, выбираем жанр книг исходя из наших запросов и предпочтений. Так и авторы должны понимать, на какую аудиторию они работают. Мы уже упоминали жанры книг в нулевом выпуске, поэтому давайте вернёмся к этой теме. Антон, какие жанры книг, помимо детективов, ты любишь и знаешь?
Антон: Ну если брать общие группы, то это трагедия, комедия, триллер, приключения, фантастика, любовные романы — короче, названия тут говорят сами за себя. А уже эти группы делятся на кучу поджанров, насколько хватит воображения. Например, фэнтези. Не все литературоведы выделяют его из-под фантастики, но, на мой взгляд, фэнтези уже ушло в самостоятельный путь. Более того, можно взять отдельно любовное фэнтези, юмористическое фэнтези, тёмное фэнтези... и так далее. Иногда даже берут отдельно такие группы, как вампирское фэнтези или паранормальное фэнтези, то есть по сеттингу. Так что всё перечислять мы не будем. А насчёт любимых сложно сказать. Мой гилти плежер, наверное, магический реализм, который сейчас уже считается фу и старьё. Ещё в последнее время я нежно полюбил ретрофутуризм, это после «Страны багровых туч» меня пробило на ретрофантастику с нотками утопии. А ты бы что выделил для себя?
Миша: Я уже упоминал, что люблю приключения, приключенческие романы, любовные романы, какой-нибудь экшен, книги в реализме, в современном сеттинге, фэнтези тоже не обхожу стороной, а ещё современные жанры по типу «почувствуй себя хорошо», но они, как я считаю, относятся к разновидности романов. И в таком случае я хочу дать определение слову «роман» в контексте стилистического жанра, потому что многие считают, что роман должен крутиться только вокруг любовной линии, но это не так. В романах обычно огромное внимание, а иногда даже и большую часть повествования уделяют внутреннему миру персонажей, их развитию и эволюции на фоне событий, разворачивающихся в сюжете. Есть подвиды романов, например: исторические романы, психологические, социально-бытовые, любовные, фантастические и так далее. Но когда автор садится за написание романа, он должен держать в голове, что на первом плане всегда будет стоять внутренний конфликт главного героя, а не сюжетный. Поэтому нужно уделять особое внимание раскрытию персонажей и их психологии, а не сосредотачиваться только на сюжете, внезапных твистах, роялях в кустах и прочих сюжетных составляющих. В таких книгах связь читателя и персонажа очень важна, поэтому нужно прорабатывать все детали.
Антон: Ты сейчас затронул очень большую тему про персонажей, я предлагаю закончить с жанрами, а потом уже поговорить отдельно про героев и что они делают в книгах.
Миша: Антон, ты боишься что я буду отступать от темы? — Смеётся. — Это просто часть характеристики романов. Я не собираюсь говорить о персонажах вскользь, поэтому потерпи. Я обещаю, что мы обсудим их настолько подробно, насколько тебе захочется.
Антон: Ладно, ты тут главный.
Миша: Потерпи, сейчас мы быстренько закончим. — Смеётся. — Как я считаю, роман — это один из самых гибких жанров, в который можно замешать буквально все. Например, есть очень много подвидов романа, которые появились совсем недавно: ром-комы (романтические комедии), дарк-романы (сюжеты про романтизацию токсичных отношений и насилия с сексуальными мужиками в главных ролях), ЛГБТК-плюс-романы (наши любимые геи и лесбиянки), контемпорари романы (про любовь в современном мире), янг эдалт (про подростков и взросление), нью эдалт (про студентов, первую любовь, начало карьеры), социальные романы (всё, что с повесточкой), «почувствуй себя хорошо» (комфортные и уютные романы), фэнтези или фантастика (антиутопии, киберпанк, эльфы, урбан-фэнтези, космические оперы, лит-рпг — всё туда), хоррор, дарк-фэнтези, психологические триллеры и ещё куча всего.
Антон: Не всегда удаётся даже точно запихнуть книгу в какой-то конкретный жанр, особенно если она не штампованная, а оригинальная или даже экспериментальная. Я думаю, тут можно оставлять простор для творчества. Если у книги есть чёткая цель, которая не влезает в рамки одного жанра, эти рамки всегда можно раздвинуть. В литературе нет табу, только рекомендации, и профессиональные авторы могут их игнорировать.
Миша: Но опять-таки, экспериментальная литература, где смешивается нафиг всё, редко становится широко известной, особенно если её пишут новички. На первых этапах, когда писатели только делают себе имя, нужно всё-таки придерживаться рамок, потому что они помогают не уходить в какие-то дебри. Можно разбавлять свои книги элементами других жанров, но не смешивать всё подряд. Например, Стивен Кинг начинал свою карьеру с ужасов, а потом мы узнали его и как автора триллеров, фэнтези, драмы и даже мистической прозы. Поэтому сейчас он считается универсальным мастером нарратива.
Антон: Зависит от поставленной задачи. Если нужно что-то написать и тут же продать, то да, лучше придерживаться проторённого пути. А если творчество является самоцелью, я не вижу причин его строго ограничивать. Я за свободу мысли.
Миша: В этом плане я тебя поддерживаю. Но и я также не буду отступать о той мысли, что творчество творчеству рознь. Всё-таки и денежка в карман должна падать. Сейчас издатели не рискуют брать прям новаторские работы. Настоящее творчество могут позволить себе только люди с именем. А у нас, мелких писак из интернета, своего имени нет. Мы никто. Поэтому нужно сначала поработать на массы.
Антон: У каждого свой творческий путь. В пиаре, как я упоминал, не очень разбираюсь, поэтому во всём, что касается монетизации, буду доверять твоим суждениям. Но я бы не стал подстраивать свой текст под требования издателей. Уж лучше найти другую работу.
Миша: Под издателей подстраиваться... Хуйня какая-то. Никогда не подстраивайте свои готовые работы под издателей. Даже ради денег. Поэтому, исходя из всего, что мы сказали, я бы посоветовал новичкам удерживать золотую середину. Но для первого раза можно попробовать что-то попроще, а потом усложнить.
Антон: Если пока вообще ничего не понятно, можно полазить по сайтам издательств. Иногда они проводят конкурсы, например, собирают работы на определённую тему. Если помониторить такие события, можно понять, какие жанры пользуются спросом, и целенаправленно попытать себя в них. Объявления о наборах выкладываются заранее, но времени на книгу тоже нужно много, так что прям гоняться за этими конкурсами я бы не советовал. Просто держать руку на пульсе трендов.
Миша: Если понаблюдать за карьерой тех авторов, которые издаются сейчас, то можно понять, что они изначально писали работы для конкретных издательств. Просто можно зайти на сайт, посмотреть, что издают те или иные редакции, а потом целенаправленно написать книгу именно для них. Поэтому я бы посоветовал сначала искать редакцию, а потом писать книги. Это если вы хотите срубить бабла.
Антон: Ладно, давай вернёмся к конкретике. Что там у нас по жанрам осталось?
Миша: Да, и вот, когда мы уже знаем, сколько всего на свете существует, встает вопрос: а в каком жанре писать? Вообще не всем авторам подходит писать то, что они читают сами. Я, хоть и люблю приключенческое фэнтези, сам не могу такое писать, сколько бы ни пытался. Удивительно, но факт: не все писатели должны упрямо продолжать то, с чего началась их карьера. Многие люди думают, что авторы должны писать в том жанре, к которому они тяготеют как читатели, или в том жанре, где они стали популярнее. Но это неправда. Я могу привести в пример Джоан Роулинг, которая проявила себя гораздо лучше, когда взялась за детективы. Или же Нил Гейман: начинал он как автор комиксов, но, попробовав себя в фэнтези и детской литературе, стал всемирно известным. Антон, а ты знаешь каких-нибудь авторов, которые раскрыли свой талант лучше после того, как сменили направление?
Антон: Снова вспомню Веркина. Начинал он с рассказов для подростков, но его мистический талант откровенно туда не влезал. Наверное, его постоянным читателям было непонятно, почему после стольких лет Веркин внезапно выпустил очень жёсткую и откровенную постапокалиптическую антиутопию с зомбями и ядерным взрывом — я про «Остров Сахалин», — но это был скорее взрыв его потенциала, который копился всё это время.
Миша: То-то и оно. Мы должны выбирать те жанры литературы, в которых можем ощутить свою авторскую силу. Я, например, почувствовал себя более естественно, когда стал писать от первого лица. Оказалось, что мне гораздо ближе погружение в персонажа и абсолютный психологизм, а не выдумка миров и построение сложных, запутанных сюжетов. Хотя я бы определённо вернулся к приключенческому фэнтези, чтобы выставить на обозрение то, что было частью моей жизни почти три года, до того как я взялся за романы с повесточкой. Поэтому здесь я бы посоветовал авторам попробовать себя в разных жанрах, если вы испытываете трудности в написании книг сейчас. Антон, как ты вообще определяешь жанры, в которых ты пишешь? Как ты думаешь, насколько они тебе подходят?
Антон: Да я ж не пишу особо ничего. Я игрок запаса. Можно сказать, передо мной все пути открыты.
Миша: Что за милая скромность. И всё же? Куда тебе указывает сердце? В каком бы жанре ты бы точно хотел выпустить книгу в мир?
Антон: Я думаю, это будет что-то вроде мистического романа. Знаешь, когда основное действие не выходит за рамки реализма: обычная жизнь, быт, ежедневная философия — а на заднем плане из воды поднимается левиафан.
Миша: Звучит абстрактно, не могу вообще представить, как это должно выглядеть. Это метафора? Ты говоришь о какой-то невидимой угрозе?
Антон: Ох, сложно объяснить. Да, наверное, метафора. У тебя никогда не было ощущения, что пока ты просто ходишь по улицам, живёшь обычную жизнь, над миром нависают огромные перемены или даже катастрофы, которые мы не в силах осознать? Как древние хтонические чудовища, они настолько большие, что их даже нельзя увидеть. В моём идеальном романе эти проблемы будут передаваться через такие мистические детали, которые не нужно объяснять привычными материалистическими категориями. Но я пока не вижу смысла об этом говорить, это всё равно только задумки. Давай вернёмся к обсуждению конкретики.
Миша: Конкретика так конкретика. О чём вообще писать книги? Где брать идеи, если хочется писать, но в голове ничего не появляется? Или, может быть, кто-то сталкивался с морализаторством, когда вам говорят, что какие-то темы не достойны книги, а какие-то достойны? Антон, были ли у тебя когда-то такие проблемы? Темы, которые ты мог посчитать табуированными или недостойными твоей руки (и сердца)? — Смеётся.
Антон: Я как-то хотел написать большую порнуху с фуррями и даже начал, но вовремя подумал: чё я делаю, я взрослый человек, у меня есть чувство собственного достоинства.
Миша смеётся: Фурри? Мне страшно, что если бы ты такое написал, то это бы залетело на Фикбуке.
Антон: Это была бы отличная порнуха с фуррями. К сожалению, меня сдерживают моральные принципы. А может, и к счастью, что сдерживают. Что-то вроде Женевской конвенции.
Миша: А мне иногда хочется написать дарк-роман с токсичными отношениями, но я знаю, что я вряд ли их вытащу в моральном плане. Хотя я мог бы попытаться, но пока это звучит как черта, за которую я пока не хочу переступать.
Антон: Но ведь ты зачем-то об этом заговорил? Колись, что у тебя на уме?
Миша: Я просто однажды услышал историю одной начинающей писательницы, не помню уже где, но мне захотелось её озвучить и прокомментировать. В общем, она говорила о том, что почти всю жизнь занималась написанием рассказов и отец её в этом поддерживал с самого детства: читал её истории, комментировал и помогал с сюжетами. Но в один день он ушёл из жизни, и девушка столкнулась с блоком. Она хотела много чего написать, но без поддержки отца у нее стали опускаться руки. Слов много, а историй и конкретных идей не возникало. Это большая проблема среди авторов, когда хочешь высказаться, а общий сюжет истории не обрастает какими-то конкретными чертами. И тогда эта девушка захотела писать историю про себя, но посчитала это неправильным.
Антон: Ну и глупости. Писать можно о том, о чём хочешь говорить. Если книга искренняя, она может быть о чём угодно. Искренняя литература найдёт своего читателя, даже если не массового. Вот писать о том, о чём ты не хочешь, но «надо», вот это кринж. Никто не заставляет никого садиться за клавиатуру. Если есть что сказать — говори, а если нет — промолчи, вот и вся наука. Ничего сложного.
Миша: Тут скорее проблема в том, что литература от ноунейм авторов с историей «про себя» часто порицается в интернете. Типа: «Кто ты такой, чтобы писать о себе? Чего ты достиг в этой жизни, чтобы рассказывать о себе?» — мне кажется, что эти слова сильно давят на авторов. Да и порицать кого-то, кто пишет потому что «надо», тоже странно. Потому что есть те люди, которые работают с издательствами и пишут книги на заказ, ради денег.
Антон: Порицаться в интернете будет любая книга. Всем нравиться невозможно. Нужно в первую очередь поставить перед собой цель и идти к ней. Хейтерс гонна хейт, все дела. Даже наше тут авторитетное мнение не должно кому-то что-то диктовать. Но если кому-то из слушателей жизненно нужно одобрение ноунейма из интернета, то вот оно: идите и пишите. О себе или о чём хочется. Будет классно. Я за.
Миша: Я считаю, что писать книги о себе — не позорно. Все истории, которые мы пишем, основаны на нашем опыте, взглядах на мир, внутреннем ощущении. Всё-таки творчество — это всегда про индивидуальное видение мира. Это про призму, через которую мы ощущаем этот мир. Я пишу книги, чтобы поделиться с людьми своим опытом, рассказать о том, что я чувствовал и переживал в той или иной ситуации. Или же наоборот, я берусь за какие-то части сюжета, чтобы быть эгоистом. Чтобы прожить чужую жизнь, погрузиться в неё и осмыслить, что бы я сделал на месте человека, которого я описываю. Это помогает мне прожить свою жизнь насыщеннее, разбавить обыденность. Наверное, именно поэтому я проживаю ту же бытовуху, как и все, но чувствую, что моя жизнь гораздо сочнее и ярче. Сегодня я певец, завтра танцор, а послезавтра таролог и психолог. Я могу прожить тысячи жизней в одной, всего лишь рассказывая истории из своей головы.
Антон: Любой путь хорош, если ты в нём чувствуешь себя комфортно. Хочешь, пиши про себя. Хочешь, подключай воображение. Даже одноразовые любовные романы про «невест для эльфийского принца» в мягких обложках я не хейчу, потому что они приносят кому-то удовольствие. Как минимум, автору. Единственное, что я хейчу, это литературу фальшивую, написанную только и исключительно ради бабла. Но опять же, кого тут волнует моё мнение?
Миша: Да, тут соглашусь, такие книги сложно назвать творчеством. Но и людей, которые этим занимаются, можно понять. Умение давать мыслям форму — тоже талант. И если люди склонны к графомании, но своих идей у них нет, то есть смысл реализовывать свои желания, работая на издательства, так ещё и деньги за это получать. По-моему, это звучит неплохо.
Антон: Давай всё же уточним, что графомания — это негативная такая ситуация. Я не против книг, написанных по заказу, я даже не против Фикбучных заявок, из любой идеи при желании можно развить конфетку, если есть опыт и капля таланта. Графомания — это уже немного другое, это или заболевание, или откровенно фальшивые тексты, которые даже самому автору не близки. Всё-таки в писательство я рекомендую вкладывать душу, хотя бы чуть-чуть, как и в любое дело. Когда я хожу на работу каждый день, я не всегда ею прям вдохновлён, но капля ответственности должна оставаться. А не так, что похуй ветер, я получу свою зарплату и досвидос. В идеале творчество остаётся творчеством, хоть за деньги, хоть как. Всё должно идти от сердца.
Миша: Тут я соглашусь. Даже если вас манит бесконечно что-то писать, то в этом должна быть хоть какая-то искренность. Иначе текст будет мёртвым. Но тут вопрос ещё стоит в том, кому нужны тексты, написанные на заказ. В основном же всё идёт от идеи заработать деньги. Поэтому можно не заморачиваться. Такие книги изначально не считаются творчеством, а люди, которые их читают и восхваляют, не обладают и толикой вкуса. Но если говорить именно о творчестве, то то, о чём вы пишете, должно волновать именно вас. И, возвращаясь к автобиографическим книгам, я всё-таки ещё раз скажу, что хотеть рассказать о своей жизни — не стыдно. Может быть, если вы напишете о себе и найдёте своих читателей, то вы не будете так одиноки в своих проблемах? Ведь многим может откликнуться ваше виденье мира. Пишите обо всём, что вас волнует, превращайте свои книги в дневники, если вам хочется. Но я всё-таки предостерегу вас, что если вы вкладываетесь эмоционально и психологически в такие истории, со временем их может стать трудно перечитывать. Например, я не могу возвращаться к старым работам из-за того, что закрываю ими свои гештальты. Ставя точку в книге, я ставлю точку в своём жизненном этапе. Начиная новую книгу, я открываю новую страницу в свой жизни. И так из раза в раз. Не всем подходит такой стиль. Это бывает трудно.
Антон: Насчёт перечитывания — я иногда кринжую со своих старых заметок. Один из моих первых рассказов написан в таком академическо-назидательном ключе, про то, какой главный герой умный, а остальные персонажи глупые и поверхностные. Ебать, как сейчас за это стыдно. Потому что я реально так думал — меня реально так учили. Мы растём на таких академических текстах, где есть добро и зло, умные и глупые, честные и жадные. Ничего удивительного, что когда-то я считал это нормой. Сейчас на такое смотреть больно, это как слышать свой голос на записи, сразу охватывает стыд: вот так тупо я звучу со стороны? Потом я дорос до более сложных текстов, до иронии, до метафоры, до многослойности. Чем больше я читаю, тем менее опытным и уверенным я себя чувствую, потому что мир сложен и понять его до конца невозможно, можно лишь ужасаться тому, как многого мы ещё не знаем. Но это не значит, что нам нельзя высказываться. Сам процесс осознания себя и познания окружающего уже прекрасен. Нужно искать новые пути, нужно копаться в себе, нужно делать открытия — и конечно, об этом хочется говорить. А книга — это форма общения со всем миром. Конечно, со временем старые записи могут показаться глупыми или смешными, но это значит, что вы растёте над собой. Это нормально.
Миша: Кто бы что ни говорил, но люди меняются постоянно. Если человек учится, развивается, черпает что-то новое каждый день, то его взгляды на жизнь так или иначе меняются на постоянной основе. Вчера я думал так, а сегодня уже иначе — это база людей, которые не стоят на месте. В этом мире нет золотой середины, мы все находимся на спектре, переполненном разными оттенками всего, чего угодно. Так что да, это нормально, что всё меняется, в том числе и авторское представление о собственном творчестве. Я восхищаюсь тем, что я делаю; когда я перечитываю свои старые работы, я восхваляю их, но я так же не могу отделаться от ощущения кринжа.
Антон: Надо уметь гордиться своими работами. Да, впоследствии они могут показаться кринжовыми, но если в моменте вам было важно это написать, то сейчас, вероятно, кому-то важно это прочитать. Это как кружок анонимных алкоголиков, только в творчестве, полезно не только говорить, но и слушать.
Миша: Да, это так. Но вообще не все же хотят закрывать свои психологические потребности через книги? Кто-то пишет сюжеты, которые им просто интересны. А есть и такие ситуации, когда авторам проще написать книгу на трендовую тему, кайфануть самому и продать историю в издательство. Не всем же стремиться к оригинальности!
Антон: Ну тут можно и согласиться. Если вы кайфуете от того, что вы делаете, то и замечательно. Книги — это не только депрессивная русская классика, они могут быть написаны и психически здоровыми людьми. Ладно, когда мы уже перейдём к персонажам? У меня опять появилась к тебе тысяча вопросов, как к автору.
Миша: Ну давай, мне уже интересно, что ты приготовил для меня на этот раз. Позанудствовали — и хватит. Теперь время развлекаться на полную катушку! Всё-таки мы читаем книги только ради героев, именно они наполняют истории смыслом, действием, душой и настоящим огнём!
Антон: Итак, с чего ты начинаешь создание персонажей?
Миша: Вот это вот «итак» меня сейчас очень напугало... Сколько там, говоришь, вопросов? — Пытается подглядеть в список Антона.
Антон: Достаточно. — Уворачивается. — Да сядь ты на место и отвечай на вопросы!
Миша: Тогда, чтобы я отвечал, ты должен участвовать со мной в обсуждении! У нас все баш на баш делается. Вот для чего ты так рвёшься разузнать о персонажах? Кстати говоря, Антон весь прошлый выпуск мне об этом напоминал, но мы так и не успели коснуться темы создания персонажей.
Антон: Потому что для меня персонажи — это гораздо сложнее, чем сюжет. Для сюжета нужно только немного фантазии, а для персонажей — глубокое понимание характеров и личностей.
Миша: Да чё там понимать! Изи-пизи! Два притопа, два прихлопа — раз плюнуть!
Антон: Отвечай уже на вопрос! Мы же не будем сидеть тут всю ночь.
Миша: А чё там было-то? С чего начинать персонажей?
Антон: Примерно.
Миша: Ну-у-у... Собственно... Выбор персонажей основывается на сюжетной задумке. Я просто изначально продумываю определённый сюжет и, исходя из него, уже думаю о том, каких персонажей хочу видеть на главных ролях и второстепенных. Я знаю, что многие придумывают сюжет, отталкиваясь от персонажей, типа: хочу, чтобы один герой был мрачным, другой суперпозитивным и добрым, потом столкнуть их и посмотреть, что будет. У меня есть подобные работы, основанные на такой логике, но чаще всего, если я выбираю не рассказ, а объёмную и длинную историю, я стараюсь подобрать персонажей так, чтобы они раскрывали те проблемы, которые я задумал.
Антон: Например? То есть ты подгоняешь персонажей под идею, чтобы они действовали по твоей задумке и двигали сюжет своими взаимодействиями?
Миша: Сейчас возьму в пример «Другую терапию», потому что она мне очень нравится. Когда я был на этапе задумки, то я держал в голове сюжет: что будет, если четыре незнакомых человека окажутся в одной квартире, заинтересуются друг другом и построят отношения? Какими будут эти отношения? И вообще возможно ли это провернуть и что станет отправной точкой? Сначала я думал над тем, чтобы сделать Влада главным героем и, соответственно, повествующим персонажем. Я хотел показать историю со стороны человека, который заселяется в квартиру к незнакомцу. Но на этапе придумывания бэкграунда персонажей я понял, что мой интерес постепенно смещается в сторону Кирилла и его мотивация кажется мне гораздо сильнее, чем у других героев, да и его внутренний конфликт хоть и проще, чем у Влада, однако гораздо понятнее простому читателю. Так что я строил дальнейший сюжет исходя из проработки героев.
Антон: Ага, я понял, что для каждого сюжета нужны определённые персонажи, потому что из их личности идёт построение конфликтов и проблематики. Но ты полностью берёшь героев из головы или используешь референсы из реальной жизни?
Миша: А... Ты это хотел изначально узнать? — Смеётся. — Ну, давай так... Главных персонажей я придумаю, опираясь на архетипы: те же MBTI, знаки зодиака, арканы и так далее. Чаще всего я просто знаю, какой характер мне нужен в работу, а поскольку у меня очень масштабный ассоциативный ряд, то я довольно быстро нахожу то, что мне нужно. Обычно я прописываю характер на базовом уровне, а потом начинаю гуглить описание знаков зодиака, арканы и MBTI, чтобы подобрать примеры таких людей в реальной жизни и посмотреть, как они подают себя. Это помогает проработать героя лучше и очертить его какими-то рамками, чтобы всегда сохранять «канон». Чтобы не было такого: «Этот герой не мог так поступить!» А внешность я подбираю, исходя из своего внутреннего ощущения характера героя. Например... Вот тебе небольшая задачка: какой персонаж по характеру тебе покажется более мягким: с кудрявыми волосами или с прямыми?
Антон: Ну, наверное, с кудрявыми? А это прям влияет?
Миша: У меня просто есть ощущение, что круглые формы кажутся более дружелюбными, поэтому я редко наделяю персонажей со стервозным характером «мягкой» внешностью. Скорее я пропишу таких персонажей как угловатых, костлявых, с прямыми волосами, носами-горбинками и острыми скулами. А у нежных героев сто процентов будут волнистые волосы, даже, может быть, кудрявые, пухлые розовые щёчки, мягкие бока, а у девочек точно будет пышная грудь, такая мягкая и обнимательная. Конечно, это не значит, что я думаю, будто в жизни характер и внешность сходятся, но для архетипов это подходит. Также я выбираю «брендовые цвета персонажей», чтобы подчеркнуть их характер. Красный — страсть, агрессия, вспыльчивость. Это сразу Кирилл из «Другой терапии» и его красные домашние фланелевые брюки в клетку; это красная помада Леры. Это красное платье Алексы из «Турецкого кофе» и красный свитер Алека. Зелёный цвет — добрый, мягкий, уютный, спокойный. Я сразу вспоминаю Влада из той же «Другой терапии». Или розовый. Романтичный цвет, по-детски наивный. Это мой любимый Ян из «Личности», который до последнего тормозит. Это Саша из «Другой терапии», добрая и романтичная девушка. Это Риэ из «Внутри», которая верит в любовь с первого взгляда и выходит замуж за человека, с которым была знакома всего месяц. То есть я прорабатываю героев так, чтобы у читателей был определённый ассоциативный ряд. В моем случае то, что я упоминаю, имеет значение.
Антон: Офигеть, как сложно. Значит, когда на уроках литературы спрашивают про «синие шторы», это не просто так, это вот про тебя.
Миша: Не обязательно, что синие шторы могут иметь значение, но символизм может присутствовать в тексте на более глубинном уровне. Просто мало кто это осознает в полной мере. Гораздо важнее, чтобы люди на подсознательном уровне это ощущали, тогда они точно проникнутся вайбом.
Антон: А ты когда-нибудь брал образ персонажей со своих знакомых или друзей? Может, с врагов?
Миша: Все мои персонажи — это я. В каком-то смысле. Но я могу сказать так: у меня есть три работы, в которых я зашипперил людей из реальной жизни и перенёс не только их характеры, но и внешность на своих героев. Не буду говорить, какие это работы и кто эти персонажи, а то начнётся...
Антон смеётся: А ты умеешь подкинуть интригу.
Миша: Но в основном я везде прописываю себя, свои проблемы или проблемы из жизни людей, которых знаю лично, чьи истории я когда-то услышал и буквально разобрал на цитаты. А ты? Был ли у тебя подобный опыт? Придумывал героев, основываясь на себе или жизни других людей? Для тебя это вообще нормально?
Антон: Ну я писал фанфики, это считается? — Смеётся. — Вообще нет, мои персонажи родятся где-то внутри меня, сами по себе. Максимум, что я могу, это подсмотреть внешность, и то потому что у меня плохо с визуализацией. Но я в людях вообще плохо разбираюсь, я же интроверт.
Миша: Мой хороший, от интроверсии это не зависит. — Смеётся. — И с чего ты взял, что ты в людях не разбираешься? Ты считаешь, что у тебя проблемы в общении с людьми? Хочешь поговорить об этом?
Антон: Пожалуйста, остановись.
Миша: В этот раз я дам тебе фору, но в следующий ты не отвертишься. — Ухмыляется.
Антон закатывает глаза: Давай следующий вопрос: сколько персонажей должно быть в тексте? Ты предпочитаешь небольшую команду или ты хотел бы однажды написать сагу с пятью поколениями и стоэтажными интригами?
Миша: У меня уже был такой опыт, когда я писал в стол. Миллион персонажей, куча взаимосвязей между ними, проработанный, многослойный сюжет с интригами и расследованиями. Но я так и не закончил, потому что однажды это всё завело меня в тупик. Гораздо проще сфокусироваться на небольшом количестве персонажей и глубоко проработать их историю, чтобы потом не блуждать в запутанных сюжетных поворотах. Но да, я бы хотел написать что-то такое. Но до этого должно пройти ещё много времени. Я сейчас точно к такому не готов. А ты? Написал бы что-то наподобие такого?
Антон: Точно не в ближайшее время. Я люблю более камерные истории, без вот этих тысяч взаимодействий. Идём дальше: твои главные герои — твои любимчики или нет? Они должны нравиться тебе как личности или ты можешь написать историю прям мерзотного человека, к которому в жизни и не подошёл бы?
Миша: В большинстве случаев я бы не стал общаться с теми людьми, которых я описываю. Лекса и Алек из «Турецкого кофе», Ира из «Другой религии» — это вообще ред флаги для меня в жизни. Они хороши как герои своих историй, как фантазия. И тут вообще не стоит даже упоминать Валентина из «Личности», ноу-ноу-ноу, это убежище (это мы на слэнге матом ругаемся: aka уёбище). Ну и Соня из «Тайны любви». Она крутая, но в жизни мы бы не сошлись характерами. Да и с Лерой из «Другой терапии», наверное, тоже, хоть она и милашка, и описывал я ее по своему типажу. Вообще, если говорить честно, то мне не нравятся все мои персонажи в той же мере, в которой я их и люблю. Это как с обычными людьми: иногда меня они бесят, а иногда я их люблю до смерти. Я не испытываю стабильные эмоции по отношению к людям, как и к своим персонажам. А вот ты, Антон... — Ухмыляется. — Какие мои персонажи тебе не нравятся и нравятся больше всего?
Антон: Дай-ка подумать. Вообще у тебя много довольно стервозных барышень в текстах. Я с такими не общаюсь, да и в целом мой круг общения сильно далёк от людей, которых ты описываешь. Все эти бизнесвумен, сумочки Прада, тусовки на океанских пляжах, пентхаусы — я на это смотрю как на что-то из другого мира. Классно понаблюдать со стороны, а потом вернуться в реальность.
Миша: Люблю стерв. У них есть характер и претенциозность. Я вижу в этом сексуальность. Я люблю наблюдать за такими девушками со стороны. Но подходить боюсь. Бля, ещё сожрут за то, что к ним такой холоп подходит! — Смеётся.
Антон: Это настолько же сексуально, насколько сексуальна бормашина. Я больше люблю простых и не претенциозных.
Миша: Он просто не потянет! Если в его семье будет два сложных человека, то Антон просто свихнётся! — Смеётся. — Имена любимых персонажей из моих книг будут?
Антон: Нет.
Миша: Не будут. Так и запишем. Ладно, мы принимаем этот ответ. Двигаемся дальше?
Антон: Да. Твои персонажи — в основном молодёжь. Это потому что тебе легче изобразить в тексте ровесника или просто совпадение?
Миша: Молодёжь? — Смеётся. — Когда я писал «Личность», то я был младше Яна на шесть лет. Я младше всех своих персонажей. Ну вот, для сравнения, мои самые новые героини из «Тайны любви» — им всем примерно по 26 лет. Мне сейчас 24. Я беру средний возраст, молодые и взрослые в одном лице. Когда-то это были миллениалы, а сейчас это почти зумеры. Но я не пишу книги про подростков. Я вообще не люблю свои подростковые годы, они были для меня самыми травматичными. Я не люблю этот возраст, хоть иногда и берусь прописывать студентов. Моих героев можно назвать «нью эдалт», потому что меня заботят вопросы перехода от подростковой жизни к взрослой. Но и это не навсегда. Когда-то же это перестанет меня беспокоить? — Смеётся. — Самый близкий по возрасту мне герой, это, наверное, Влад, потому что он единственный, кого я задумал как своего ровесника; более того, я задумывал его отражением самого себя. Остальные все старше меня. Вообще мне интереснее люди старше меня, потому что я часто думаю о том, как они живут. Я хочу их опыт, но пока нет такой возможности. У меня ещё в жопе детство играет! — Смеётся. — Антон, а вот ты сам какими персонажами интересуешься?
Антон: Ну я бы не назвал человека в 26 лет прям взрослым... — Вздыхает. — Кого я обманываю? Это время платить коммуналку и осторожно поднимать тяжести. Но мне пока тоже нравятся персонажи, уже выросшие из подростковой экзальтированности, но не дошедшие до старческой философичности.
Миша: У Антона опять приливы старческих вайбов. — Смеётся. — Сворачиваемся, пока ты опять не начал шутить шутки миллениалов. Следующий вопрос!
Антон: Какие персонажи из мировой литературы нравятся тебе больше всего? Про кого ты можешь сказать «эх, жаль, что его придумал не я»?
Миша: Таких нет, я вообще не претендую на чужие творения. Если ты задаёшь такой вопрос, то у тебя точно были похожие мысли! Колись!
Антон: В детстве мне нравился Фандорин из тех самых детективов, пока серия не затянулась слишком далеко и не началась вот эта хуйня с «ему уже шестьдесят, но он всё ещё расшвыривает врагов одной левой, ему выстрелили в башку, но он не умер» и так далее. Он тоже такой типичный Мери Сью, но Акунин так вовремя его придумал — там и трагическое прошлое, и разбитое сердце, и детективные тайны, и политические разборки, и всё это со вкусом истории России. Как Шерлок Холмс на максималках, и это ещё до того, как на Мери Сью и на Российскую империю у всех началась аллергия. Неудивительно, что он стал популярен. Могу только поаплодировать такой удаче — или дальновидности. Но тебе тоже по-любому кто-то нравится. Назови хотя бы несколько.
Миша: Ну ладно, вообще мне просто нравятся персонажи в парах. Поодиночке они скучные. Мне веселее наблюдать за взаимодействием героев, а не за кем-то по отдельности, потому что я редко ассоциирую себя хоть с какими-то персонажами. Например, это Джон и Шерлок из сериала BBC или Стайлз и Скотт из «Волчонка». Если брать из книг, то мне трудно выделить прикольные парочки. Может, это Корморан Страйк и Робин Эллакотт из серии детективов от Роулинг? Они вроде бы неплохи. О! Я вспомнил ещё! Лира Белаква и Уилл Парри! Которые из трилогии «His dark materials»! Боже, как они хороши! Дэм, они хороши, они в порядке! — Смеётся. — А если одиночный персонаж... Это, конечно, не то, на что я молюсь, но... я выберу Бет из «Ход королевы», потому что она очень колоритная героиня. Причём что в книге, что в сериале. Обожаю вот этих мрачных, отстранённых героев, которые ещё и пиздец какие заумные! — Смеётся. — А у тебя есть любимые персонажи, которые лучше ощущаются в приложении к кому-то?
Антон: Вопрос сложный. Может, четвёрка из «Трёх мушкетёров»? По отдельности они те ещё мудаки, а кое-кто даже занудный мудак. Но когда они вместе, они вечно попадают в интересный замес, а ещё у них вот это «Один за всех, и все за одного», звон шпаг, крики «ура», скрип потёртого седла, брызги шампанского... первые книги были захватывающими. А концовка грустная — они там старые пердуны, между собой не дружат, и вообще в конце все умерли.
Миша: А вообще, помимо прочего, вот из всех твоих любимых персонажей — чья химия тебе больше всего нравится? Потому что я, как автор, считаю, что добиться идеальной химии между персонажами очень трудно. Иногда общение между героями, их дружба и любовь выглядят очень искусственно.
Антон: Хм, дай подумать. Вообще у меня есть слабость к парам «простой, ничем не выделяющийся неуклюжий, но добрый парень & сильная и умная секси красотка», типа Рона и Ким Пять-с-плюсом или Капитана Америки с его военной женщиной в первом фильме. Один из моих любимых фильмов — «Ультраамериканцы» с Кристен Стюарт, там тоже как раз такая парочка. Не знаю, почему, но в такие отношения я верю. А про дружбу мало что приходит в голову. В «Благих знамениях» она была неплохо показана — в первом сезоне, потом всё пошло под откос, как обычно бывает.
Миша: Да, «Благие знамения» — это прям очень хорошо. Чтобы сделать естественный переход от врагов (или каких-то неприятелей) до друзей, а может, даже и партнёров, то нужно хорошо поработать над персонажами, понять их психологию, углубиться в историю каждого и связать всё по ходу сюжета. Из того, что я смотрел недавно, самой раздражающей парочкой стали Галинда и Эльфаба, которые из «Злая: Навсегда». В фильме их дружба сложилась очень искусственно. Я прям с натяжкой могу оценить их общение на три из десяти. Надеюсь, что следующая часть фильма хоть что-то ещё раскроет, но вот то, что я увидел, — ну хуйня, честно. Их переход от взаимной неприязни к дружбе был слишком резким, как будто это было чисто ради выживания обеих: Галинде хотелось показаться милосердной и доброй, а Эльфабе будто надоело быть изгоем в школе, хотя она, в принципе, как героиня, самодостаточна. Мне не хватило их химии в фильме. Может, в оригинальном мюзикле есть что-то ещё, не знаю, но фильм меня не порадовал в этом плане.
Антон: Я частенько замечаю, что персонажей притягивают за уши друг другу, лишь бы нарисовать красивый сюжет. «А что если задрот-ботаник и капитан школьной команды станут лучшими друзьями?» Да не станут они, а если и станут, им придётся сильно поработать над собой. И нет, запереть их в кладовке не поможет. Это просто кликбейтные слоганы, за которыми не факт что стоит правдоподобная история.
Миша: Это правда. Мне почему-то сразу вспомнилась книга, которая называется «Красный, белый и королевский синий», где герои внезапно влюбляются, попав в кладовку, хотя до этого искренне друг друга ненавидели. Это было уж слишком неправдоподобно. Да и их ненависть друг к другу в принципе строилась на какой-то глупой детской обиде. Так что там всё выглядит искусственно. Я думаю, чтобы добиться идеальной химии между персонажами, нужно провести их через кучу этапов в виде притирок и ссор, которые в конце откроют читателям, да и самим героям истинную сущность каждого. Чтобы всё казалось естественно, герои должны быть в чем-то похожи, а в чём-то и различны. Они должны быть двумя сторонами одного магнита. Я думаю, что лучше всего работает ход, когда друзей показывают вместе и порознь. Каждый персонаж должен работать как по отдельности, в индивидуальных сценах, так и в совместных. Так что авторам нужно учиться показывать своих героев со всех возможных сторон. Это челлендж, который не всем под силу.
Антон: Ну то есть каждый персонаж должен быть полноценной личностью, а не просто частью парочки, которая играет на контрастах. Звучит логично. Хотя на деле написать такого героя — задачка для профессионала. А теперь вопрос: каких персонажей ты не любишь и почему?
Миша: Самый бесячий из литературы, наверное, это Печорин, как я называл его в школе, Печёркин. Таких парацетамолов мы обходим стороной. То ещё убежище. Особенно хорошо он проявил себя в части «Княжна Мери», вот там он меня выбесил знатно. «Я не такой, как все, бла-бла-бла, меня никто не понимает»... Бу-уэ-э-э! А это его высокопарное: «Я готов был полюбить весь мир, но меня не поняли. Поэтому я научился ненавидеть», — это слова слабого человека без характера. Те, кто восхищаются его словами, бля, сходите к психологу, по-братски. Не травите людям жизнь. Эмо-пикмэ-бои, бля, фу. Вот кто бы что ни говорил, а произведения Лермонтова будут актуальны всегда, потому что в них описывается именно то, что находится внутри людей. Очень советую ознакомиться со всем его творчеством.
Антон: О, флэшбеки из школьной классики! Я терпеть не могу весь этот пласт книг про малахольную интеллигенцию. Катерина из «Грозы», ебучий этот «лучик света», истеричная дура. Анна Каренина, аристократы из «Белой гвардии», у меня от них аж скулы сводит. Мы такие нежные, такие несчастные, на нас давит грязный сапог несправедливости, крестьяне воняют навозом, никто не понимает нашу неразделённую любовь, мы птицы, запертые в клетке, вся эта херня. Но самый большой мудак — это доктор Живаго. Меня каждая страница доводила до белого каления! Вокруг кровавая революция, люди ебашатся за своё будущее брат на брата, холод, голод, трупы, а он сидит и пишет свои философские мемуары про то, какой он умный, а все остальные — бесчувственное быдло, и вообще пойду изменю жене, а то чёт скучно и тоскливо. Сука, как вспомню, аж бесит.
Миша: Зато сколько жизненного опыта! Вот, прочитав все эти книги, люди быстро начнут распознавать всяких мудаков в жизни и не нарываться на них. Но я также считаю, что в нашей литературе как будто не хватает реально хороших кейсов. Потому что плохих примеров много, а хороших мало. Люди не умеют доверять действительно добрым и открытым людям, потому что пытаются найти в них всё самое плохое. Кажется, что такой пессимистичный тип мышления нам и пытаются навязать всей этой школьной литературой. Так жаль. Поэтому я считаю, что нужно показывать как можно больше хороших героев и добрых сюжетов, чтобы люди могли на их примере вычленять для себя качества, которые хотят найти в друзьях и партнёрах. Этим как раз-таки и отличается зарубежная литература, полная романтичных и добрых историй. Кажется, что люди, которые воспитываются на таких книгах, гораздо легче относятся к жизни, чем люди из стран СНГ.
Антон: Я бы не сказал, что русская литература про каких-то мудаков. Это скорее литература страдания, литература упадничества и бессилия. «Маленький человек», «безропотный крестьянин», «страдающая душа», «жертва кровавых репрессий», все эти тропы ходят из книги в книгу. Эти персонажи не плохие люди, но и хорошими их назвать нельзя, они какие-то никакие. В зарубежной литературе больше романтических героев: рыцарей, отчаянных сорвиголов, лихих пиратов типа Робин Гуда, которые совершают подвиги. Они готовы рискнуть всем ради своего счастья, ради своей цели и принципов, и как правило, они добиваются успеха. Айвенго, Гамлет, Дон Кихот, Д'Артаньян, Гарри Поттер, тот же Шерлок Холмс — они созданы, чтобы вдохновлять. А у нас что? У нас был Данко, и то ему сердце растоптали, ибо нехуй, потому что у нас не в почёте герои, у нас сплошные Герасимы из «Муму». И мне это совершенно не нравится, это может вдохновить только на то, чтобы спиться.
Миша: Так я и сказал — пессимистичное мышление. Если сейчас всё хорошо, то потом будет плохо, а если сейчас — плохо, то потом — ещё хуже. Для меня плохой герой — тот, который стремится всё угробить своими же поступками и мышлением. Если главному герою плохо, то плохо должно быть всем. Это эгоизм. Вот, пожалуйста, тебе мой любимый пример — «Горе от ума». Приехал продвинутый чувак в гости к старым знакомым, которые и мир-то не видали, рассказал, как хорошо за границей, осудил всех, а потом съебался. М-м-м, кайф. Со своим уставом в чужой дом... Учить тех, кому это нафиг не нужно, — тупость высшей степени. Оставь как есть и живи сам как хочешь, нет, блядь, тыкает палкой засохшее говно.
Антон смеётся: Ладно, остынь. Давай вернёмся к моим вопросам. Имена! Вот это одна из самых спорных тем. Как придумать персонажу классное имя? У тебя есть какие-то лайфхаки на этот счёт?
Миша: Конечно, есть! Чем короче и проще автор назовет главного героя, тем лучше. Главный герой должен быть запоминающимся, поэтому его имя должно быть звучным и, желательно, коротким. Именно поэтому я не называю своих героев полными именами и вообще стараюсь всё сокращать до четырёх или трёх букв: Ян, Несс, Маша, Риэ, Кир, Кира, Ира, Саша, Лера, Влад, Алек, Эмин, Соня, Веля, Сеня — видишь? Все имена короткие и просто произносятся. Чем короче, тем лучше (тем меньше ошибок я сделаю в написании сам). Не надо нам никаких Тернеанахов из «Четвёртого крыла». Вы в России живете, а не в Америке! — Смеётся.
Антон: А тебя не смущает, что эти имена не уникальны? Ну вот какой-нибудь Саруман или Уленшпигель есть только один, а Саш и Лер — дофига в литературе.
Миша: Несси и Эмин — уникальны! Но это частные случаи. У них есть обоснуй. Я хочу, чтобы имена объяснялись на этническом уровне и показывали происхождение героев. Всё-таки я пишу в реализме. Поэтому мне хочется, чтобы и имена героев звучали как минимум адекватно. Но, как ты сам понимаешь, я пишу про «элиту» нашего общества. Большая часть моих персонажей не такие уж и простые, поэтому мне хочется, чтобы — хотя-я-я бы-ы на уровне имён — они были приближены к общей массе. Я это делаю умышленно, чтобы читатели воспринимали героев как обычных людей. Если я буду писать про элиту и при этом давать героям супер-пупер «эстетичные» и «особенные» имена, то я быстренько переквалифицируюсь из автора, пишущего в реализме, в авторы по метке «Мери Сью». Ну а это уже зашквар, как ты сам понимаешь. Да и я не из тех авторов, которые подчёркивают исключительность персонажей через такие банальные вещи. Хотите особенного персонажа? Бля, ну придумайте ему необычную историю! Это хотя бы немного интереснее, чем долбаное имя.
Антон: С одной стороны, я с тобой согласен. Конечно, когда у нас реализм, а среди Вась и Петь внезапно всплывает Доминик, это странно. Но некоторые авторы всё равно выходят из положения — берут запоминающиеся фамилии, дают обычным именам необычные сокращения. Или клички. Например, Волька из «Старика Хоттабыча», Лена-Чучело у Железникова. Или вот у меня в детстве были книжки из серии Чёрный кот, там девочку Олю называли Лёшкой, от «Олюшка», тоже необычно. Да взять хотя бы всем известную Масяню, которая на самом деле обычная Мария.
Миша: Алек — чем тебе не необычное сокращение от Александра? Или Лекса — та же Александра? Это лучше, чем «Саша». Или Сеня от «Ксения»? Или Веля от «Велеслава»? Нормально. Я тоже придумываю всякие штуки прикольные. Разнообразно! Ну, если брать прикольные имена и редкие, то тут тоже можно поиграться. Допустим, героиня наполовину сербка или болгарка, можно дать необычное имя «Иванка». Это имя производное от «Иван». И раньше оно было популярно в СССР. Сейчас так уже никого не называют (как минимум, в России). Или можно придумать, что героиня казашка, дать ей имя Улдана, которое означает «ждём мальчика»; сделать героиню старшей дочерью в семье, на этом фоне развить травмы и обозначить героиню как сильную и волевую, зародить в ней ненависть к своему имени (потому что а какого хуя?) и тем самым дать повод для сокращения «Дана». И всё. Дело в шляпе. И вот! Видите? Я только что на фоне имени придумал вам новую героиню с крутой историей. И отсюда уже можно ебашить прикольный сюжет, основаный на травмах героини: синдром отличницы, излишняя опека к родным, недолюбленность, неуверенность в себе, отсюда недоверие к людям и синдром самозванца. Сколько сюжетных проблем можно построить только на этом? Да море!
Антон: Да, вот это уже звучит прикольно. Имя героя должно быть его личным, уникальным, чтобы не просто ткнуть пальцем в список, а подобрать нечто символичное. У классиков большинство имён говорящие, случайностей там практически не бывает.
Миша: Да даже у Джоан Роулинг! У неё вообще нет героев, у которых бы не было говорящих имен. Мне до такого уровня ещё далеко! — Смеётся. — Но если быть честным, то я редко придумываю имена сам. Этим занимаются мои друзья и родственники. Обычно я устраиваю собрания и зачитываю близким людям описание героев, их характеры и историю, а потом спрашиваю, какие имена и фамилии им больше всего подходят. И тут уж у кого какие ассоциации возникнут. Вот Кирилл Краев — это чисто работа моей старшей сестры. Сам бы я в жизни не придумал это имя для своего героя. По правде говоря, я уже не могу представить себе Кирилла без его имени и фамилии. Или Леру без прозвища «Венера», потому что это тоже моя сестра придумала. Так что это чаще всего работа коллективного разума.
Антон: Интересный метод. Я бы им не воспользовался, опять же потому что у меня персонажи — это что-то внутреннее и личное, но я уверен, что начинающим авторам твой вариант подойдёт. Как минимум, это хороший способ собрать фидбек, понять, как видят твоего персонажа другие.
Миша: Да, это верно. Но я пользуюсь этим методом, потому что мне трудно давать своим героям имена. После такого они будто оживают и становятся моими детьми, настоящими. И под конец книги мне было бы раз в десять труднее и больнее расставаться с ними. Ну что, я удовлетворил твое любопытство?
Антон: А что, тебе уже надоело отвечать на вопросы? Быстро ты. — Смеётся.
Миша: Потому что у меня есть одна тема, касающаяся персонажей, которую бы мне хотелось упомянуть. А именно — путь персонажа, его изменения по ходу сюжета, трансформация. Мы уже упоминали ранее, что главный конфликт любого произведения (основу которого держат перипетии человеческие) — это, конечно же, внутренний конфликт главного героя. Конфликт, так или иначе, приводит к изменениям. Если герой по ходу сюжета не трансформируется, то сюжет ничего не стоит. Поэтому читатель должен видеть наглядную разницу, как изменился персонаж. И меня больше всего беспокоит в книгах то, насколько резко иногда показывают подобные изменения. При этом в таких книгах не особенно-то и много хороших поводов для резких перемен. Поэтому перевоплощения по типу «Золушки» мне кажутся немного странными, будто за ними стоят нарциссические повадки авторов.
Антон: Интересная тема, расскажи поподробнее, каким ты видишь идеальный путь персонажа? Какие примеры ты считаешь удачными, а какие нет?
Миша: Идеальный путь персонажа по ходу сюжета может быть разным, но для меня трансформации персонажа, как внутренние, так и внешние — имеют особую значимость. Потому что это всегда показывает то, как история отражается на героях, какие последствия она имеет. Если герой проигрывает истории, то как это на него влияет? А если побеждает? Есть ли плата за победу? Я долго думал о том, как вообще отображать изменения сюжета на героях, чтобы читатели понимали, что у любых действий есть последствия. И, наверное, самый мой любимый пример в изменении героя — «Портрет Дориана Грея». Я впервые прочитал эту книгу на английском в адаптированном варианте, а потом в оригинальной версии. А недавно прочёл и перевод на русский. И когда я перечитывал, то подумал о том, что это лучшее произведение, которое наглядно отражает мои взгляды на жизнь: чем кормишь свои мысли и душу, тем и становишься. Дориан был наивным одуванчиком, который попал в неправильное общество, отравился им, заразился неверными мыслями и скверными представлениями о жизни. И в итоге это привело его к моральному падению. Его душа чернела, а внешность, благодаря желанию остаться молодым, никак не менялась. Однако каждый мерзкий поступок Дориана отражался на мистическом портрете, который старел, гнил и разлагался вместе с душой. В конце Дориан познаёт ужасы своего истинного лица, принимает настоящий облик и умирает. Это потрясающий пример изменения как внутреннего содержимого героя, так и внешнего. Пороки нас догонят, как бы мы ни хотели от них сбежать. Раскаяние — то, к чему должны прийти все. Для меня это идеально. Не зря это произведение Оскара Уайльда чтят в мировой литературе. А вот современные авторы, к сожалению, не могут похвастаться такой гениальностью. Я заметил, что с приходом трендов на упрощение это также коснулось и литературы. Поэтому сейчас изменения героев отображаются слишком радикально, слишком резко и зачастую напоминают карикатуру. Сколько бы современной литературы я ни читал, я нигде не видел адекватного соотношения как внутренних изменений, так и внешних. Или же вообще авторы иногда игнорируют внутренние изменения, фокусируясь только на внешних. И я вижу в этом нарциссизм. Сейчас будет классический пример, который обобщит все современные книги! Есть такая тенденция, особенно среди женских романов, когда авторы хотят показать резкую смену настроения героини, то они устраивают переодевашки! Была у них невзрачная серая мышка, а потом она резко разоделась в королеву, завоевала сердца всех мальчиков и стала самой популярной в школе, университете, ещё где-то... В общем, ты понимаешь, о чём я?
Антон: Это немного неправильный приём для книги. В переодевании главную роль играет визуальная составляющая, поэтому им так любят пользоваться в кино. Тупо переписывать это в книгу не даст нужного эффекта, в то время как в кино такие визуальные трансформации как раз неплохо работают. Хотя у многих авторов есть проблема с разделением визуального и текстового языка повествования.
Миша: Так тренды диктуют авторам такой стиль! Сейчас многие авторы пишут книги так, чтобы их потом можно было с легкостью экранизировать. Но естественно, это портит книги. И подобные приёмы, внезапно перешедшие из кино в литературу... Это как будто бы деградация. И удивительно, что большинство современных авторов это вообще никак не смущает. Особенно авторов подростковых книг.
Антон: Да, чтобы написать правдоподобную книгу, нужно немного покурить матчасть, потому что экранизация и сама книга — это далеко не одно и то же. Сейчас любят снимать фильмы по книгам, сериалы по фильмам, писать комиксы по книгам и книги по фильмам, и с каждой итерацией качество произведения падает. Потому что все эти жанры требуют не только сюжета, но и правильной подачи. Клёво увидеть любимых героев глазами, но надо помнить, что каждое произведение должно быть самостоятельной единицей, а не просто тупым изложением, с чем справилась бы и нейросеть.
Миша: Такие приёмы часто встречаются у авторов-новичков, которые также по неопытности пишут Мери Сьюшных героев. Это уже своеобразная отличительная черта всех подростковых книг с участием Мери Сью. Но таких упущений в подаче можно с лёгкостью избежать, если авторы будут больше углубляться в проработку персонажей. В книгах с неправильно адаптированными киношными приёмами я вижу попытку показать метаморфозу, однако не слишком удачную. Потому что вместо того, чтобы сфокусироваться на внутренних изменениях, подумать о герое и его психологии, авторы проявляют нарциссические повадки и истерию, отображая изменения через внешние факторы. А по факту, как бы могла поменяться серая мышка, если бы захотела стать чуть более заметной? Она бы медленно шла к тому дерзкому образу, который обычно демонстрируют авторы. Это годы принятия своей свободы. Оттого это и нереалистично, что происходит слишком быстро. Или другой пример, когда автор хочет показать перемены в атмосфере или локации: вместо того чтобы отразить мысли героя и его впечатления от смены локации, обычно авторы переходят на внешние изменения. Герои перенеслись из тропы приключений в лесу в золотые дворцы, значит, нужно подробно описать смену образа героя — из рваных брюк и стоптанных ботинок в шёлковые платья и хрустальные туфли. И пофигу, что до этого герои были какие-нибудь охотники за дичью, ели руками и никогда прежде не видели золотых вилок с ножами! Теперь-то они чувствуют роскошь и наслаждаются ею, хотя по характеру она может им быть и некомфортна. И таких упущений может быть множество.
Антон: Соглашусь. Особенно эта проблема была видна в эпоху бесконечных книг про попаданцев. Ситуация, где мы берём обычного задрота, кидаем его в какой-нибудь фэнтезийный мир и делаем его королём, изначально проигрышная, потому что реалистичные человеческие реакции на это прописать очень сложно, и чтобы герой не помер в первые пару часов и хоть как-то двигал сюжет, герой просто обязан быть Мери Сью. Я даже удивлён, что эти попаданцы имели такой успех, я не знаю ни одного приличного нестёбного сюжета с подобным тропом.
Миша: Это правда. Поэтому мне больше импонируют метаморфозы, связанные с внутренним миром. Возьмём, к примеру не книгу, а фильм. Думаю, все авторы, которые любят переносить киношные приёмы на книги, смогут почерпнуть здесь кое-что для себя. Итак, фильм — «Блондинка в законе». Мне очень нравится то, как авторы подошли к «перевоплощению» главной героини, Элл Вудс. Она как была розовой барби с самого начала, так ею и осталась. Ее не стали делать серьёзной внешне, когда она столкнулась с внутренним конфликтом, однако её цели и взгляды на мир претерпели изменения по ходу сюжета. В самом начале Элл Вудс поступала на юридический, чтобы завоевать сердце парня, доказать ему, что она чего-то стоит, но, заканчивая учёбу, она уже доказывает себе, что она может быть не только модной барби, но ещё и сильным юристом; что её ценность не зависит от перспективного парня рядом, а что она сама может быть такой же перспективной, но при этом оставаться в образе наивной и романтичной розовой блондинки. Это очень сильная метаморфоза, потому что она не меняет айдентику персонажа, а лишь дополняет его. И в такие изменения я верю больше всего, потому что они показывают сильных героев, которые остаются верными себе несмотря ни на что.
Антон: Ну герои бывают не только сильными, а изменения — не только закаляющими характер, мораль и так далее, хотя соглашусь, что это довольно привычный путь. Всегда остаётся место для других персонажей, вроде того чувака из «Шинели» Гоголя, у которого изменения таки зависели от одежды, но одежда не делала его уверенным и сильным, скорее превращала его в ещё большего параноика и ничтожество. Но да, метаморфоза должна быть логичной, последовательной и адекватной. Часто встречаюсь в современных книгах с проблемой, что персонажи меняют своё мнение просто так, на пустом месте. Скажем, не когда они своими глазами видят необходимость перемен, не когда случается какая-то личная трагедия, а когда одна мимо проходящая сюжетная бабка сказала, что так надо. Потому что автор притягивает перемены в характере персонажа под свой сюжет, а так быть не должно. Сюжет и изменения в характере персонажа должны идти параллельно и неразрывно.
Миша: Согласен, поэтому тут, как никогда, будет актуален самый банальный и простой совет: следите за логикой. А если не банальный совет, то так: я обычно спрашиваю себя: как бы я поступил на месте героя, если бы у меня был его бэкграунд? И это всегда помогает вернуться с небес на землю. А ты как думаешь, Антон?
Антон: В целом да, самый простой метод — это прикинуть на себя. Конечно, сложно самому ощутить всё, но у писателя всегда остаётся воображение. Грубо говоря, если вы описываете, как вашему персонажу сломали ногу, а он всё равно сражается на поле боя, попробуйте вспомнить, как вам неохота было чем-то заниматься уже после того, как вы слегка порезали палец. Тут можно экстраполировать опыт и догадаться, что если ваш персонаж не боевой робот, вряд ли что-то выйдет. Но у меня остались ещё вопросы, давай к ним вернёмся.
Миша: Ну ладно, давай уже свой последний вопрос и закругляемся.
Антон: Быстрый вопрос: мужские персонажи или женские?
Миша: Сложно... Если я выберу «женские», то как же я буду без «мужские»? Ведь это как «инь» и «янь»... О! Я знаю! Я выбираю третий пол! Так это сработает?
Антон: Нет. Ну, то есть да, но я имел в виду, кого тебе легче описывать — мужчин или женщин?
Миша: Не знаю... По-моему, одинаково. А есть разница? Я просто один из тех самых квиров, которые проходили социализацию нестандартного вида, так что мне трудно отвечать на такие вопросы. Если только склоняться к биологии?
Антон: Ну я достаточно часто слышу от авторов, что у них есть сложности, да ты и сам наверняка видел — мужчин, которые пишут только гаремники от лица мужских персонажей; женщин, у которых всегда одна главная героиня, списанная с них самих; или наоборот, когда, скажем, дама пишет только слэш, не признавая женских персонажей. Что бы ты посоветовал таким авторам, как разбавить свой текст разными оригинальными героями?
Миша: Тут важно, чтобы люди сами испытывали интерес к своим персонажам. Я вижу проблему только в психологии. Если это автор, который пишет только гаремники от лица мужчин, то я посоветую наладить отношения с женщинами, постараться разобраться, откуда идёт эта объективизация? Какая женщина тебя опустила? Кто тебе не дал? Ведь в таких работах чаще всего девушек воспринимают на уровне мебели, как вещь, которой можно обладать. А если это женщины, которые пишут только слэш, то я вижу в этом проблему с принятием собственного пола — внутренняя мизогиния. Или же это попытка создать комфортных героев, с которыми женщина (читательница или авторка) не будет конкурировать с главной героиней за сердце мужского персонажа или не будет сексуальным объектом рядом с мужчиной. Тут очень двоякая ситуация, так что я вряд ли могу что-то посоветовать. Тут только одна дорога — в кабинет к психологу.
Антон: Я правильно понимаю — мы снова возвращаемся к универсальному совету: смотри вокруг, наблюдай за людьми, изучай мир и себя и расти над собой, и твоё творчество вырастет следом?
Миша: Да, всё-таки наше творчество — отображение нашего внутреннего мира. Обычно по работам авторов можно быстро определить их психологические проблемы. Так что я советую отслеживать тенденции, анализировать их и искать новые пути к самопознанию. Мир не сосредоточен только в тех рамках, которые мы прописываем. Попытка выйти за них или хотя бы посмотреть чуть выше стен — всегда хороший совет.
Антон: Даже и добавить нечего. Думаю, на этом можно закруглиться в этом выпуске.
Миша: Да, можно заканчивать! Пацаны и пацанессы, спасибо, что были с нами! Ставьте лайки и пишите комментарии!
Антон: Будем признательны за ваши мысли и обсуждения, а диалог мы можем продолжить там, где граница между текстом и живым общением почти стирается.
Миша: Вы знаете, где и что искать! Пока!
Антон: Всем чао!
Миша: Каков француз! «Ку» и «чао»!
Антон: Вообще-то это по-итальянски.
Миша: А, извините! «Ку-ку» и «чао»!
Антон: Я про «чао».
Миша: Я не понимаю.
Антон: Господи ты боже мой.
Миша смеётся: Вырубайте! Я уже устал.
Off topic: быстрые ответы на литературные вопросы
Вопрос 1: Какая твоя любимая книга?
Антон: У меня в коллекции много хороших. Давай выберу пока одну. «Житие моё» Сыромятниковой. Это малоизвестная книга в такой убойной смеси жанров, что-то типа техно-панк-фэнтези.
Миша: Если не брать в расчёт книги в жанре «почувствуй себя хорошо», то есть только одно произведение, которое я готов перечитывать вечно, — «Последняя из рода Блэк» — фанфик по Гарри Поттеру. Всё остальное на этом фоне не имеет никакого значения.
Вопрос 2: Есть ли у тебя книга, которая не понравилась?
Антон: Учебник гистологии.
Миша: Лиа Рэд, «Цветы в Пустоте». Книга не раскрыла себя до конца. Да и сай-фай фэнтези — это не моё. И «На языке эльфов» Сабины Тикхо. Тоже непонятная история какая-то.
Вопрос 3: Есть ли у тебя книга, которую очень хочешь прочитать, но нет времени?
Антон: Я очень много книг хочу прочитать, но нет времени. Первым в очереди стоит Пелевин.
Миша: Ребекка Росс, «Безжалостные клятвы». Очень хочу прочитать. И «Там, где раки поют» Делии Оуэнс. Там про брошенного ребенка, а я люблю пореветь над такими сюжетами. Жду, когда подвернётся правильное настроение для этой книги.
Вопрос 4: Какую книгу ты бы номинировал на премию «Книга с лучшей любовной линией»?
Антон: Я не очень ценю любовные линии, так что тут я не советчик.
Миша: Чёрт, такой нет. Даже среди фанфиков, наверное. Я просто иначе чувствую любовь. Мне ещё ничего не откликнулось. Могу сказать, что очень близко было с «Магистром дьявольского культа», Мосян Тунсю.
Вопрос 5: Есть ли у тебя книга, которая впечатлила в детстве?
Антон: Мне нравилась серия про Мефодия Буслаева, это Емец. Последние книги выходили, когда я уже был в старших классах, и там началась какая-то дичь, а вот первые прикольные были.
Миша: «Именинный пирог», Свен Нурдквист. Там были очень красивые и детализированные иллюстрации. Мне хотелось себе всю серию книг.
Вопрос 6: Какая книга впечатлила тебя во взрослом возрасте?
Антон: Смотря что считать взрослым возрастом. Ну пусть будет «Слепое пятно» Ночкина. Очень неожиданно, но это фанфик по «Сталкеру». И это чуть ли не единственный стоящий фанфик по Сталкеру, я его раз двенадцать перечитывал.
Миша: Маргерит Дюрас, «Любовник». Короткая история, которая оставила меня в полном недоумении и заняла все мои мысли на целые недели. Я нашел её, потому что изучал книги, похожие на «Лолиту». Не совсем моя тема, но я впечатлился.
Вопрос 7: Что последнее ты читал?
Антон: «Убыр» Идиатуллина. Интересная вещь, основанная на татарском фольклоре. Не скажу, что очень понравилось, но рекомендовать можно.
Миша: Вот на зимних каникулах прочитал «Прачечная «Пингуль-Пингуль» в Ённамдоне», авторства Ким Джиюн. Потрясающая книга, особенно, если читать в оригинале.
Вопрос 8: После какой книги у тебя появилась любовь к чтению?
Антон: У меня в глубоком детстве был альманах всяких детских рассказиков, и там мне запал в душу «Дневник фокса Микки» Саши Чёрного, повесть от лица собачки.
Миша: Это были фанфики по Гарри Поттеру. Мой первый, по-моему, был «Фиолетовый холм». Навсегда в моём сердце.
Вопрос 9: Какую книгу ты читаешь сейчас?
Антон: Висит несколько незаконченных, но я пока взял паузу, времени не хватает. Надо добить «Вдали от обезумевшей толпы» Гарди, но, если честно, это самое скучное, что я когда-либо читал про викторианскую Англию.
Миша: Пока ничего не читаю. Учёба. Поглядываю «48 законов власти», но это трудно прочитать за пару вечеров. Читаю по одному закону в неделю.
Вопрос 10: Какую книгу ты сначала не понимал или недолюбливал, а потом полюбил?
Антон: Если мне что-то не понравилось, то это надолго. Я консерватор. Платонов оказался не так уж плох, когда я перечитал его после школы, но любимым автором у меня он точно не станет.
Миша: «Герой нашего времени», Лермонтов. До меня дошло, о чём книга, только тогда, когда я перечитал её в двадцать два года.
Вопрос 11: Кто твой любимый писатель?
Антон: Кроме Веркина, наверное, Булгаков. Ещё Стругацкие.
Миша: Не могу выделить кого-то конкретного из издаваемых авторов, поэтому пусть будет Alis-fleur с Фикбука, потому что её книги вдохновили меня уйти от приключенческого фентези в сторону реализма, благодаря чему я нашёл свою стезю в писательстве.
Вопрос 12: Какую экранизацию книги можно назвать самой лучшей?
Антон: Меня захейтят, но мне понравился «Хоббит», и «Властелин колец», конечно, тоже. А ещё сериал «Ганнибал» неплох, книга оказалась гораздо зануднее.
Миша: «Маленькие женщины» с Эммой Уотсон и «Портрет Дориана Грея» с Беном Барнсом. Лучше не будет. Можете не переснимать. Оставьте как есть.
Вопрос 13: Экранизацию какой книги ты хотел бы увидеть?
Антон: «Ведьмин век» Дяченко. Это магический реализм с эстетикой чёрных Волг, дисковых телефонов и древнего ведьминского колдовства.
Миша: «Две короны», Кэтрин Дойл и Кэтрин Веббер. Я бы посмотрел на пустыни, джунгли и двух путников, которые ругаются не по дням, а по часам. Ну и на внутренний конфликт принцессы Розы.
Вопрос 14: Какую книгу ты посоветовал бы родителям/младшим родственникам?
Антон: «Лис Улисс» Фреда Адры. Она выглядит как детская, но в ней очень много скрытых отсылок. А ещё она добрая.
Миша: Всей своей семье я бы посоветовал книгу «К себе нежно» Ольги Примаченко и «Прокачай самооценку» Меган Мак-Катчен. Хоть в них и упоминается только база, однако даже эту базу не все знают.
Вопрос 15: Какую книгу ты бы взял с собой на необитаемый остров?
Антон: «Войну и мир». Только так я смогу заставить себя её дочитать.
Миша: Книгу по выживанию, в которой будет описание того, как построить плот, как добыть воду, развести огонь, поймать дичь и как связаться с миром.
Блиц!
Вопрос 16: Электронная книга или бумажная?
Антон: Электронная.
Миша: Электронная.
Вопрос 17: С аннотированием или без?
Антон: С аннотированием.
Миша: С аннотированием.
Вопрос 18: Слушать музыку на фоне или читать в тишине?
Антон: В тишине.
Миша: В тишине и с берушами.
Вопрос 19: Ты быстрый читатель или медленный?
Антон: Флэш.
Миша: Быстрый.
Вопрос 20: Читать вечером или днем?
Антон: Без разницы.
Миша: Ночью.
Вопрос 21: Книжные циклы или самостоятельные произведения?
Антон: Самостоятельные или короткие циклы.
Миша: Безусловно, циклы.
Вопрос 22: Аудиокниги — да или нет?
Антон: Не, не воспринимаю текст на слух, только глазами.
Миша: Обязательно! Уборка только под аудиокниги!
Вопрос 23: Электронная книга — лицензионная или пиратская?
Антон: По возможности лицензия.
Миша: По подписке с промокодами на скидку.
Дата опроса: апрель 2025.
тг-канал Антона: likebetalikeauthor («бет едят, а они глядят»)
тг-канал Миши: mishaparshuta («парашют»)