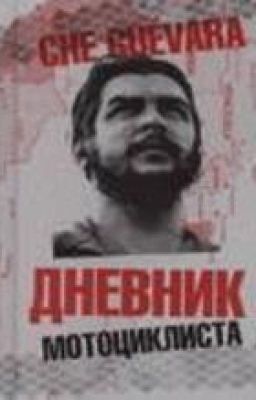Тарата - новый мир
Всего несколько метров отделяло нас от поста жандармерии, обозначающего границу городка, и наши вещевые мешки давили нам на плечи, как будто груз их увеличился во сто крат. Солнце припекало, и, как всегда, мы были слишком укутаны для этого времени суток, хотя потом нам предстояло мерзнуть. Дорога быстро шла в гору, и скоро мы достигли вершины пирамиды, видной из города и сооруженной в честь павших в войне против Чили. Тут мы решили сделать наш первый привал и попробовать остановить какой-либо из проезжавших мимо грузовиков. Впереди виднелись только голые холмы, почти без единого кустика; мирная Такна стала маленькой, едва различимой со своими немощеными улицами и красными черепичными крышами. Нам повезло с первой же машиной: мы робко проголосовали, и, к нашему удивлению, шофер притормозил прямо напротив нас. Уполномоченный вести переговоры Альберто в наизусть знакомых мне выражениях объяснил смысл нашего путешествия и попросил, чтобы нас подбросили; водитель утвердительно кивнул и показал, чтобы мы залезали назад, где уже сидела компания индейцев; взвалив на плечи багаж и вне себя от радости, мы уже приготовились было вскарабкаться в кузов, когда шофер снова нас окликнул:
— Учтите, отсюда до Тараты—пять солей.
Альберто в ярости спросил, зачем же он соглашался, если мы просили подвезти нас бесплатно. Что такое бесплатно, шофер представлял себе слабо, но что до Тараты — пять солей, усвоил твердо...
«Теперь все время так будет», — сказал Альберто, вложив в эту простую фразу всю злость, которую он накопил против меня, выступившего с мыслью идти пешком и ловить попутки по дороге, а не поджидать их в городе, как хотелось ему. В этот момент дилемма была простой: либо мы возвращаемся и тем самым признаем свое поражение, либо идем дальше, что бы ни случилось. Мы выбрали последнее и снова зашагали вперед. ТЪ, что мы поступили не вполне благоразумно, яснее ясного доказывало солнце, которое явно клонилось к горизонту, а также полное отсутствие признаков жизни. Однако мы предположили, что в такой близи от города должен попасться хоть какой-нибудь домишко, и, вдохновляемые этой иллюзией, продолжили движение.
Уже совсем стемнело, а мы так и не обнаружили никакого жилья, но самое скверное, что у нас не было воды, чтобы приготовить что-нибудь поесть или заварить мате. Становилось все холоднее; пустынный климат и то, что мы поднялись на такую высоту, лишь усугубили нашу злость и отчаяние. Тяжким грузом навалилась усталость. Мы решили расстелить одеяла прямо на земле и проспать до утра. Одеяла мы достали на ошупь, поскольку безлунная ночь была очень темной, и укутались, как смогли. Через пять минут Альберто сообщил, что весь закоченел, и я ответил, что, пожалуй, еще больше мог закоченеть только я. Ткк как это не был конкурс холодильников, мы решили бросить вызов нашему отчаянному положению, найти хоть какой-нибудь хворост, чтобы развести небольшой костер, и принялись шарить кругом. Результат был практически равен нулю: сообща мы насобирали охапку веток, которой хватило только на то, чтобы разжечь жалкий костерок. Голод, а еще больше холод терзали нас до такой степени, что мы уже не могли просто лежать, глядя на дотлевающие угли нашего костра. Пришлось сниматься с якоря и двигаться дальше в темноте.
Сначала, чтобы согреться, мы пошли бодрым, быстрым шагом, но очень скоро стали задыхаться. Я чувствовал, как под курткой по телу бежит пот, однако ноги закоченели до бесчувственности, и дувший в лицо ветерок был острым, как лезвие ножа. Через два часа мы практически выдохлись, стрелки показывали 12.30 ночи. По самым оптимистичным расчетам, до утра оставалось еще пять часов. Новая уловка, еще одна попытка согреться и уснуть, закутавшись в одеяла. Через пять минут мы вновь пустились в путь. Была еще глубокая ночь, когда вдали засветились фары; особенно радоваться было нечему, учитывая минимальные шансы, что нас подсадят, но по крайней мере можно будет разглядеть дорогу. Так и случилось: грузовик проехал мимо, безразличный к нашим истеричным призывам, и его передние фары высветили окружавшую нас бесплодную пустошь, без растительности и домов. Потом все смешалось, каждая минута тянулась дольше, чем предыдущая, а последующие казались часами. Два или три раза далекий собачий лай внушал нам слабую надежду, но в глухой ночи ничего не было видно, и собаки умолкали, либо лай доносился с какой-то другой стороны.
В шесть утра в сером свете зари мы различили на обочине дороги два ранчо, стоявшие бок о бок. Последние метры мы словно пролетели по воздуху. Никогда еще, как нам показалось, нас не принимали с такой любовной заботой, никогда хлеб и сыр, купленные нами, не были такими вкусными, а мате — таким бодрящим. Д ля этих простых людей, перед которыми Альберто на разные лады жонглировал своим званием «доктора», мы были кем-то вроде полубогов. Причем полубогов, прибывших не откуда-нибудь, а из самой Аргентины — чудесной страны, где живут Перон и его жена, Эвита, где у бедных есть все, что есть у богатых, и индейцев не эксплуатируют и не обращаются с ними так жестоко, как в этих краях. Нам пришлось ответить на тысячу вопросов, касающихся нашей родины и жизни там. Еще чувствуя пробирающий до костей ночной холод, мы представляли себе Аргентину как некое благословенное видение, как прошлое, усыпанное розами. Любовно и заботливо сопровождаемые цивилизованными индейцами, мы спустились к пролегавшему поблизости пересохшему руслу какой-то речушки, расстелили там свои одеяла и уснули, обласканные лучами восходящего солнца.
В полдень мы снова пустились в путь, укрепив свой моральный дух и позабыв о злоключениях прошлой ночи, чтобы последовать совету старого Вискачи. Однако дорога была неблизкая, и в пути постоянно что-нибудь происходило. В пять часов пополудни мы остановились передохнуть, безучастно разглядывая очертания приближающегося грузовика; небось, как всегда, он перевозит самое выгодное — человеческий скот. Вдруг грузовик останавливается, и мы видим жандарма из Такны, который любезно приветствует нас и приглашает садиться; само собой, повторять приглашение дважды не пришлось. Аймары смотрят на нас с любопытством, но не осмеливаются ничего спросить. Альберто заводит разговор с некоторыми из них, которые очень плохо говорят по-испански. Грузовик продолжает свой путь по холмам, окруженным совершенно вымершим ландшафтом, где разве что заросли колючего и чахлого щавеля придают окружающему живой вид. Но вдруг жалобный звук, с которым грузовик преодолевает очередной подъем, сменяется вздохом облегчения, и вот мы уже катим по ровной дороге.
В этот момент мы въезжаем в город Эстаке, и открывшаяся перед нами панорама поистине чудесна; наши восхищенные взгляды впиваются в лежащий вперед и пейзаж, и мы тут же пытаемся выяснить, что к чему, но аймары вряд ли понимают нас и только лопочут что-то на своем испанском, что придает окружающему еще большую эмоциональность. Перед нами — легендарная долина, остановившаяся в своем развитии уже много веков назад и которую сейчас дано видеть нам, счастливым смертным, до последней клетки пропитанным цивилизацией XX века. Горные акведуки — те самые, которые инки заставляли прорывать своих подданных для их же блага, — ведут в долину, образуя тысячи мелких каскадов и пересекаясь с дорогой, которая спускается вниз по спирали; впереди низкие облака скрывают вершины гор, но в отдельные просветы виден снег, падающий на высокие пики и мало-помалу убеляющий их. Различные посадки, сделанные местными жителями, аккуратными грядами спускаются по горным склонам, расширяя наши ботанические познания: здесь и ока, и кинуа, и каниуа, и рокото, и маис, посадки которых непрерывно сменяют друг друга.
Люди, в таких же оригинальных одеяниях, как и те, что ехали в грузовике, здесь предстают в своем естественном окружении; на них неширокие пончо из обыкновенной шерсти приглушенных тонов, штаны в обтяжку, доходящие только до середины икр, и самодельные сандалии из тростника или старых автомобильных покрышек. Впивая все окружающее жадным взором, мы между тем спускаемся в долину, пока не въезжаем в Тарату, что на языке аймаров означает «пропасть» или «слияние», и, надо сказать, название это вполне уместно, так как здесь — точка схождения огромного У, образуемого горными цепями, охраняющими Тарату. Это старый тихий городишко, где жизнь течет по тому же руслу, что и много веков назад. Его колониальная церковь, должно быть, настоящая архитектурная жемчужина, так как в ней, помимо возраста, заметно сочетание привозного, европейского искусства с духом индейцев этих краев.
На узких улочках города, возле домов, облицованных камнем на местный манер, с огромными перепадами высот, — индейские женщины с детьми в заплечных торбах... Короче, при таком обилии всего типичного, в воздухе ощущается веяние времен, предшествовавших испанскому завоеванию; но те, кого мы сейчас видим перед собой, уже не тот гордый народ, постоянно восстававший против владычества инков и вынуждавший их держать войско на своих границах, — народ побежденных смотрит, как мы проходим по городским улицам. Взгляды индейцев кроткие, почти пугливые и совершенно безразличные к внешнему миру. Некоторые аборигены производят впечатление, что живут по привычке, от которой им никак не избавиться. Жандарм отвозит нас в полицейский участок, там нам предоставляют помещение и дают поесть. Обойдя город, мы ненадолго ложимся, поскольку уже в три часа ночи нам предстоит выехать курсом на Пуно в пассажирском грузовике, который, по договоренности с жандармерией, повезет нас бесплатно.