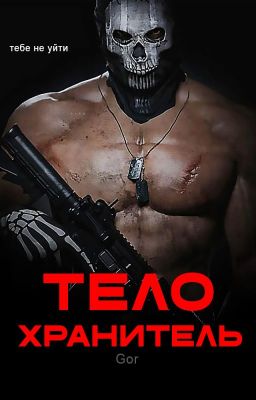Часть 17 Флэшбэк - Саймон Райли
Гоуст. Обращение к читателям:
Готов поспорить, вам пиздец как интересно, почему у меня череп на маске. Я ношу её в честь старого друга. Нынче он уже мёртв, но я вам клянусь — хуже этого ублюдка во всём свете было не сыскать.
Его звали Райли. Саймон Райли. Он служил в SAS. Говорят, они лучшие. А Райли... он был лучшим из лучших.
И я вам расскажу его историю.

Часть 17 Флэшбэк - Саймон Райли
Ранее
16 лет назад (за 4 года до событий в Мексике)
— Какой же ты красивый, мой мальчик... — пальцы матери скользили по его щекам, тёплые и чуть дрожащие. Её глаза блестели от слёз, которые она старалась сдержать.
Саймон стоял перед ней. Высокий, широкий в плечах, в новенькой форме, пахнущей крахмалом и казённой тканью. Не двигался, позволяя ей гладить его лицо, хотя внутри всё сжималось от неловкости.
Рядом топтался Томми, младше на три года, худощавый, с такими же карими глазами, как у Саймона, но со светлыми, почти соломенными волосами, которые вечно падали ему на лоб. Он пинал носком ботинка гравий, стараясь выглядеть равнодушным, но то и дело бросал взгляды на брата — быстрые, цепкие, как будто хотел запомнить его таким: не просто Саймоном, а солдатом Саймоном.
— Ты там осторожнее, слышишь? — мать вдруг сжала его лицо ладонями, заставляя посмотреть ей в глаза. — И пиши. Хоть раз в месяц, Саймон. Не забывай нас.
— Конечно, мама.
Он кивнул. Говорить не хотелось — слова казались лишними, тяжёлыми, будто камни, которые некуда было бросить. Он просто смотрел на неё — на тонкие морщинки вокруг глаз, на сжатые в линию губы, на то, как она прикусила нижнюю губу, пытаясь не расплакаться.
Томми, наконец, перестал пинать гравий, шагнул ближе, сунув руки в карманы старой куртки, что досталась ему от Саймона.
— Ну что, теперь ты крутой, да? Вернёшься весь в медалях?
Саймон хмыкнул, уголок рта дёрнулся в едва заметной улыбке. Он протянул руку и взъерошил светлые волосы Томми, чуть сильнее, чем нужно, так что тот дёрнулся и отмахнулся.
— Медали — это как повезёт. Но я вернусь, это точно. Не расслабляйтесь тут без меня.
Мать издала облегчённый всхлип, не сводя с него взгляда. Саймон впервые уходил из дома на службу без чёткого срока возвращения.
— Не филонь учёбу, Томми, — добавил он, глядя на брата. — Я буду слать вам средства, так что не вздумай всё профукать на свои дурацкие комиксы.
Томми фыркнул, скрестил руки на груди и ухмыльнулся:
— Да я, может, лучше в армию рвану, чем в универе гнить.
— Не дури, придурок, — отрезал Саймон. — Тебе осталось отучиться всего ничего.
Томми закатил глаза.
— Ну да, а потом сидеть в конторе, как лох, пока ты там всех мочить будешь. Справедливо, конечно.
Мать тихо засмеялась, но смех быстро оборвался, сменившись глубоким вдохом. Она скрестила руки на груди и отступила на шаг.
Автобус, который должен был забрать Саймона, уже сигналил вдалеке.
Воздух вдруг стал гуще, пропитанный запахом бензина и мокрой травы после утреннего дождя.
— Иди сюда, — она потянула его за рукав, прижимая к себе в коротком, крепком объятии.
Саймон напрягся на секунду, но потом расслабился, чувствуя, как её тепло проникает сквозь ткань формы.
Томми стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу, и, когда мать отпустила Саймона, неожиданно шагнул вперёд и ткнулся лбом ему в плечо — быстро, неловко, как делают мальчишки, которые не хотят показаться сентиментальными.
— Не подохни там, ладно? — пробормотал он, отходя назад и снова пнув гравий.
Саймон кивнул, глядя на них обоих — мать, которая теперь отвернулась, вытирая глаза рукавом, и брата, который притворялся, что ему плевать.
Он подхватил свой рюкзак, закинул его на плечо и пошёл к автобусу, не оглядываясь.
Но их голоса — тихий всхлип матери и ворчание Томми — ещё долго звучали у него в голове, пока гул мотора не заглушил всё.
***
Спустя 18 месяцев
Служба тянулась долго и изматывающе. Саймон привык к грязи, крови и приказам, которые не обсуждаются. Первые месяцы он списывался с матерью — письма приходили регулярно, полные мелочей: она увлеклась вышивкой крестиком, ходила в бассейн с соседками, хвасталась, что закончила целую картину с оленем, а Томми, по её словам, продолжал учиться, хоть и ворчал про экзамены. Молодец малой, держится.
Но со временем письма стали короче, сдержаннее, будто мать что-то недоговаривала.
"Всё в порядке, сынок, не волнуйся."
Саймон знал, что это ложь. Ощущал это. Но он не мог просто взять и рвануть домой. Контракт держал его, как цепь. Нарушить его было нереально, объяснения в духе «семейные обстоятельства» не прокатили бы:
— Мне мать и брат не отвечают. Разрешите уйти в увал?
— Они умерли, лейтенант?
— Никак нет.
— Тогда иди нахер, сынок.
Как член закрытого спецподразделения, Саймон был связан по рукам и ногам. Оставалось только ждать окончания срока, пока чуйка грызла его изнутри, как голодный зверь. А потом письма прекратились совсем. Он их не получал. Ни от матери, ни от Томми.
Тишина резала хуже ножа.
Когда контракт наконец истёк, он рванул домой. Ещё у порога его ударило тягучее, липкое чувство — воздух стал густым, тяжёлым.
Беда. Блять, беда.
Дверь скрипнула, он шагнул внутрь и позвал:
— Мам? Томми?
Никто не отозвался. Только из гостиной доносился гул телевизора. Голос ведущего пробивался сквозь шум:
— Ну что ты учудил на том испытании с батутом? Ха-ха!
— Хмм... Не помню! Я был пьян в тот момент!
Саймон двинулся на звук. В кресле перед экраном сидела мать. Сгорбленная. В руках стакан виски, налитый до краёв. На столе стояла бутылка, почти пустая. Её взгляд был прикован к телевизору, но глаза пустые, стеклянные.
— Мама... — прошептал он, пересекая комнату в два шага.
Она не шелохнулась. Саймон опустился на колени рядом, коснулся её руки — тёплой, мягкой, как он и помнил
— Мама? Я дома. Посмотри на меня. Это я, мам. Твой сын.
Она медленно повернула голову.
— А... Саймон?
Мать смотрела на него, но взгляд был растерянный, блуждающий, как у человека, который пытается ухватиться за ускользающую мысль.
И вдруг его накрыло.
Она не узнала его.
Мгновение тянулось, как густой сироп. В её глазах мелькнуло что-то — слабое узнавание, призрак воспоминаний, но тут же исчезло, смятое усталостью, алкоголем, месяцами боли.
Мать смотрела на него, как на чужого.
И только через пару долгих секунд в её чертах что-то дрогнуло.
— Да, это я, — Саймон сглотнул, пытаясь загнать вглубь всё, что вспыхнуло внутри.
— Ты вернулся? — голос слабый, чуть дрожащий. — Как давно это было... Я каждый день молилась, чтобы ты был в порядке...
И слёзы покатились по её щекам.
— Что произошло? Что с тобой?
— Томми...
— Что с ним? Где он, мам?
Она разрыдалась, плечи затряслись, а пальцы сжались вокруг стакана.
Саймона захлестнула ярость — холодная и острая. Видеть мать, единственную женщину, которая для него что-то значила, в таком состоянии было невыносимо. Внутри щёлкнул тумблер — найти и уничтожить того, кто это сделал. Того, кто причинил ей боль.
— Я давно его не видела. Искала, пыталась вытащить... Но не смогла... О, Саймон, мы его потеряли...
— Мама, я хочу, чтобы ты рассказала мне всё, — сказал он твёрдо. — Начни с обратного. Где Томми?
— Мы поругались. Ему нужны были деньги. Он забрал пластинки — те, что отец купил мне, когда мы начали встречаться. Наверное, они чего-то стоят, раз он их взял.
Лицо матери было красным от слёз, глаза в сетке лопнувших вен — она не спала днями. И тут Саймон заметил на её скуле красный, подсохший синяк.
— Он ударил тебя?
Она покачала головой, но взгляд отвела.
— Томми не виноват, Саймон. Он хороший мальчик. Это всё наркотики... Он бы никогда... Просто он слишком похож на вашего отца.
Она обхватила лицо Саймона ладонями. Запах алкоголя ударил в нос, резкий и горький. Он стиснул зубы.
— Нет, мама. Томми не знал его так, как я, — он говорил жёстко, пытаясь убедить не только её, но и себя. — Отец — гнилой ублюдок, редкостная мразь. Я это видел, я с этим жил. И я задавил это в себе. Томми... он не должен был стать таким. Он не стал.
Но смотря на мать, на её пустой, сломленный взгляд... Саймон уже не был в этом уверен.
С экрана телевизора снова донёсся хохот. Долбаные, бесячие лицедеи.
Он дотянулся до пульта и вырубил этот грёбаный цирк.
— Томми... Томми... — шептала мать, всхлипывая.
Саймон подхватил её на руки, лёгкую, выматонную. Он унёс её в спальню, уложил на кровать, укрыл одеялом. Сидел рядом, пока её дыхание не выровнялось, пока тяжёлый сон не накрыл её.
А потом наклонился, коснулся губами её лба и тихо сказал:
— Я найду его и приведу домой.



***
Саймон обшарил уже несколько притонов в самых злачных дырах Манчестера — вонючие подвалы, где воздух пропитан мочой, потом и сладковатым запахом дешёвого стаффа.
Он врывался внутрь, хватал обдолбанных уродов за шкирку и бил — коротко, сильно, в морду, чтобы привести в чувство. В одной руке сжимал фотографию Томми, которую взял с маминого столика — брат на ней улыбался, светлые волосы растрёпаны, карие глаза блестят.
Саймон тыкал снимком в лица этих отбросов, пока те кашляли кровью или мутными слюнями.
— Ты его видел?
Один из них, тощий, с провалившимися глазами, выдавил:
— А? Чё? Свали в закат, пидрила...
Саймон впечатал кулак ему в челюсть — хрустнула кость, голова мотнулась назад.
— Аааа! — его мутные глаза вылупились, как у дохлой рыбы. — Ты чё, псих?
Псих? Почти.
Саймон был профи в допросах. Изощрённых, выверенных. Он умел вырезать правду из плоти, медленно, филигранно.
Но эти наркоманы... Некоторые были настолько в отрубе, что даже нож у горла не выдавливал из них ничего, кроме бессвязного мычания.
Один, с гнилыми зубами и вонью изо рта, которую можно было почувствовать за метр, оскалился:
— Не видел я такого мальчишку. А увидел бы — дал бы ему поласкать свою конфетку за щёку.
Саймон одним движением повалил его на пол, тяжёлый ботинок врезался прямо в яйца. Он услышал хруст под подошвой.
Наркоман взвыл, скорчившись и схватившись за пах:
— Ааа... сука...
Саймон склонился над ним и прорычал сквозь зубы:
— Это сейчас ты поласкаешь конфетку. Даже не одну. Возьмёшь за щёку у всех своих дружков, что валяются тут сутками на этих гнилых матрасах, по уши в дерьме, моче и собственной блевотине. Все конфетки разом. Они будут счастливы.
Тот заскулил, но вдруг прохрипел:
— Покажи-ка ещё разок фотку. В первый раз не разглядел.
Саймон припечатал снимок к его носу, так что бумага смялась о потную кожу. Наркоман прищурился, помутневшие глаза прошлись по изображению.
— Кажись, видел. Блондинчик часто шныряет у Шустрика.
— Кто это? — прорычал Саймон, терпение трещало по швам.
— Да Шустрик... это Ромми, местный барыга, — наркоман хрипло хохотнул, сплюнув кровью в сторону. — Все его знают. Улица Кингсли, пятнадцать.
Саймон молчал секунду.
Затем резко схватил ублюдка за горло. Тот захрипел, глаза полезли из орбит, руки заскребли по грязному полу. Саймон наклонился ближе и процедил:
— Если соврал — я вернусь.
Он сжал пальцы сильнее, наблюдая, как тот захрипел сильнее, вытаращив рыбьи глаза.
— И тогда твои яйца будут не просто трещать, а висеть у тебя на шее.
Он швырнул мешок с дерьмом обратно на матрас. Тот рухнул, кашляя и хватая ртом воздух. Саймон выпрямился, сунул фото Томми в карман и шагнул к выходу, оставив за спиной тихий скулёж и вонь притона.
***
Была уже глубокая ночь, когда он добрался до Кингсли, мать его, пятнадцать. Холодный ветер гнал ошмётки мусора по пустынной улице, глухо тарабаня их о стены. В воздухе висела влага, сырость и слабый запах канализации.
Перед ним стояла дыра.
Обветшалый дом, облупленные стены, заколоченные окна, из щелей которых пробивался грязный, желтоватый свет. Сраный притон.
Саймон толкнул дверь. Внутри ударила та же вонь, что и в других притонах: кислая смесь пота, ссанья и горелой химии, от которой глаза заслезились.
Посреди комнаты, заваленной окурками и пивными банками, стоял грязный, тёмно-красный диван, покрытый засохшей коркой какой-то дряни.
И на нём лежал... Томми.
Воздух сжался в комок.
Саймон застыл. Выдох застрял в горле.
Брат...
Он был едва узнаваем: рука, перетянутая жгутом выше локтя, торчала под неестественным углом, вены — синие, рваные, исколотые. В них тыкали тупой иглой без остановки. На ширинке расплылось тёмное, круглое пятно — моча или что похуже, уже впитавшееся в драные джинсы.
Лицо впалое, кожа серая, как у покойника, под глазами багровые синяки, а изо рта стекала зеленоватая рвота — густая, кашицеобразная, скопившаяся лужей под головой и пропитавшая спутанные светлые волосы.
Саймон рванулся вперёд.
— Томми... твою мать!
Перевернул набок одним движением, надеясь, что брат ещё не успел захлебнулся в этой дряни.
Пальцы, горячие от адреналина, прижались к шее.
Пульс.
Бился.
Слабый.
— Так, дружище, держись. Мы едем в клинику.
Томми зашевелился, веки дрогнули. Желтоватые глаза еле-еле приоткрылись.
— Какого... Саймон?
Слова путались, как у пьяного.
— Иди нахер, чувак. Я не дам украсть этим ублюдкам свою душу...
Что за херня...
Сукаа...
Эти слова он не раз слышал от своего отца. Не просто так Томми говорит его словами. Не просто так он здесь оказался. Саймон всё выяснит. Но сначала надо спасти брата.
Резко подхватил его под руки, чувствуя, как его худое тело обмякло. От Томми несло кислятиной и грязью.
— Это слова отца, Томми. Поёшь точь-в-точь, как он, — голос дрожал от злости и от дикого страха за брата. — Я тебя забираю, усёк? В клинике тебя почистят.
— Ты нужен маме. Ты нужен мне, — добавил хрипло.
— Не нужен я тебе! — Томми дёрнулся, пытаясь отвернуться, но сил не хватило. — Ты свалил, чтобы убивать арабов!
— Я убиваю убийц, а не арабов! В этом есть разница! — рявкнул Саймон, стиснув зубы.
Томми что-то промямлил, голова его мотнулась в сторону, глаза закатились.
Блять!
Саймон выдохнул, смягчая тон:
— Я в увале, братишка. Я никуда не уйду. Держись! Держиись!
И вдруг что-то в его взгляде изменилось. Как будто пелена спала. Он моргнул, замер, а потом судорожно втянул воздух. В глазах мелькнуло осознание — запоздалое, страшное.
— О Боже... О Боже! Саймон! — голос сорвался в хриплый всхлип, слёзы потекли по впалым щекам, смешиваясь с зелёной коркой рвоты. — Что я наделал?...
Саймон сжал его плечи, чувствуя, как кости торчат под тонкой, влажной от пота кожей.
— Я останусь дома, пока ты не будешь в порядке, Томми. Даже если это займёт вечность. Всё хорошо. Я с тобой.
— Я с-сохранил тот альбом Siouxsie*. — Томми заикался, дрожа всем телом. — М-мама сказала, это её любимый.
— Вот молодец.
— Я хочу домой.
— Я отведу тебя. Но сначала в больничку, малой.
Томми ещё пытался что-то прохрипеть, пока Саймон вёл его к выходу, поддерживая под руку.
В дверях выросли пятеро — четыре тощих хлыща, едва держащихся на ногах, и одна низкая девка с сальными волосами.
— Ну разве это не грёбанная милота? — протянул один из них, глядя на братьев.
— Съебались.
Одно слово. Оно бы разогнало кого угодно с целыми мозгами, но не эту шваль, чьи мозги выедены героином.
— Томми остаётся здесь... — всё так же тянет этот урод.
В уголке его губ красный, шершавый мозок. У него сифилис.
— Чувачок пользуется моей херней, трахает мою сестру... — он шмыгнул носом и обнажил передние длинные зубы-лопатки, как у бобра. — Жрёт мою еду... Заточил почти все батончики "Йорки"*.
Саймон бы раскидал эту ахиревшую шайку — вывернул бы руки, отбил почки, оставил корчиться в их же моче. Но Томми висел на нём, бледный. Каждая минута была на счету. К тому же, класть брата обратно на этот проклятый диван не хотелось... даже на минуту.
Пришлось сделать проще.
Он достал из внутреннего кармана все купюры, что были с собой. Сто фунтов.
— Держи. Купи себе хоть коробку шоколадок, — швырнул им под ноги. — Съебались. Последний раз говорю.
— Шустрик... — Томми закашлял, грудь его затряслась.. — Пусти нас... Я ухожу.
Шустрик хмыкнул, сплюнул на пол чёрной слюной. За его спиной чернокожий парень с кривыми зубами тоже плюнул — густая мокрота шлёпнулась на доски.
— Я не хочу, чтобы он уходил, — пискнула девка тонким голосом, как у побитой собаки. — Останови его, Ромми!
— Заткнись, шлюха, — бросил он, не оборачиваясь.
Саймон стиснул зубы.
— Томми, мне придётся уложить тебя обратно, — сказал он тихо. — Это ненадолго.
Он осторожно сбросил брата обратно на диван.
Шустрик оскалился.
— Мне нужна его мошонка, — в его руках блеснула отвёртка. — И твоя тоже.
Шпана ебливая.
Саймон рванулся вперёд.
Шустрик успел только взмахнуть отвёрткой, но Саймон перехватил его руку, крутанул — кости хрустнули, железка звякнула об пол. Остальные кинулись толпой, шатаясь и размахивая кулаками, заточками, не понимая, что делают.
Он бил быстро, точно, жёстко. Как машина. Локоть в рёбра — сухой хруст. Ботинок в колено — глухой стон.
— Ну и печальное же вы зрелище.
Хрящи трещали, кровь брызгала на стены и пол. Они валились один за другим, скуля, хватаясь за воздух. Последний рухнул в кучу мусора, выворачивая руку под неестественным углом.
Девка завизжала, бросилась на него, царапая грязными ногтями. Он не стал её бить. Просто схватил за плечи, шваркнул об пол одним движением. Она шлёпнулась на задницу, взвизгнула, но тут же поползла назад, подальше от него.
Саймон выдохнул, оглядел этот сброд — стонущий, кровоточащий, корчащийся в собственной блевотине.
Хлам. Отбросы.
Подхватил Томми снова, чувствуя, как брат дрожит в его руках.
— Всё, малой. Поехали.





***
— Ваш брат в сильной интоксикации, — врач говорил быстро, сухо, стоя в коридоре больницы, перебирая бумаги в руках. Он не смотрел на Саймона, только на свои записи. — Передозировка героином, полиорганная недостаточность уже на подходе. Тахикардия, гипоксия, острая печёночная дисфункция, почки почти встали. Судя по венам — кололся долго, метаболиты в крови зашкаливают, плюс обезвоживание и токсический шок. Если бы он оказался у нас позже, мы бы не вытянули его.
Саймон прислонился к стене коридора, скрестив руки. Врач поднял взгляд, очки блеснули под тусклым светом больничных ламп.
— Вы спасли ему жизнь, — добавил он.
Саймон промолчал. Слов не было — только тяжёлый ком в груди.
Сквозь стекло палаты виднелся Томми — худой, бледный, с трубками в носу и капельницей в исколотой руке.
***
Мать постепенно приходила в себя, по мере того как состояние Томми улучшалось. Его перевели из реанимации в обычную палату — уже не груда костей с трубками, а человек, который мог сидеть, говорить, хоть и выглядел как тень себя прежнего.
Саймон с матерью навещали его каждый день. Томми плакал, слёзы катились по впалым щекам, голос дрожал:
— Простите... мне так стыдно. Я больше никогда, клянусь, никогда не буду.
Мать верила — её глаза светились надеждой, она гладила его руку, шептала слова утешения. Саймон молчал, стоя у окна палаты, глядя на брата холодно и трезво. Он видел это раньше — не в Томми, а в других.
Наркоманы всегда врут. Даже себе. Даже когда слёзы настоящие.
Томми ждала долгая реабилитация в закрытом учреждении — месяцы, а может, годы. Иначе красный диван, вонь притона и зелёная рвота станут его финалом.
Однажды, пока Томми спал под капельницей, мать отвела Саймона в сторону. Они стояли в больничном коридоре, где пахло антисептиком и застарелым горем.
— Это всё из-за него, — сказал он, глядя на неё сверху вниз. Это не было вопросом.
— Да, — выдохнула она. Её голос был тихим, ломким, будто она боялась, что слова развалят её окончательно.
Ублюдок....
— Из-за твоего отца, — продолжила она, теребя край рукава. — Он ведь долго нас не трогал, ты знаешь. Годами пропадал, и я думала, мы наконец свободны. А потом он вернулся. Маячил, как чёртова тень.
Саймон стиснул челюсть, чувствуя, как старый гнев — знакомый, ржавый — поднимается внутри.
— Почему ты мне не сказала? — процедил, стараясь не повысить голос. — Почему писала в письмах, что всё хорошо?
Очень хорошо. Ахуенно как всё хорошо у них было.
— Сынок, ну ты же военный. Я знаю, как там всё у вас устроено. Ты был в постоянной опасности, а тут мы... Со своими проблемами. Я не хотела, чтобы ты пострадал из-за переживаний о нас.
— Да кроме вас, у меня никого и нет! Я должен был знать.
Саймон глубоко вдохнул, со всей силы сдерживаясь.
— Ох...сынок...
— Дальше. Отец объявился и...?
— Сначала он просто приходил. С бутылкой в руках, как всегда, в той же кожаной куртке. Садился за стол, болтал всякую чушь — про то, как скучал, как хочет всё исправить. Я отмахивалась, но он не уходил. А потом начал.... подливать мне, — она сглотнула, глаза её покраснели. — Я держалась, Саймон, клянусь. Но он подливал мне в чай, в кофе. Я слабела, а он... а потом он взялся за Томми.
Саймон убьёт его.
— Как?
— Сначала просто таскал его с собой, — мать опустила голову, голос задрожал сильнее. — Говорил, что хочет наладить с ним связь, как с сыном. Брал его в бары, в какие-то грязные забегаловки. Томми возвращался поздно, вонючий пивом, но я думала... думала, это просто подростковые штучки. А потом он бросил учёбу. Сказал, что ему не нужно это всё, что отец обещал показать настоящую жизнь.
Она замолчала, вытирая слёзы рукавом. Саймон ждал, чувствуя, как пальцы сжимаются в кулаки.
— Все твои деньги уходили на платежи, ипотеку, дом. Их хватало, и мне оставалось... Но Томми я не давала. Ну, немного, только если.
Мать замялась.
— И тогда он пошёл к отцу. И тот начал давать Томми деньги. Мелочь сначала, а потом больше. Говорил: «Ты мужик, живи как хочешь». А потом я нашла у Томми в кармане пакетик. Белый порошок. Он кричал, что это не моё дело, что я ничего не понимаю. А отец... он смеялся. Сказал, что это нормально, что он сам так жил и ничего, выжил же. Томми стал пропадать, уходить с ним на целые дни. А когда возвращался, глаза были пустые, как у твоего отца в худшие времена. Я пыталась его остановить... Пыталась... Я не смогла.
Мать всхлипнула, закрыв лицо руками.
— Он сломал его, Саймон. Сломал моего мальчика.
Саймон смотрел на неё, потом перевёл взгляд на стекло палаты, где лежал Томми.
Отец. Этот гнилой ублюдок, который всегда был ядом, теперь отравил и брата. Он не просто сбивал с толку — он втащил Томми в свою грязь, дал ему ложную свободу, подсунул иглу, как чёртов подарок. Начал спаивать мать, едва не довёл её до могилы горем.
Саймон выдохнул сквозь зубы.
Если этот мразь ещё раз сунется к ним — он сломает ему шею.
***
Саймон знал, где искать отца. По пятницам тот всегда ошивался в панковском баре «Плевок в систему» — дыре, где рейвы гремели до утра. У входа толпились панки (ну а кто ещё?) — грязные, в рваных косухах, с разноцветными ирокезами. Кто-то курил самокрутки, воняющие травой, кто-то глушил дешёвое пиво из мятых банок.
Музыка рвала воздух, хриплый голос орал со сцены с надрывом:
— Я хочу отрезать себе нос, детка!!! Отрежу его и тебе, деткаааа! Я чувствую, злоба, может заставить нас, детка, я чувствуюююю, чувствую, что мучаю тебя!
Саймон шагнул внутрь, ловя косые взгляды. На нём была парадная униформа — китель с нашивкой SAS, отутюженный, строгий. Он только что сбежал с благотворительного вечера Минобороны — светского мероприятия, куда он был обязан явиться.
Там были ветераны, их жёны, медали звенели на груди, а столы ломились от напитков и блюд. Он пришёл туда с матерью.
Но он заметил, как она дрожала — её рука тряслась на его локте, взгляд метался, как у загнанного зверя. И Саймон понял: отец, этот ублюдок, снова влез в её жизнь. Знал, что сын дома, и сделал всё втихую, как крыса.
Он оставил мать с милыми жёнами сослуживцев, что щебетали у столика с безалкогольным пуншем и десертами из вишни. Он соврал ей, что его вызвало начальство, и ушёл.
Теперь он здесь, в этом аду. Картина детства — только без цензуры. В детстве было хуже.
— Буууу! Заберите эту херню обратно к парням из Ливерпуля, мелкие засранцы! — хриплый голос отца прорезал шум. Он колотил кулаками в воздух, стоя у сцены.
Худощавый, как скелет, — всю жизнь среди своих у него было погоняло Кости. Потёртая чёрная кожаная куртка с нашивкой черепа и шотландского флага. Короткие кучерявые волосы торчали во все стороны, будто его током шибануло. Уши проколоты — серьги-колечки покрыты ржавчиной. Тонкие губы кривились в оскале, пока он орал на сцену, тыча тощим, костлявым пальцем и показывая фак.
— Эй, чувак! Остынь! — панк с зёленым ирокезом толкнул его в плечо.
— Не трогай меня, грёбаная зеленовласка! — отец размахнулся и врезал ему башкой в нос. Хрустнуло, кровь хлынула, панк заорал, схватившись за лицо.
— Мудила! Ааааа!! Что он творит?! — взвизгнула баба рядом, в косухе и с фиолетовыми патлами.
— Я вырву твои глаза и скормлю их тебе! — отец кинулся на мужика, размахивая кулаками.
Музыка не стихала, группа орала со сцены:
— Панки? ХОЙ! Панки? ХОЙ! Даааааааа!!
Толпа подпевала, прыгала, вопила что-то нечленораздельное, пока мордобой разгорался.
Саймон пошёл прямо к отцу.
Панки расступались перед ним. Его почти в два метра рост и нашивка SAS на плече говорили: «Пиздец тебе, если не отойдёшь».
— Какого хуя! — выдавил отец, но не успел договорить, когда Саймон схватил его за грудки куртки и вышвырнул через заднюю дверь на улицу, прямо в кучу мусорных баков.
Кости перекатился на спину, чёрные пакеты с мусором лопнули под ним, выпустив вонь тухлятины и рой мушек. Он заёрзал, пытаясь сесть, одна нога скользнула по липкой жиже, другая застряла в рваном пакете с обглоданными рёбрышками.
— О, Саймон! Здравствуй, сынулька! — он оскалился, вытащил сигарету из кармана и закурил, лёжа в этом дерьме.
Саймон молчал. Только смотрел на него, глядя вниз.
— В восемьдесят шестом сёрферы трахали сучек на этой сцене, — отец ткнул дымящей сигаретой в сторону бара. — И это были янки. Представляешь? А сейчас грёбаные сосунки из Ливерпуля выёбываются.
Он затянулся глубоко, выдохнул облако дыма и прищурился.
— Говорю те, Саймон, эта страна катится к чертям собачьим.
Отец кое-как поднялся, шатаясь, мусор прилип к его куртке, вонь тащилась за ним шлейфом.
— Кстати, а чё это за прикидон? — он ткнул окурком в китель сына.
— Ты собираешься на бал-маскарад?
— Я просто пришёл сказать, что теперь позабочусь обо всём. Ты нам больше не нужен.
— Чё бл...
— Ты больше не подойдёшь к матери или Томми, — голос Саймона резал, как нож. — Это не просьба. Один шаг к ним — и я найду тебя.
— Кем ты, блять, себя возомнил? Это моя жена, сынуля! Что хочу, то и делаю!
— Она достаточно настрадалась. Томми чуть не умер из-за тебя, ты в курсе? Он в больнице. Я притащил его туда в передозе.
— И это типа моя вина?! — заорал отец, выпучив глаза. —Думаешь, старина Кости всадил ему иглу в руку, да? Сопляк сам виноват! Я ему говорил: бери лёгкое, нюхай порошок, а он, дурак, полез в тяжёлую дурь!
Больной сукин сын. Саймон ненавидел его каждой клеткой.
— Тебе никогда не понять, старик, — сказал он холодно, сдерживая ярость. Пока что сдерживая. — Ни что такое семья, ни что такое ответственность. Ты жалкий, мерзкий ублюдок.
Отец задрал голову и расхохотался, серьги в ушах задрожали,
— Ну, по крайней мере, я не наёмник грёбаной Королевы! Ахах!
Он нагнулся, подобрал с асфальта обломок доски — щербатый, с гвоздём на конце. Замахнулся. Саймон перехватил его руку одним движением, ударил в челюсть. Хруст. Кровь брызнула из носа. Кости отполз, как слизняк, плюясь красным.
— Оу, хэй, малышок! Задел за живое, а? — он оскалился, зубы в крови блестели под фонарём.
Отец кинулся снова, размахивая кулаками. Саймон оттолкнул его ладонью в грудь — тот отлетел, врезался в баки. Саймон шагнул ближе, врезал ещё раз — в рёбра, не в полную силу, но достаточно, чтобы он сложился пополам, кашляя кровью.
— Правила Маркиза Куинсберри, да? — он выпрямился через силу и запрыгал на месте, театрально выставив кулаки, как боксёр, но тут же споткнулся о мусор. — В кого ты такой огромный?
Саймон схватил его за руку, вывернул, швырнул обратно в кучу.
— Вы, грёбанные солдафоны, все одинаковые, ебучие роботы! — орал Кости, барахтаясь в пакетах. — Мне стыдно называть тебя своим сыном!
Саймон загасил его одним ударом — коротким, в скулу. А потом ещё удар, ещё, ещё и ещё.... пока ублюдок ржал во всё горло:
— АХАХАХАХАХ!
— Заткнись!
Удар, удар, удар до боли в костяшках.
— АХАХАХАХАХА!
Саймон швырнул его. Отец рухнул, распластался на мусоре. Чудо, что не подох.
— Бля.... Аххх! — выкрикнул он, весь в крови, но с каким-то больным торжеством.
— Вот это жиииизнь! Ахуеннооо!
— Заткнись! Закрой рот! — Саймон схватил его за грудки, рванул вверх, приблизил лицо к своему и прорычал, холодно, чётко: — Ещё раз увижу тебя рядом с ними — и мне плевать, что ты мой биологический отец. Я сломаю тебе шею, вырву кишки и засуну их тебе в глотку. Ты не сдохнешь быстро, Кости. Я позабочусь, чтобы ты почувствовал всё.
Он отшвырнул его обратно в мусор и пошёл прочь. За спиной отец заголосил, напевая хрипло и громко:
— Я хочу отрезать себе ноооос, деткаааа!
Саймон не обернулся.
_____________________________
* Siouxsie and the Banshees — британская рок-группа.
* Йорки — шоколадный батончик, позиционирующийся как "только мужской".
* Правила Маркиза Куинсберри — разработаны в 1865г маркизом Куинсберри в соавторстве с журналистом Джоном Чамберсом. Положения, ставшие основой правил по боксу.