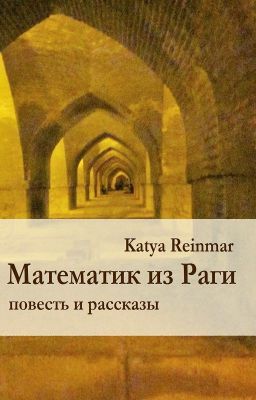Математик из Раги (повесть)
Всё началось так много лет назад, что волосы, которые были тогда у нас на головах, давно срезаны и унесены горячим ветром, ножницы — покрыты песком и ржавчиной, а стригшие нас — так стары, что едва ли вспомнят наши лица.
Мы родились в городе Рага. Там, где в шахматах самую могущественную из фигур называют не королевой, а визирем. В тех самых пропахших розовой водой краях, где на каждый грех приходится по двустишию. И где одни смеются от золотого шафрана, а другие горько плачут над питьём из синих цветов.
В доме, где мы росли, никогда не открывали окон. Обитатели его страшно боялись ветра. Окна всех комнат были закованы в решётки: так прятались от жёлтой пыли снаружи. Годы спустя, вырвавшись на свободу, на берегу Хазарского моря, с мокрыми волосами и кружащейся от кислорода головой, я буду спрашивать себя: как оставались мы живы? Как не потеряли памяти? Как, наконец, продолжали мы думать? Буду вспоминать тяжёлое небо и удушье, в котором погибал и никак не мог погибнуть целый дом.
В этом доме не было живых цветов, зато повсюду держали мёртвые. Cухие, замученные жаждой. Всё в нём было загромождено ягодами и грибами в стеклянных банках, давно потерявшими цвет и похожими на заспиртованные экспонаты в каком-то диком музее.
В погребе скапливались горы фруктов, но никто их не ел. Их корзинами отправляли в мусор. Даже не беднякам на улицах Раги, даже не оборванным детям с голодными глазами в пол-лица, а прямиком в мусор.
На чердак никто не заглядывал, должно быть, со времён мировой войны. Кажется, там истлевали вышедшие из моды вещи. А может быть, ржавели старые заграничные велосипеды: говорят, когда они только появились в Раге, многие, не разобравшись, приходили в ужас и объявляли их изобретением шайтана.
И лишь в нашем убежище мы могли на время спрятаться от всей этой тоски. Нам достался самый тесный угол - квадратная комнатка без единого окна. Только в ней мы были в безопасности.
А за дверью её начинался лабиринт стен, коридоров и лиц. Мужчины в самые странные часы суток пили кофе с мёдом (напиток злодеев!) и начинали кричать пронзительным, не соответствующим их облику фальцетом. Они были так стары, что уже нельзя было определить, какого цвета их глаза. Там мутнели все краски, там скисали все запахи. Там у нас начинал дрожать голос. Там ныли колени: они первыми распознавали беду.
И там было удушье. Оно иссасывало нас всякий раз, когда мы открывали дверь. При каждой вылазке в погреб — задержать дыхание, ступать на цыпочках, принести в наше осаждённое убежище столько сухариков и воды, сколько уместится в руках...
Удушье Раги ещё долго будет настигать нас везде, где ему вздумается. Однажды оно напомнит о себе, заставляя в слезах сжимать голову руками, в каком-то поезде. Оно глумливо помашет нам в жарко натопленной кофейне. В дребезжащем автобусе, плетущемся через пустыню... Приступы удушья будут преследовать нас годами.
Несколько тысяч томов — книги Гарамона, задыхавшиеся в трёх тесных шкафах. Полки с пластинками. Узкая кровать, которая оказалась бы мала даже сколько-либо упитанному ребёнку, но которой всегда было достаточно нам, весившим чуть более ста килограммов на двоих. Стол, на котором едва умещались пишущая машинка и пепельница. Гипсовая сова. Портреты чёрно-белых мужчин с бакенбардами - двенадцать вспышек магния. Были, впрочем, где-то в глубинах нашего убежища и явные курьёзы – такие, например, как дурновкусная книжонка Болан-Шенкера «Воспоминания о хорасанском плене» (чудовищное нагромождение эротики, клаустрофобии и весьма хаотичных познаний автора о Востоке). Чтиво это удивительным образом затесалось между увесистым томом с эпосом и монографией о рабстве в древнем мире, которую автор почему-то посвятил собственной жене.
Я часто вспоминаю монологи Гарамона. Сколько часов, сколько дней и недель, если сложить, он провёл за чтением своих блестящих лекций для меня одной! Впрочем, конечно, и для себя - для своего вечно голодного самолюбия и блуждающего ума.
Только после я поняла, как нуждался он в слушателе.
Эти уроки были слишком бесценны, слишком хороши. Иногда мне становилось откровенно скучно. Иногда слова переставали складываться у меня в голове во что-либо осмысленное, и я продолжала тупо сидеть со стаканом домашнего, дурного, запрещённого законами Раги бурого вина в руке и просто любовалась. Быстрыми движениями Гарамона, его худыми мускулистыми предплечьями, тихо падающим с кончика сигареты пеплом...
Когда случилась революция, алкоголь во всей стране в один день оказался вне закона. Опьянение было причислено к грехам, а грехи – официально приравнены к преступлениям. Нам так ни разу и не удастся насладиться вином без чувства опасности – дикой, с размытым лицом, то в форме стража революции, то в облике доносчика-соседа. Нависающей над нами, крадущейся со всех сторон...
В первые годы стражи иногда заходили прямо в дома. Тогда люди в панике выливали спиртное в раковины, даже не успевая о нём пожалеть: жизнь и свобода были дороже вина. Наш дом был в богатом районе, и у соседей напротив случались хмельные пирушки. Однажды, осенью 1983 года, стражи нагрянули и к нам. Мужчины дома в ту минуту с невиннейшим видом распивали свой тошнотворный кофе с мёдом и потому спаслись. Когда стражи поинтересовались нашей дверью, они, не моргнув глазом, отвечали, что там маленькие дети, слабые здоровьем двойняшки, которые уже давно спят в своих кроватках. Нам было шестнадцать и мы, полуодетые, задыхающиеся от ужаса, лежали, вцепившись друг в друга и обратившись в слух, на единственной кровати. Стражи поверили и удалились. Вероятно, они спешили в другие дома. А возможно, им было просто лень. Смутная благодарность за тот случай остановила мою злость на людей дома, росшую год от года и грозившую перерасти в ненависть. Я так никогда и не решилась призвать на их головы огненную геенну, ограничившись лишь сильной и нарочито холодной неприязнью.
Объятия в общественных местах были запрещены. Молодые пары боялись даже держаться за руки, даже идти по тротуару рядом: казалось, из каждой второй машины за пешеходами наблюдают стражи. Мы неохотно соблюдали эти запреты и старались вести себя так, как обыкновенно ведут себя родственники. Но как боялась я иногда, что один только взгляд, одно движение или что-то ещё более неуловимое, что-то, что возникает помимо человеческой воли и пахнет, как сказал бы поэт Хаммар, мускусом и амброй – это необъяснимое выдаст нас с головой, и на лицах у нас вдруг проступят письмена осуждения, письмена с неумолимым приговором!..
Гарамон был математиком. Он мог засидеться за работой до утра, и тогда я засыпала под звук его пальцев, стучавших по клавишам пишущей машинки. Он что-то яростно, самозабвенно выбивал (что-то, понятное лишь ему и двум-трём его заклятым врагам-математикам), а потом, дойдя до края листа, с грохотом сдвигал каретку и нетерпеливо принимался за следующую строку. Иногда он беззвучно трясся, словно дирижируя невидимым оркестром, и, прикрыв глаза, потрясал в воздухе карандашом. Обычно в такие ночи на нём была толстая клетчатая рубашка, не то чёрно-белая (так казалось мне), не то сине-белая (так уверял он сам).
Цвета мы с ним видели по-разному. Каждый был убеждён, что именно другой путает розовый с оранжевым, серый с коричневым, а голубой – с зелёным.
Звуки Гарамона – это всегда тихие стуки. Стук палочки жёлтого кристаллического сахара о стенки пивной кружки, из которой он пил стылый чай – чай учёного, увлёкшегося работой. Стук леденца за щекой. Стук карандаша. Стук шахматных фигурок одна о другую, их глухие шаги по доске. Фигурки эти постоянно терялись, и от первоначального набора у нас давно ничего не осталось. Пешки мы заменяли раковинами улиток: поднятыми с земли, лёгкими, хрупкими, часто с узором мелких дырочек. Самые старые из них, опустевшие годы назад, теряли цвет и становились белыми. Ими обычно играл Гарамон. Я же выбирала бурые. Выбирала из сострадания: ведь чёрные фигуры люди любят меньше.
Решая свои задачи, он считал цветными пятнами. Ноль был для него белым, единица – чёрной, а двойка, вероломная как женщина, постоянно меняла цвет. «Три» значило для него «красный», «четыре» значило «оранжевый». Пятёрка была связана с чем-то светло-голубым, шестёрка – с сиреневым. Числа семь и восемь были разными оттенками зелёного: светлым и тёмным соответственно. Девятка была жёлтой. А десятку, бледную и нечёткую, он описывал как нечто, отдалённо напоминающее серый цвет.
Для меня цифры не имели цвета, зато имели характер. Чётные были спокойными и безвредными, а вот нечётные виделись мне всегда сильными и опасными. Особенно пятёрка, семёрка и девятка. Они были самыми настоящими роковыми женщинами. Более всех - семёрка. Пятёрка была ещё слишком юна: загорелая нимфетка с кошачьими глазами, милая обманщица и сквернословка, приводящая в трепет соседку по парте. Девятка – слишком стара: этакая королева-отравительница с мраморными плечами и вишнёвыми губами. Семёрка же была совершенна: храбрая, непредсказуемая и прекрасная, героиня, всегда двадцатиоднолетняя...
Когда я подолгу смотрела на строки какого-нибудь уравнения, передо мной начинали разворачиваться почти человеческие истории. Разыгрывались драмы, проплывали герои, каждый со своим нравом - то в ладу, то не в ладу с другими. Словно что-то происходило между живыми, больше того – разумными существами. При этом я парадоксальным образом вообще не умела считать. Должно быть, шутила я горько, мой товарищ ещё в младенчестве забрал все мои способности себе, удвоив собственные. Должно быть, живи мы на Западе, врачи диагностировали бы у меня дискалькулию. Но в наших краях в те годы даже не знали таких слов. В наших краях было только слово «тупица».
Цифры оживали, и я засыпала. В моих снах голос Гарамона превращался в печальный звук, искажённый сотнями тысяч километров. Он тянулся с других планет, из холодного межзвёздного пространства, из смертельной дали. Из последних сил он пытался сказать что-то важное кому-то на Земле, не зная, услышат его или нет. Он надеялся только на умиравшие вместе с ним машины, чьи лампочки скоро навсегда погаснут, а микрофоны навсегда замолчат. С каждым слогом голос его менялся всё сильнее, становился ниже, медленнее, превращался в хрип — и наконец делался совсем неузнаваемым. Я просто знала, что это он - и мне хотелось плакать.
Потом картинка сменялась другой. Вдалеке — силуэт тёмного города: дома, трубы заводов, мрачные башни. Всё это — под ярко-синим небом с оранжевыми всполохами. А перед городом — пустота, пустыня, пустошь, растрескавшаяся серая земля. Безмолвная, безлюдная, опасная. Над ней только гудит ветер. И шипит ток в тонких проводах. И на самом краю этой голой земли, перед самыми моими глазами дрожит одинокая, измятая маленькая бумажка с тремя словами: «Я люблю тебя».
Проснувшись, я в слезах бросалась к Гарамону и прежде, чем он успевал что-либо понять, обнимала его, изо всех сил сжимала его кудрявую голову, покрывала по-детски ожесточёнными поцелуями его лоб, виски и шею, а потом начинала, захлёбываясь, рассказывать свой сон. Он повторял, что никто и ничто никогда нас не разлучит. Я хорошо помню эти три отрицания — наше заклинание, нашу молитву. Никто, ничто, никогда.
Удивительное дело: при всей замкнутости нашей жизни, он с лёгкостью разбирался в политике. Он говорил о ней с каким-то романтическим вдохновением, словно перед ним была не я, а кучка нестриженых, дымящих сигаретами приятелей-студентов. Он рассказывал о перевороте 1953 года, что перебил все стёкла Раги, так, будто наблюдал его собственными глазами. У него были любимые политики и политики ненавистные. Последних он награждал такими красочными прозвищами, что я не знала, куда деваться. Эти слова едва ли предназначались для женских ушей.
У нас часто случались землетрясения. Помню плавное движение люстры под потолком – эпицентр в двух сотнях километров от Раги. Резкое движение – эпицентр в сотне километров. Наконец, однажды ночью под нашим домом словно прошёл, прогрохотав гигантскими колёсами, поезд. Гарамон спал. Я сидела в кресле в шаге от него, пользуясь редкой минутой тишины, чтобы выплакаться. Перед глазами мелькал привычный желтовато-белый шум, похожий на телевизионные помехи: он сопровождал меня всю жизнь, днём и ночью, а в темноте становился особенно надоедливым. И вдруг я почувствовала, как пол перестаёт быть полом, а стены - стенами. Это было несомненное землетрясение, но я так давно разучилась верить самой себе, что приняла всё за галлюцинацию и не решилась его будить.
Разбудили его, четверть часа спустя, панические визги людей дома и топот соседей. В таких случаях мы обычно не присоединялись к дрожащей толпе на улице, а оставались в своём убежище. И повторяли: вот бы погибнуть так, обнявшись, и стать как те два скелета восьмого века, которые откопал археолог Кашанский!.. Люди, услышав о землетрясении, обыкновенно влезали в свои скрипучие машины и катили куда глаза глядят. Многие почему-то собирались на кладбищах. Видимо, там нечему было падать. По радио передавали молитву, какую следует читать при страхе смерти. А мы только смеялись. Нас пугала не всякая смерть, а лишь смерть порознь – но она была, как нам тогда казалось, невозможна.
Годами мы убеждали друг друга, что исчезнем вместе, в одну минуту. Что расплавимся, растворимся друг в друге, переплетёмся костями и жилами, волосами и нервами, прижмёмся друг к другу так крепко, что станем неразделимы, и от нас останется только один-единственный скелет...
Я воображала непременно какую-нибудь катастрофу. Воображала пожар древней Раги и несчастную пару, найденную Кашанским. Только их смерть привлекала меня, только их смерть казалась мне достойной. Я воображала, как сходит с рельсов синий поезд до Мирмирана, или как обрушивается под нами в пропасть мост Вереск – тот, по которому поезда идут высоко-высоко, от одной прозрачной скалы к другой. Воображала, как сталкиваются в самом сердце пустыни два ржавых автобуса: один из Кейхана, другой – в Кейхан. Как глохнет мотор у машины, везущей нас через многокилометровый туннель, прорубленный в горе (говорят, что в нём совсем нет кислорода и дышать можно только тем воздухом, что внутри машины – и что повторно завести заглохший там мотор невозможно)...
Пастухи звёзд в бесконечности ночи. Кажется, так говорил о бессонных какой-то мудрец. Переплетаясь пальцами, мы закрывали глаза и видели, как сидят на плоских крышах своих домов наши далёкие предки, древние мидяне. Как попивают они своё древнее пиво, как наблюдают за звёздами, что были тогда на тысячи лет моложе... Но из нашего убежища неба не было видно совсем.
Жизнь в Раге всегда представлялась мне чередой утомительных сражений. Гарамона – с его задачами и доказательствами. Наших чувств – с целым домом удушья, с ежедневной ложью его обитателей, со всей жестокостью тогдашнего времени.
Иногда с ним случались особенно страшные, нездоровые периоды какой-то лихорадочной работоспособности. Он мог не спать трое суток подряд, пятеро суток не выходить из дома и семеро суток бороться с несколькими задачами сразу, время от времени отрываясь от своей измученной пишущей машинки и набрасываясь на меня — с такой яростью, какой не видел ни один из его шахматных и математических соперников, и с такой исступлённой, неудержимой любовью, которой никто и никогда не смел в нём предполагать.
Люди дома говорили нам, будто мы брат и сестра. Я до сих пор не знаю, правда ли это. Они говорили, что мы жили в этом доме с младенчества. «Когда вы оказались здесь», - так упоминали они о нашем появлении, делая при этом надменные лица. Ни они, ни сами мы не знали даже точной даты нашего рождения. В документах у обоих было указано одно и то же: пятнадцатое число месяца эсфанд 1967 года. Это почему-то не казалось мне странным в детстве. Однако сейчас, вспоминая нашу жизнь в Раге, я почти уверена, что Гарамон был старше меня как минимум на два года. Дату же выбрали для нас из каких-то неясных соображений, теперь уже забытых. Гарамон, повзрослев, отнёсся к ней без восторга: он не любил нечётные числа, а кратные пяти – особенно.
Имена – Гарамон и Гармин – нам дали столь же странным и полностью случайным образом. В утро нашего появления в удушливом доме в переулке Сорур среди прочей корреспонденции якобы обнаружилась брошюра о парижском книгопечатнике шестнадцатого века по имени Клод Гарамон. Оказалась она там по ошибке: люди дома никогда ничего не читали. Недоразумение было устранено, брошюра отослана адресату, но диковинное имя на обложке, вероятно, понравилось и запомнилось – и ему тут же нашли применение. Что до моего имени, и вовсе несуществующего, то его, недолго думая, просто соорудили, прицепив окончание «ин», обычное в местных женских именах (Симин, Мехин, Парвин). Гарамону это монструозное образование, как ни странно, нравилось.
Такими, под стать именам, мы и стали: он – мало похожий на местного жителя, нездешний, словно из далёких стран. И я, его отражение. Его неполная рифма, его несовершенный близнец со светлыми глазами и слабо вьющимися, тонкими волосами цвета фиников (так у нас называли каштановый). Когда мы вырвемся из плена удушья и начнём наши странствия, нас будут часто спрашивать, принимая за иностранцев, на ломаном французском: «Откуда вы?». А мы будем в один голос и без малейшего акцента отвечать на родном: «Из Раги». И смеяться, видя изумлённые лица.
Нас поселили в одной комнате, а потом то ли забыли, то ли поленились, то ли почему-то просто не захотели разлучить. Даже когда нам исполнилось четырнадцать лет. Даже когда нам исполнилось шестнадцать. Даже когда исполнилось восемнадцать. Но нам не приходило в голову удивляться. Мы не думали о странности своего положения. Делить тесный угол без единого окна и не расставаться ни днём, ни ночью казалось нам естественным. Мы искренне недоумевали, когда слышали, как живут люди в других семьях. Чувствовать огуречный запах волос моего друга, слышать хруст его пальцев, угадывать его беззвучный смех по малейшему движению воздуха – всё это сделалось с годами важнейшей моей потребностью. Если его долго не было рядом, мне становилось страшно. Словно я лишалась одного глаза или уха.
По удивительной прихоти судьбы мы росли совершенно не похожими на людей дома. Трудно было вообразить разницу большую, чем была между нами и ими. Я часто дивилась, сравнивая гибкие пальцы Гарамона и короткие клешни варивших кофе мужчин. Глядя на заострённый нос Гарамона — и на крупные черты женщин в белых одеждах. На прямую спину Гарамона — и на бесформенные тела трёх наших сверстников, что были всегда до комичного неразлучны. На плечи Гарамона, в которых, казалось, была пружиной сжата бесконечная сила – и на сутулые силуэты скользивших по коридорам призраков...
Знали ли люди дома о нашей тайне? Догадывались ли о чём-нибудь? Как-то один из них вполголоса отпустил шутку в наш адрес – очень мужскую и настолько похабную, что я даже не до конца поняла её смысл. «И не нужно», - произнёс Гарамон сквозь зубы и быстро увёл меня в комнату. Он велел мне сидеть тихо и не выходить за дверь. А сам пошёл к обидчикам, распивавшим свой кофе с мёдом. Они долго ругались на каком-то мужском, полупонятном мне языке. А потом поднялся страшный шум...
Глубокой ночью несколько женщин, сдерживая глухие рыдания и поминая святых, собрали с пола осколки стекла и вынесли во двор, к мусорным бакам. Женщины нашей страны вообще имели привычку поминать святых и рыдать по любому поводу, словно не понимая, что тем самым превращают почитаемые ими имена в обыкновенную брань.
А нам хотелось просто остаться вдвоём - навсегда запертыми вместе узниками. Потерявшими счёт дням и ночам, неделям и месяцам, забывшими цвет солнечных лучей и способными согреться только друг подле друга. Добровольными узниками комнаты, которую можно было пересечь в два шага. Мы не раздумывая согласились бы провести так остаток жизни, не прося ничего - лишь бы нас заперли наедине друг с другом в нашей крепости, окружённой шумным и зловонным миром. Только бы нас оставили в покое.
*
С детства мы были зачарованы историей нашего земляка, поэта Хаммара.
Достоверных сведений о Хаммаре нет. Даже подлинное имя его неизвестно. Только память, только отрывочные упоминания и случайные проговорки. Только прозвище, только тени на песке да подрагивающие отражения в дурно протёртых стёклах. Был, однако, легендарный профессор Чартопартский. Он искал всё, что можно было найти, и записывал всё, что у него получалось, чтобы придумать Хаммара. Содрогаясь, писал он историю Хаммара, давая волю своим страшным догадкам и смущённому духу — и не выпуская из рук пиалы с крепчайшим тутовым вином.
Однажды, перебрав вина, он уронил свои записи в мутные воды реки Рудруд, в древности разбрасывавшей золото, а ныне несущей тяжёлые потоки глины. После того злополучного дня руки его навсегда опустились, и его больше не видели трезвым.
Он продолжал усердно размышлять о Хаммаре, но теперь эти думы приводили его в отчаяние. И, как сказал бы сам Хаммар, даже радость познания казалась ему безъязыким колокольчиком на шее верблюда тлена, бредущего через бесплодные пески забвения.
Десятый век. Или, по средневековому летоисчислению, третий. Рага цветёт. Богословие, науки, торговля, любые из дозволенных искусств — всё выходит отсюда и сюда же возвращается. Здесь около девятьсот одиннадцатого года и появится на свет Хаммар – тот, что сорок лет будет странствовать в поисках человека, чей голос слышал в молодости.
В те времена безумие не было ещё в таком почёте, в каком окажется позже; люди пера не признавали ещё ни опьянения, ни исступлённой поэзии. У Хаммара было только его сердце — один на один с миром.
Главным событием его жизни стала встреча с таинственным муэдзином - человеком, певшим на башне. В книгах в отношении него употребляется любопытное вымершее слово, имевшее одновременно значения «враг», «друг», «соперник» и «сотрапезник» (я буду часто обращаться так к Гарамону). Вскоре Нур («Свет») - так звал его (или только обозначал в своих стихах) Хаммар — бесследно исчезает. Потрясение, вызванное этим, пробуждает в Хаммаре неведомое прежде вдохновение. Следующие сорок лет он будет бродить по Востоку в надежде отыскать певца слухом и сердцем. Для этого он будет прислушиваться к звукам азана – призыва к молитве. Он пройдёт путь от земель, пахнущих розовой водой, до земель, пахнущих базиликом. Всё это время он будет писать - стихи, которых никто не поймёт. Он будет составлять исторический труд, он задастся грандиозной целью создать всеобъемлющий трактат в стихах... Свой поэтический дар он будет называть «дозволенным колдовством». А стихи решит подписывать именем Нура – чем немало озадачит исследователей будущего.
Говорят, в муэдзины старались брать людей с плохим зрением, чтобы с высоты минарета они не видели происходящего во дворах. Чтобы не разглядывали, например, разгуливающих с непокрытыми головами женщин. Или не увидели чего-нибудь ещё. Чего-нибудь, чего видеть не следовало.
Лето бессмертного 1985 года запомнилось мне чередой азанов. В тот год они звучали особенно странно и производили на меня почти гипнотическое впечатление. Я хорошо помню азан с птицами, азан со сверчками, азан с вечерним гулом города. С электрической музыкой, тихо лившейся с маленькой площади далеко внизу. С лаем собак. С шёпотом песка и ящерицами. С голосом ишака. С чьими-то случайными криками. С тёплым ветром, какой бывает около семи пополудни. Со стуком моего собственного сердца. С радиопомехами. С кузнечиками. С плеском воды. Со скрипом велосипеда.
Но больше всего мне нравилось тихое пение перед рассветом. Пройдут годы, а я так и не расцеплю у себя в памяти два слова, пишущиеся одинаково: «сэхр» и «сахар». Колдовство и раннее утро. Раннее утро и голос муэдзина.
Я часто представляла себе, как Хаммар – не звавшийся ещё в те годы Хаммаром, даже не предполагавший, что слово это станет для потомков его именем – девятнадцатилетний Хаммар, сонный и продрогший, прислушивается к звуку предрассветного азана.
Почему-то я воображала, что при рождении ему было дано имя Сухейль. Возможно, так оно и было, но это мало что значило. Почти никто и никогда не называл его по имени. Зато за ним тянулась целая вереница пёстрых прозвищ: сын гончара, сын джинна, учёный – вот только несколько из них, взятых наугад.
- И откуда ты такой вольнодумец взялся? – ворчали, должно быть, боязливые, тёмные люди Раги. – Шайтан, а не ребёнок!
Хаммар с ранних лет смеялся над мудрецами своего времени. Говорят, что он умел читать по лицам. Рассказывали ещё, что он писал свои едкие стихи особыми чернилами, запах которых опьяняет и порождает вдохновение. Чем больше двустиший он записывал, тем больше новых строк приходило ему на ум. Так он писал, чтобы писать.
И теперь, когда волосы наши развеяны ветром, когда давно ушли в землю синие цветы Раги, настала моя очередь последовать за Хаммаром.
*
Я часто размышляла о математике, глядя на Гарамона, пока он судорожно царапал какие-то дроби и уравнения на первых попавшихся клочках бумаги, сокрушаясь, должно быть, что рука его не может двигаться со скоростью мысли.
Почему математики совершают свои главные открытия в юности? Гарамон опубликовал первую статью в шестнадцать. А написал её в пятнадцать. Редактор журнала, как понял он потом, оказался полным идиотом и сократил (точнее, просто вырезал) последнюю часть: статья не умещалась в их нормы объёма. А ведь именно в ней, в этой последней части, и содержалась оригинальная идея Гарамона, его собственное решение. На первых страницах он лишь описывал задачу и критиковал решения предшественников. Увидев это (журнал уже вышел из печати и разошёлся по библиотекам, университетам и магазинам), он бушевал двое суток и ругался страшными выражениями, из которых «змеиный яд» было самым безобидным. А потом неделю не разговаривал. А ещё через неделю – обо всём забыл, увлёкшись каким-то доказательством.
Так почему же великие математики всегда так молоды? Потому ли, что им не нужно тратить время на опасные экспедиции и утомительные раскопки, не нужно преследовать какую-нибудь редкую рукопись по зарубежным библиотекам или разыскивать малоизвестный артефакт по хранилищам музеев мира, убивая предварительно полгода на переговоры с капризными хранителями? Потому ли, что нужно им лишь воображение, бумага и карандаш, а работать можно где и когда угодно: на прогулке, за едой, во сне? Или же просто потому, что так загадочно устроен человеческий разум? Что, если человек способен вытворять поистине дерзкие фокусы в этой самой умозрительной, самой сверхъестественной из наук лишь в первые два-три десятилетия после рождения, а потом мозг его неизбежно ослабевает, и внутреннее зрение теряет остроту? Развивается этакая близорукость – или дальнозоркость – ума...
Или вот ещё вопрос: почему математики сходят с ума? Потому, рассуждала я, что у них богатое воображение. Чтобы быть хорошим математиком, оно необходимо. Богатое, всегда напряжённое, работающее на полную мощность. И, конечно, гораздо более могучее, чем у иного романиста (математики похожи скорее на поэтов, но никак не на прозаиков). Ведь последний описывает то, что видел: в действительности ли, на картинах ли, в кино ли или под влиянием винных паров. Глаза красавицы, закат в Альгамбре. Чучело рогатого зайца, в конце концов. Математик же вынужден создавать картины силой собственного ума – и удерживать эти волшебные построения перед глазами каждый миг. Какое немыслимое усилие воли! В случае физиков, которыми я восхищаюсь ничуть не менее, ясен, по крайней мере, предмет изучения. Он есть в природе. Он был здесь задолго до нашего рождения. Луч солнечного света. Молния в грозовом небе. Катящиеся тела, тающие льды, шарики ртути из разбитого градусника... Математики же изобрели сам предмет своей работы. Ни дробей, ни квадратных корней, ни даже самих чисел попросту не существует. Они выстроили целый мир и защищают диссертации, не покидая его. Таинственный, неосязаемый, абстрактный мир! Да, думала я, глядя на Гарамона, математики – профессиональные фантазёры. А от развитой фантазии, должно быть, один шаг до безумия.
Была одна задача. Работу над ней, считавшейся неразрешимой и оттого не дававшей покоя его честолюбию, Гарамон называл своим magnum opus. Или просто М.О. Мне казалось, что это – человеческие инициалы, и что его загадочный антагонист силён, молод и антропоморфен. Я была поражена, узнав от него, что математика бывает старой и современной. Что теперь считают не так, как считали при Гауссе. «Что, и таблица умножения теперь другая?» - спросила я однажды. Он только рассмеялся. Он объяснял, что наши современники изобретают какие-то подходы, методы, способы (он сыпал названиями), некоторые из которых становятся более модными, чем другие. «Модными»! Это слово применительно к математике казалось невероятным.
Математика представлялась мне особым измерением. Одни в него вхожи, другие – нет. Унылые школьные уроки и нелепые задачки с неправдоподобными условиями нисколько не приблизят постороннего, не отмеченного даром, к его загадочным воротам. Для меня эти уроки так и остались бестолковой пыткой, когда тебе велят зачем-то читать с листа санскрит, или древнекитайский, или любой другой незнакомый язык. И даже зазубрив наконец диковинные символы, ты сможешь лишь спросить, обливаясь кровавыми слезами: к чему всё это? Что дальше? Я не вижу, что дальше!..
Из тех же, кому это измерение доступно, не все способны (а возможно, не все хотят) сохранять связь с обычной действительностью. Многие математики совсем покидают мир людей и зарабатывают репутацию сумасшедших. Однако Гарамону при всех его феноменальных способностях ничего не стоило крепко стоять на ногах. Должно быть, это говорило в нём его врождённое жизнелюбие. Или, как выражались тогда модники, отчаянно подражавшие всему французскому, его жовиальность. Да, ему легко удавалось смотреть вокруг ясными, храбрыми, никогда не замутнёнными глазами. Наверное, он слишком сильно любил мир. Зрением, слухом, осязанием...
Он любил многое. Оперу. Звук виолончели. Длинные фраки мужчин и короткие платья женщин – то, чего было больше не увидеть и не услышать после революции. Любил, как ребёнок, дешёвые сладкие вафли. Проголодавшись, мог съесть целый абрикосовый рулет. Любил фильмы чудаковатых режиссёров с трагичными судьбами и славянскими фамилиями (первое обычно проистекало из второго). Любил ночь. Любил, когда «на изогнутой клюшке небес появляется мяч луны» (кажется, кто-то из средневековых поэтов). Он любил хорошо одеваться и всегда носил подтяжки.
Он был левша. У него была четвёртая – самая редкая – группа крови. Помню, один богослов любил повторять, что кровь четвёртой группы будто бы была у самого пророка Исы. Он только пожимал плечами, словно спрашивая: «Ну и что?». Он смеялся на четырёх языках, и на каждом по-разному. Его тяжёлые тёмные волосы всегда ложились симметричными волнами, как бы беспечно и даже пренебрежительно ни относился он к своей причёске.
Он внимательно изучал статьи археологов и говорил даже, что некоторые надписи на скалах древнего Харангзара можно расшифровать математически. Его раздражали ориенталисты, неспособные держать в голове целиком ни эпос о древних царях наших земель, ни даже один-единственный диван одного-единственного поэта. Больше всего от него доставалось популярному, скандальному, но крайне посредственному писаке Болан-Шенкеру, путавшему Сасанидов с Саманидами, Рази с Марвази и даже – бог знает, почему – шаха Пехлеви с поэтом Дехлеви. А однажды, как злословили его недоброжелатели, и вовсе приехавшему вместо Бухары в Бухарест (впрочем, это уже слишком).
Память его была заполнена удивительными вещами. Текстами семичасовых опер. Немецкой прозой и французской поэзией (языки он учил сам, не доверяя учителям). Трактатами физиков, философствовавших о жизни, и философов, фантазировавших о физике. Целыми страницами из его любимых математиков. Целыми страницами из его неприятелей: он следил даже за теми, кого считал бездарностью – чтобы безжалостно критиковать. А ещё - всем, что я когда-либо говорила. Всем, что я делала и чего не сделала. Всем, что я надевала и что ела. Он был одержим наблюдениями за мной. И бесконечной, неугасимой, едва ли братской ревностью.
Долгие годы я не могла понять, что именно делало меня странным исключением в его мире: ведь людей Гарамон, как правило, не слишком жаловал и не особенно высоко ценил, предпочитая общество букв и цифр. Немногие исключения – те, кого он искренне уважал – либо имели какие-нибудь медали за доказательство каких-нибудь теорем, либо были давно мертвы, дагерротипны и чёрно-белы - и обитали на страницах энциклопедий.
У него не было ни единого друга, которого он любил бы просто так, не за ум и не за талант. Ни одного «просто хорошего парня», с которым можно было бы беспечно пить чай или безалкогольное пиво «Куруш», говорить о ерунде и позволять времени течь, не испытывая вины и не считая его потерянным. Немногочисленные приятели Гарамона – если к его знакомцам вообще могло быть применимо это слово – были все как один талантливы, начитаны, оригинальны и полезны для его размышлений. А ещё умели вовремя замолчать и оставить его в покое. Он обожал оригиналов. Он называл их словом «коллега». И терпеть не мог людей, отнимавших его время зря.
Мы никогда не пытались узнать правду о своих родителях. Воображали только, как нас, словно в сказке, оставляют в корзине где-нибудь в горах (леса близ Раги не было) молодые и грустные влюблённые... Возможно, боялись обнаружить, что мы действительно брат и сестра, как говорили нам люди дома. А возможно, именно в это мы и хотели верить – и оставаться вместе наперекор им, назло всему миру...
Любовь, верили мы тогда, была нашей молитвой, нашим заклинанием. Она казалась нам священным ритуалом, нашей жертвой друг другу, беспричинной, бескорыстной и бессмысленной, какой и бывает жертва настоящего фанатика.
*
В тот вечер, едва переступив порог нашего убежища, мы рухнули без сил и просто остались на полу, пытаясь заслонить дверь, дрожавшую под злыми взглядами из коридора. Мы ослабли так, что не могли сделать и пары шагов. Мы долго молча сидели среди осколков стекла и мятых салфеток, алых от крови Гарамона. В слезах, прижавшись друг к другу так крепко, как только могли. А потом оглядели комнату, в которой провели тысячи дней и ночей, и вдруг поняли, что смотрим на неё в последний раз. «Конец», - всхлипнула я. Гарамон кивнул.
Мы уйдём, думала я.
А может быть, читала из его головы – и не помню теперь, на каком языке.
И мы действительно ушли - в день и час, менее всего подходящие для того, чтобы просить чьей-либо помощи. Был вечер пятницы, солнце уже скрылось, и на улицах зажигались огни. В рюкзаке тихо обнимались мои куклы: кудрявый темноволосый Себастьян и веснушчатая Вивьен. Их нельзя было оставить в доме удушья. Я любила их и искренне считала живыми.
Мы выбрались на улицу – будто вынырнули из старого затхлого аквариума – и я в ту же минуту задрожала от радости. Я повернулась к Гарамону, всмотрелась в его лицо в свете фонаря и поняла, что готова никогда больше не вернуться в оставленный нами дом. Что мне достаточно рюкзака за плечами и одной пары сандалий. И что единственное сокровище, которое у меня когда-либо было и будет, стоит прямо сейчас передо мной и смотрит в темноту своими янтарными глазами.
Люди дома продолжали что-то кричать нам вслед. Они не могли поверить, что хрупкий с виду Гарамон только что голыми руками выломал повешенный ими на двери замок. Не могли поверить, что мы действительно сможем уйти. Что оставляем тысячи томов книг и сотни любовно собранных пластинок. Что конец может быть таким неожиданным. Они не могли поверить, что мы решимся сказать «навсегда» в один день.
Однажды мы окажемся в каком-нибудь свободном голубоглазом городе, думала я. Будем сидеть на солнечной площади у журчащих фонтанов и есть лимонное мороженое. Гарамон встанет, чтобы принести два высоких стакана с лимонадом, а я буду любоваться его походкой. Он оставит меня одну на целых две минуты! Потому что там не будет опасности, а будут только солнечные зайчики, прозрачная вода и тепло. И музыка — вся та музыка, что была под запретом в Раге.
В кармане у меня будут наши «счастливые улитки». Пустые панцири, которые мы поднимали с земли и которыми потом обменивались в самые опасные минуты, когда всё висело на волоске – так мы без слов высказывали друг другу самое важное. Он отойдёт так далеко, что я, как это часто случается с близорукими людьми, узнаю его не по лицу, а по походке. И если на меня посмотрит красивая незнакомка с непокрытой головой и без спутника (или сразу с двумя), я улыбнусь. И, может быть, даже заговорю с ней...
А поздними вечерами мы будем гулять по притихшим улицам. Над головами у нас поплывут жёлтые окна, и я стану украдкой смотреть на счастливых людей за ними. И тёплый ветер будет виться вокруг моих голых ног, впервые за много лет покрывшихся загаром. И страшно уже не будет. Нам больше никогда не будет страшно.
В Раге мы редко ходили по ночным улицам. А если и ходили, то всегда очень осторожно, стараясь не задерживаться нигде подолгу. Нас всюду поджидала опасность. Мне всегда было не по себе. Каждую минуту я была начеку. Даже в своей длинной чадре (после революции эта одежда стала для женщин обязательной), даже рядом с Гарамоном...
В те дни время ещё, по присущей ему привычке, шло вперёд. Время скакало, неслось, грозило убежать — так мы были молоды. В те дни я с трепетом думала о старости. Это теперь я знаю, что Гарамону всегда будет двадцать четыре (его любимое, кратное шести число). А тогда я искренне боялась, что он, как это обыкновенно делают люди, состарится и однажды исчезнет.
Я подняла голову — высоко на ветках раскачивались оранжевые плоды хурмы. И поняла: пора вспоминать, как велик этот мир.
На календаре был 1985 год. Тогда мы в последний раз видели наш страшный дом.
*
Покинув дом, мы отправились в одну из городских кофеен.
Кофейни эти были не просто кофейнями. В них устраивали представления, читали стихи и распевали, отчаянно жестикулируя, эпос о царях и героях.
Мы любили эти места: там нам не бывало страшно. Там были посетители и была жизнь. Если сюда прямо сейчас нагрянут стражи революции, думала я иногда, будет, конечно, скверно. Но здесь не будет того невыносимого страха, какой охватывает ночами, тёмными тоскливыми часами в холоде пустого дома, когда человек дрожит так, что не может уснуть: а вдруг вот теперь, именно теперь раздастся стук в дверь? Грубый, безобразно громкий, неправильный, вечно не в такт с тишиной...
Прийти до предрассветной молитвы и начать ломиться в дверь в Раге могли к кому угодно. Даже богатство не гарантировало безопасности. Скорее наоборот - после революции оно вызывало ещё больше подозрений.
И хотя жандармы были обыкновенными людьми, народ боялся их как боятся нечисти: до липкой крови, до обморока, до паралича. Родители наставляли детей: не говори о них, даже не думай о них – придут! Почуют твои мысли – и явятся в ночи. Вокруг их главного здания на улице Амнийе, верили горожане, даже воздух другой: он наполнен дыханием шайтана. И птицы, подлетая к нему, замертво падают на землю. А стоит поглядеть любому из них в глаза – и ты окаменеешь.
Когда они приходили в дома, люди так легко шли с ними! Вверяли им, уже обречённые, свои жизни... То ли принимали всё за недоразумение и стремились поскорее с ним покончить, то ли просто подпадали под странный гипноз их голосов, их форменной одежды, их званий и казённых слов...
Да, размышляла я, пока мы грелись у огня, если в эту самую минуту на пороге кофейни покажутся жандармы, все эти мужчины станут драться, они поднимут шум, они не сдадутся! А если и сдадутся, то случится это на виду у других. Они успеют увидеть сочувствие в глазах хозяина, успеют заметить поддержку на лицах незнакомцев... Они будут знать: у их ужаса есть свидетель. А значит, их история не исчезнет в безвестности. Это будет успокаивать.
Толку от всего этого будет мало, но будет всё-таки легче.
Страх, думалось мне - главное проклятие человека. В страхе – корень всякого зла, исток всего дурного. Именно страх низвёл когда-то свободных и всесильных богов до состояния жалких, беззащитных людей.
Если бы в Раге оставался хотя бы один человек, полностью лишённый страха!
Но таких в наших краях не было уже давно.
Мне хотелось петь гимны бесстрашию и проклинать страх. Ведь только тогда и бываем мы самими собой, когда мы бесстрашны.
Среди душевных недугов самые унизительные для человеческого достоинства, самые разрушительные для человеческой гордости – те, что сопровождаются страхом. Те, что заставляют несчастного совершать цепочки бессмысленных и утомительных действий, чтобы отвратить беду. И если чёрная меланхолия ещё может прикинуться величественной дамой, спутницей мыслителей; и если иная мания и принимает порой вид прекрасной фурии с разметавшимися волосами, то болезни страха всегда некрасивы. Они похожи на тщедушных доносчиков, на вертлявых лжецов с водянистыми глазами, на бессильных завистников, на обманщиков; они – главные, настоящие враги человека. Они безобразны, низки и подлы.
Чем сильнее я боялась, тем больше ненавидела свой страх. Он был похож на странную внутреннюю тошноту, словно это тошнило и всё никак не могло стошнить моё сердце. Я смутно надеялась на какую-нибудь жуткую кульминацию, прививку, случай, после которого страшно уже не будет – и в то же время боялась этого. И продолжала вздрагивать от любого стука.
Я предпочла бы увидеть древнюю нечисть, привидение, рогатого человека с каменными руками и даже самого Ахримана, чем услышать тяжёлый стук, чем почувствовать грубый человеческий окрик. В какой бы ужас ни приводили человека призраки, понимала я, они всё же не утащат его в тюрьму, не станут истязать, не отправят к стене или на виселицу. Если бы мне дано было выбирать, я предпочла бы бесстрашие чему угодно. Я предпочла бы бесстрашие красоте, богатству, молодости и, боюсь, даже таланту. Ловя себя на таких мыслях, я приходила в ужас и молилась, сама не понимая кому, чтобы их не прочитали джинны - или вездесущие жандармы. В состоянии паники я уже не отличала одних от других.
Суеверие, просыпавшееся во мне в минуты особенно сильного страха, раздражало Гарамона, и я боялась лишиться его уважения. Многие в нашей стране были суеверны. Чем меньше понимали они в устройстве мира, тем легче его боялись. Особенно женщины. Суеверие было женским уделом. И средоточием всего того, что Гарамон в женском поле не переносил.
Помню его тихий голос: «Не бойся!». От этих слов, как и от слов «Не грусти!», мне делалось только хуже. Чем добрее он был со мной, чем он был сильнее, чем искреннее пытался меня защищать, тем страшнее и тоскливее мне становилось. Мне казалось: чем крепче он будет меня любить, тем страшнее окажется наша участь, тем ближе будет какая-то ужасная трагедия, тем больше мы оба выплачем слёз. И за эту самую будущую трагедию я любила его ещё сильнее и плакала ещё горше, словно полубезумная духовидица, разглядевшая венец мученика над головой ни о чём ещё не подозревающего юного святого.
От этих мыслей у меня пропадал аппетит. В Раге я никогда не ела много. И каждый раз Гарамон, совсем как заботливый взрослый, выручающий ребёнка, помогал мне покончить с едой, которую я не могла заставить себя съесть. Например, меня пугали бледные горошины, похожие на распухших утопленников. Или дымящиеся, фиолетовые шары свёклы (наша пословица гласит, что в отсутствии мяса свёкла – полководец). И в этом, в самих его движениях, в том, как он добровольно и даже весело брал мои мучения на себя, мне чудилось что-то храброе и самоотверженное. Мне хотелось плакать от того, как прекрасен он был. А ещё я чувствовала вину перед людьми, воевавшими на границе. Они наверняка голодали.
Скорее нюхая, чем попивая свой густой кофе, я размышляла о мире за Хазарским морем. Мире рек и запретной музыки, о котором мы так много читали и о котором так мечтали. И всякий раз повторяла себе: на свете есть места, где уже век, а то и два не существует смертной казни. Как живут эти люди, как они мыслят? Как устроен их прекрасный, но такой непонятный мир?
Что сказали бы они, узнав, что мы вынуждены будем называться на людях то женихом и невестой, то мужем и женой, то братом и сестрой (когда родными, когда двоюродными: во всяком новом месте проницательный Гарамон мгновенно понимал, как следует поступить) и каждую минуту помнить, что даже любовь здесь – преступление?
«Где ваши документы о браке?» - «Остались дома, в Раге» - «В таком случае мы не можем поселить вас в одном номере» - «Да посмотрите на её кольцо!» - «Платите за два номера и сверх того - за молчание. Или уходите, пока мы не вызвали стражей!»
*
В первой же кофейне на нашем пути мы увидели Хаммара. Кофейня называлась «Хумаюн», и над ней тихо помигивало созвездие Скорпиона. Хаммар сидел среди людей, в самой их гуще, но вид имел отстранённый. Впрочем, ему это было к лицу. Даже странно было, что прошло столько времени. Десять веков. Тысяча лет.
Мы сразу его узнали, хоть выглядел он и не так, как на картинках. На картинках он всегда старик в белой чалме, этакий мудрец с длинной седой бородой. Этот Хаммар был моложе.
С детства у меня была одна странность: я никогда не могла определить возраст человека по его лицу. И никогда не понимала, как делают это другие. Я запросто могла промахнуться лет на двадцать. Долгие годы я злилась не себя за невнимательность, за отсутствие той простейшей наблюдательности и проницательности, которая есть, кажется, у всех... Пока наконец не поняла, что вижу только, как выглядит человеческая душа.
Душе Хаммара было никак не больше сорока. Он, как бы предсказуемо это ни прозвучало, пил из круглой синей пиалы. Время от времени по его лицу словно пробегало что-то: тяжёлая мысль, внезапное сомнение. А может быть, просто крутилась в голове и никак не могла принять нужную форму стихотворная строка. Возможно, он думал о красавице (стан-кипарис, локон-аркан, непременная родинка). Возможно, об уравнении с тремя неизвестными. А возможно, о том, как перекроить календарь, заменив в нём луну солнцем.
Будь я хотя бы вполовину так умна, как Гарамон, пиши я теперь вместо этих сумбурных записок диссертацию (скажем, по средневековой поэзии), я назвала бы её: «Тема замкнутого пространства у Хаммара». В одной из его газелей есть интересный образ. Он рассказывает, что рай со всех сторон окружён адом. Что за каждой из райских дверей клокочет, раскинувшись на фарсанги, ад. Если хочешь выглянуть за пределы рая, продолжает он, если хочешь увидеть мир и насладиться им – приготовься, о любопытный, сначала пересечь ад.
Хаммар пишет о своём мрачном видении только в одном месте – и более нигде к нему не возвращается. Поговаривают даже, что эти строки написал не сам Хаммар: у него было много подражателей. А кто-то и вовсе уверяет, что в них было нечто совсем другое: просто невнимательный переписчик поставил точки не над теми буквами... И всё же для меня эти несколько строк станут едва ли не главными во всём Хаммаровом диване. Осаждённый рай сольётся в моей голове с образом нашей тесной комнаты в Раге. С нашим убежищем, окружённым затхлыми запахами и криками чужих людей. Чтобы просто выйти на улицы города (переулок Сорур, улица Мехр, проспект Валиахд – так у нас принято было называть свой адрес), нам каждый раз приходилось пробираться через ад, через комнаты удушливого дома, которые, казалось, больше почернели от революции, чем сами улицы. И эхо войны слышалось в них почему-то лучше, чем снаружи.
После войны половина улиц Раги будет переименована в честь погибших. Их назовут мучениками, совсем как святых, принимавших смерть за веру. А их многометровые портреты появятся на зданиях, на сотнях глухих стен по всему городу...
Много веков назад, задолго до самого Хаммара, люди нашей страны не знали наших тесных саванов и могил. Они не опускали несчастных в тёмную землю, под горы тяжёлых её комьев, под вечный камень – во мрак, в удушье, страшное в своей окончательности и безысходности, в непроходимую глубину, в толщи черноты, в клаустрофобический ужас. Они почитали землю и не решались осквернить её присутствием мертвеца. Не смели они осквернять и розового огня: его они ценили больше всего в природе. Мёртвых относили в особые башни, так называемые башни молчания (обычно их воздвигали где-нибудь в пустыне, подальше от городских ворот). И тогда за дело принимались ветер, хищные птицы и время.
Когда от покойного оставался один скелет – чистые, белые кости – их осторожно собирали (кости уже не считались, в отличие от плоти, грязными) и складывали в специальный сосуд-костехранилище, или оссуарий. Сосуды эти бывали очень красивы. Их можно увидеть в музеях Раги и Сорхабада, а ещё на рисунках в книгах профессора Чартопартского...
В это трудно поверить, но я никак не могу вспомнить, где мы провели первую ночь после нашего побега. Первая ночь вне дома удушья, первая ночь в тихом доме, где никто не пил кофе с мёдом и не шипел проклятия перед нашей дверью... Где был этот дом? Кому он принадлежал, чьими гостями мы были?
Я не помню. Должно быть, мы гостили у самого Хаммара – бесплотного, призрачного, тысячелетнего, деликатно скрывавшегося на протяжении всей ночи.
Помню только, что заснуть нам удалось только перед рассветом. И почти сразу нас разбудил голос.
Это был пропавший голос, голос, жестоко и бестолково украденный на войне. Вернее, то, что от него осталось.
Сначала мы не могли понять даже, человеческий ли он. В нём звучала такая жуткая боль, словно это плакало и рычало животное. Принадлежал ли этот голос мужчине или женщине? Молодым он был или старым? Поначалу ничего было не разобрать. Да и был ли это человек вообще? Может быть, думала я, это призрак? Потом голос стал как будто женским. Вот сейчас, в следующее мгновение она появится возле нашего окна, начнёт стучаться в стекло, вырастет из-под земли, посмотрит на нас... Что случится тогда? Станет ли нам страшно? Онемеем ли мы, лишимся ли чувств?
А что, если страшно станет ей? Что, если она страдает, думала я? А люди, видя её, ничего не понимают и бегут прочь...
Мы привыкли бояться призраков, но ведь им, возможно, гораздо хуже, чем нам.
До чего же мы боимся беспомощных и беззащитных! Они страшны одними своими глазами, в которых всегда упрёк, даже если они никого не осуждают. Они кажутся выше и прекраснее нас, они кажутся почти святыми — просто оттого, что перенесли муки. Они как будто бы одной ногой по ту сторону. Их глаза уже как будто начинают различать отблески другого мира, их лица уже начинают превращаться в лица статуй...
Эта женщина (она жила этажом выше) пережила войну — ту самую, что бушевала тогда на границе. Война будет длиться восемь лет, не приведёт ни к чьей победе, зато породит тысячи мучеников и героев. Она была медсестрой. Там, где сливаются Тигр и Евфрат, распылили химическое оружие, и ей обожгло лёгкие.
Счастливы те, для кого названия этих рек – лишь пятна со страниц учебника древней истории...
С тех пор она кашляла постоянно — каждое утро, каждый день, каждый вечер и каждую ночь. Пятый год подряд. И пять раз в день, в перерывах между приступами кашля, она молилась.
Мы так и не увидели её лица. Говорили, что она никогда не выходит из своей комнаты, пыльной, как коробка старого печенья - и как сама Рага. Мы не узнали даже её имени.
Одевшись, мы выпили чая с шафрановым сахаром (на большее не было аппетита), громко поблагодарили невидимого Хаммара, оставили на всякий случай записку с импровизированным четверостишием и отправились на автобусную станцию, с которой отходили дребезжащие, занесённые песком автобусы до Кейхана.
*
В автобусе до Кейхана я чёрным карандашом для бровей (хорошо помню эту странную подробность) рисовала на карте наш будущий маршрут. Местные женщины отчаянно чернили брови, но Гарамон, стоило мне об этом заикнуться, недовольно кривился, словно откусив незрелой айвы. Поэтому со временем я совсем перестала пользоваться таким карандашом и превратила его в свой калам.
Мы единодушно определили цель нашего путешествия: Хазарское море. Почему-то нам казалось: стоит достигнуть его берегов, как мы сразу окажемся свободны и неуязвимы, станем недосягаемы для людей и джиннов, будем в вечной безопасности...
О самом маршруте к морю наши мнения разошлись. Я хотела быть там как можно скорее, не теряя времени. Гарамон предлагал рискнуть и сделать пару живописных петель по стране. Ему хотелось показать мне Кейхан и Сорхабад, Мирмиран и Шамс, и ещё что-то в Хумаюне. Он великолепно знал эти места по книгам – так, словно не раз бывал там сам – и обещал, что поездка меня не разочарует. И я, как околдованная, согласилась. Иногда я просто не могла ему отказать. В то утро он был особенно хорош. От него ещё исходило золотистое сияние, которое впервые открылось мне несколько дней назад, в тот страшный час, когда мы покидали дом. Поэтому нашим первым автобусом стала «машина Машади Мамедали» (так говорили тогда про любую старую развалюху), направлявшаяся в глубь пустыни.
Путь из Раги до Кейхана занимал в те годы почти пять часов. К нашему удивлению, нам дали воду, печенье и апельсиновый сок. Печенье моментально рассыпалось на крошки, и мой спутник царственно ругался. Воду он великодушно отдал мне.
Тогда не существовало ещё удобных наушников для музыки, какие появятся позже, поэтому в автобусах приходилось слушать то, что ставил водитель. В лучшем случае это была традиционная музыка, в худшем – глупые популярные песни, до тошноты похожие одна на другую. К счастью, в тот день водитель то ли забыл, то ли не захотел ничего включать, и путь наш сопровождал лишь шорох песка и асфальта, скрип железа и тяжёлый ветер пустыни.
Мы можем только догадываться, как звучала музыка во времена Хаммара. Бродяги нынешней Раги, извлекающие из своих растрескавшихся дутаров несколько унылых мотивов в надежде на горсть пыльных монет или мятую бумажку хоть и уверяют, что песни их «древние» и «исконные», в действительности имеют не больше представления о подлинной традиционной музыке, чем профессор Чартопартский имел о войнах с греками.
Когда мне становится тяжело, я ищу утешения в старых песнях. Но любила я их не всегда. Помню, один из мужчин в Раге, один из обитателей дома удушья, любил порой запеть – фальшиво, монотонно и нарочито не к месту. И высокий голос его был жуток. Он как будто изображал несчастного, голодного мальчика-бедняка, горемычного сироту, будто считал себя одним из таких детей – и в то же время будто насмехался над ними и их песнями. Чего ждал он в ответ – сострадания или смеха? Не знаю. Остальные в доме его песен словно не слышали. А он этого словно не замечал.
Несколько недурных страниц посвящено нашей музыке в романе Болан-Шенкера «Луна четырнадцатой ночи» (провальном в остальных отношениях). Помню, там был нищий, каждый день ходивший петь в разрушенную христианскую церковь в надежде, что однажды его пение спасёт чью-то жизнь. Ещё там был некий Хариф-медник, ходивший за Хазарское море и убежавший от трёх смертей. Лучшим писцам и художникам Раги он подарил по мешку золотых динаров за то, что те сорок дней и ночей записывали его истории. А он мерил даль в полётах стрелы и пел про двуязыких полукровок с тёмными лицами и длинными суровыми глазами.
Была там и весёлая возлюбленная Ахтар-Шемара (буквально «считающего звёзды», то есть бессонного) – плута, вымышленного от начала до конца персонажа, современника Хаммара. Смеющаяся, вечно опьянённая, с покачивающимся как кипарис станом, с выпачканными вином белыми зубами... И, наконец, там была босая полуграмотная девочка, одна из безумных святых, одна из тех редких святых, которые были чисты с самого начала. Ведь гораздо чаще святыми делались бывшие грешники и сквернословы. Многие из святых даже не узнали о том, что святы: это было решено спустя годы после их смерти. Узнай они об этом, они, возможно, искренне удивились бы...
Гарамон с закрытыми глазами слушал воображаемую музыку у себя в голове: этим искусством он владел в совершенстве. Он любил европейскую музыку. Симфонии, которых я совершенно не понимала и которые после революции стремительно исчезали с радиостанций и из магазинов. Я посмотрела на циферблат в кабине водителя. Предстояло вытерпеть ещё три часа. А потом – встретить неизвестность.
В руках у человека перед нами дрожала газета. На первой полосе – статный президент соседней страны с его пророческим именем мученика (через двадцать лет он действительно им станет). Газета призывала защищать страну предков и напоминала, что из благословенной крови наших солдат прорастут волшебные алые цветы, совсем как из крови прекрасного героя Сиявуша.
Я вздохнула и, кажется, что-то сказала Гарамону. Он не услышал. Я не стала повторять. Сиявуш был персонажем нашего эпоса, и о нём часто рассказывали чтецы в кофейнях. Образ его, как писал профессор Чартопартский, уходил своими корнями в головокружительную древность, к каким-то безымянным божествам умирающей и воскресающей природы.
Я задумалась. Размышлять о невинном Сиявуше, которого безнадёжно вожделела его ещё молодая мачеха, было приятнее, чем о войне.
Потом мысли унесли меня почему-то в школьные годы. Странно было об этом вспоминать, но ведь когда-то мы оба ходили в школу.
В нашей стране были школы для мальчиков и школы для девочек. В детских садах и университетах все занимались вместе, а вот на время школы – расставались. Ни у меня, ни у Гарамона почти не было друзей. Сначала, впрочем, Гарамон дружил с одним чудаковатым типом. Этот Ш. был таким же «юным дарованием» как он сам, но только, как говорили люди вокруг, «немного диким». (Сам Гарамон прекрасно держался на людях и даже мог при необходимости разыграть настоящего светского льва и мастера беседы – а потом, дома, долго отплёвывался и грубо шутил.) Вскоре Ш. натуральным образом сошёл с ума. Поговаривали, что он помешался на каких-то числовых последовательностях или ещё на чём-то математическом. Он совсем перестал появляться в школе. Не знаю, что с ним стало. Гарамон обладал способностью, всегда меня изумлявшей, внезапно терять интерес к людям и потом месяцами, если не годами, не говорить о них.
У меня были две подруги, и мы всюду ходили втроём. Но чем взрослее мы становились, тем более неловко чувствовала я себя в девичьей компании. Подруги мои, Сепиде и Нилуфар, начинали мечтать о юношах и говорить глупые вещи, какие порождает обычно сочетание любопытства, нетерпения и чудовищного невежества, удивляясь, почему разговоры эти не воодушевляют меня так же, как их. Оставалось молчать и отшучиваться, и это становилось всё тяжелее и неприятнее. Поэтому со временем я совсем отдалилась от других девушек. Кажется, они сплетничали потом, будто я решила остаться старой девой. Такая сплетня меня вполне устраивала.
Впоследствии, вспоминая Рагу, я думала лишь о нашем убежище в глубинах дома удушья. В этих воспоминаниях мы, словно вечные узники, никогда не покидаем его стен. Отрывочные картины школы кажутся мне теперь не более чем недоразумением. Помню только, как Гарамон встречал меня после занятий: к концу дня я обычно была в слезах.
Гарамон всегда помогал мне с учёбой. Точнее, просто выполнял задания за меня. Зачем он это делал? Почему не объяснял, как их решать, почему не заставлял понять правила? Хотел ли он таким способом самоутвердиться? Нравилось ли ему ощущать себя умнее? Возможно. Но в первую очередь - он просто обожал сами задачки. Увидев задачу, он не мог остановиться. Он обожал сокращать огромное уравнение до короткой изящной строчки или, с шумом отбросив карандаш и повернувшись ко мне в своём крутящемся кресле, торжествующе заключать: «Что и требовалось доказать!»...
В Нухе автобус сделал остановку. Мы вылезли наружу и с опаской вдохнули горячий воздух. Мой мудрый проводник заключил, что в Кейхане будет очень жарко. Я вздохнула. Потом, до самого отправления автобуса, мы смотрели на огромную пустыню и тихо рассказывали друг другу истории.
Гарамон вспоминал об ивовом соке, в который торговцы бросают по сухому розовому бутону. О синих цветах Раги, похожих на васильки, которые заваривают вместо чая люди с изодранными в клочья нервами — таких в городе большинство. О седом старике-певце с туманными глазами, направленными в разные стороны. Об одиноком человеке, бродившем по гигантскому музею и рассказывавшем в каждом зале историю — самому себе и о самом себе. О том, как в результате ошибки наборщика керамика стала поэзией, а поэзия — керамикой.
Он помнил о музыканте, чья музыка безошибочно повторяла рисунок созвездия Змееносца, но этого три века никто не замечал. Он помнил о суровых бедняках с голубой кровью и о королях с мозолями на пальцах. О меланхоличном наследнике престола, чей отчаявшийся взгляд случайно упал на жёлто-бирюзовый хохолок птички в левом верхнем углу миниатюры — и ему снова захотелось жить...
Потом я часто спрашивала себя: почему люди, сросшиеся душами, разговаривают о таких вещах часами и нисколько друг от друга не устают?
И отвечала себе: потому что всё, о чём они говорят, и есть они.
Потому что мир, о котором они говорят, принадлежит им.
Пока мы говорили (не придавая ничему особенного значения, не стараясь поразить друг друга знанием или остроумием – просто лениво отпивая по очереди из одной бутылки с водой), руины древнего мира были нами. Мы могли, мы имели право говорить о них. Кто, как не мы? Лица с эллинских монет были нами. Лица с потрёпанных шахских банкнот тоже были нами. Луноликие красавицы и принцы-кипарисы, юноши-поэты и неопределённого пола виночерпии — все они тоже были нами.
Водитель, успевший знатно подкрепиться кебабом, позвал нас обратно. Гарамон никогда не ел пищу, приготовленную на убогих заправках посреди пустыни, и изо всех сил отговаривал от этого меня. Я дулась, называла его «Ваше Высочество», делала гримасы, но подчинялась. Пассажиры медленно побрели к автобусу. Мы забрались в свои кресла и тотчас уснули.
А над пустыней – и это стало моим последним впечатлением – медленно поднялось красное светило.
В детстве такие дни – когда луна на Рагой становилась красной - мы обыкновенно проводили во внутреннем дворике удушливого дома. Почему-то другие его обитатели там не появлялись, словно страхи их распространялись не только на ветер, но и на красную луну. Там росли хилые абрикосовые деревья и мята. Там я могла не носить чадры. Там весело шуршали насекомые, пели невидимые лягушки и беспорядочно вился колючий куст (мы вечно спорили, как называются его ягоды: ботанический словарь моего товарища был довольно странен). Оттуда было видно звёзды, бледные от ядовитых огней города. Мы любили уйти туда, вооружившись фонариком, телескопом, чайником чая из синих цветов и шахматной доской. Там лицо Гарамона казалось зеленовато-голубым от звёзд, и я, спрятав фонарик, подолгу всматривалась в него.
И это там притяжение, исходившее от него, однажды стало невыносимым, и он впервые вдохнул в мои губы самого себя. Мы только что окончили шахматную игру: лёгкую для блестящего Гарамона и сокрушительную для меня. Он объяснил, что задумывал всё именно так, ещё делая первый ход. И что высшее мастерство – нанести поражение пешкой, великодушно пощадив визиря. Визиря он на европейский манер называл королевой.
Помню, как перемешались тогда фигуры на доске. Помню ещё, что телескоп остался стоять с нелепо вывернутой шеей, разглядывая вместо звёзд дерево morus serrata с его тёмными, сочными, полнокровными плодами.
Это было семнадцатого числа – в день рождения поэта Хаммара. Семнадцатого числа того летнего месяца, когда ночи коротки, а предметы не отбрасывают теней. После Гарамон всегда будет радоваться этой дате и повторять, что семнадцать – простое число. А я буду только пожимать плечами и тихо улыбаться его причудам. Математики почему-то обожают простые числа.
*
Очередной приступ лихорадочной работоспособности застал моего непредсказуемого спутника в Лалемарге – пыльном городке, постепенно исчезавшем с тогдашних карт. Мы остановились на несколько дней в небольшой гостинице. Подозрительный хозяин поначалу не хотел селить нас к себе, и Гарамону пришлось приложить немало усилий, чтобы его убедить.
Математическая задача, над которой он бился, представлялась мне порой гигантским белым китом, наваждением беспокойного одноногого капитана. А в другой раз мне казалось, что он обожал свою задачу и в то же время мстил ей. Совсем как мужчина, предающийся мрачным фантазиям о раздражающе красивой и гордой женщине. Размышляя о ней, он забывал о времени. Мог неподвижно пролежать на диване восемь часов подряд. При этом лицо его меняло выражение поминутно, словно по нему, обгоняя друг друга, проносились удивлявшие его самого мысли.
Гарамон никогда не тренировался и вообще недолюбливал спорт, считая его чем-то неизмеримо более примитивным и ограниченным, чем наука или искусство. Тем более удивительным казалось то, что он без труда оставался не только стройным, но и очень сильным. Мускулы его всегда были в тонусе, словно он только что вышел после упражнений в «доме силы» (в наших краях всё ещё были популярны эти средневековые предшественники спортзалов). Под кожей у него не скапливалось ни капли жира, хоть мы и питались обычной местной пищей: большие порции риса (его обычно чуть подкрашивали ярко-жёлтым шафраном), печёные помидоры, щедрые ломти сливочного масла и бахтиярский кебаб с перемежающимися кусками баранины и цыплёнка.
В Раге мы ели всегда из одной круглой миски, сталкиваясь вилками и стукаясь лбами, как голодные дети. Торопливо (мой зеркальный близнец - левой рукой, я – правой), почти не обмениваясь словами и только подталкивая друг другу куски покрупнее. Вылизывали миску до блеска, а потом вылизывали вилки. Впоследствии, покинув Рагу, мы так и не смогли избавиться от этой сиротской привычки.
Гарамон любил дизи – приводившее меня в ужас овощное варево в глиняном горшочке. Оно подавалось вместе с большим пестиком. Сначала следовало выпить жидкость, а затем самостоятельно истолочь овощи, превратив их в пюре. Он всегда посмеивался над невеждами, путавшими эту очерёдность. Смотрел, как брызги летят у них во все стороны и пачкают скатерти, а потом только качал головой и вполголоса произносил какое-нибудь ругательство.
Каждый раз я торопилась ткнуть его локтем, чтобы он замолчал. Когда мы были на людях, я постоянно боялась: стоит нам сказать, прошептать или даже помыслить одно-единственное неверное слово, как перед нами немедленно вырастет кто-то неведомый и страшный. И тогда... Я не могла даже толком объяснить своих страхов. Я просто каждое мгновение боялась угроз, ругани, оскорблений, ударов, драки. Боялась уличных хулиганов и жандармов, путая одних с другими.
В такие минуты перед глазами у меня проносились невыносимые картины Раги: картины чьих-то мучений, картины беззащитности и слёз. Картины с грязных улиц и картины из газет, картины из школ, больниц, тюрем и казарм, картины с экрана телевизора и самые страшные – из моего воображения. Картины страданий, картины беспомощности и горьких обид, и доводящие до безумия мурашки и какие-то электрические покалывания под кожей, когда видишь чьи-то муки, но не можешь прийти на помощь. Всё внутри у меня замирало и останавливалось, я почти глохла, голову сжимало жаром, а перед глазами начинали плыть сначала мутные стекляшки, а потом тёмные пятна. Чтобы не потерять сознание, я ухватывалась за какую-нибудь глупую мысль, за мысль о чём-нибудь приятном и простом – и тут же корила себя за малодушие.
Я боялась вездесущей нечисти, разраставшейся в моём воображении до гигантских молохов с высохшими душами и одеревеневшими телами. Молохов, не видящих чистоты детей, красоты женщин, благородного величия мужчин, бьющих и губящих всех без разбора. Существ из мира нелюбящих и нелюбимых, мира, основанного на страхе. Мира, который делает и палачей, и жертв отвратительно бесполыми. Безобразного мира, в котором красота не значит ничего.
Никто не должен быть вправе делать другого некрасивым, повторяла я сквозь слёзы. Никто и никогда не должен сметь лишать другого красоты. Нельзя оставлять багровые шрамы и безобразные ожоги. Нельзя уродовать тонкие лица, нельзя делать прекрасные глаза заплывшими, нежную кожу – пунцовой, правильные черты – кривыми, распухшими и грубыми. Нельзя превращать мужчин в изображения на глухих стенах, а женщин – в молящиеся призраки, обречённые до конца жизни в одиночестве кашлять собственной кровью.
И нельзя уродовать человеческого сердца. Нельзя заставлять другого чувствовать себя увечным. Нельзя делать человека рабом тоски и страха. Никто не должен быть вправе делать это с другими. Это – злейшее, подлейшее из преступлений. Это – корень всех преступлений.
В древности и самые грозные из злодеев умели узнать красоту. Они бывали поражены величием мучеников и мучениц – и в одну минуту меняли своё каменное решение. А если тех всё же ожидала смерть, то и в ней, в самой её жестокости было что-то священное, порождавшее трепет. Никто не смел делать прекрасное уродливым, никто не смел обращаться с ним хуже, чем с безобразным.
Но теперь наша страна была суровым и глухим краем, и никакие соловьи и розы не могли убедить меня в обратном. Была она, к моему ужасу, и краем ненависти – хоть и породила в своё время вдохновенного Хаммара и целую плеяду не уступавших ему влюблённых поэтов.
Единственным подобием любви – уродливым, нелепым, выродившимся - было у этих молохов чувство заботы о своих детях, замешанное на их собственных детских страхах, бесконечной неуверенности и извращённом понятии чести. Отец мог на глазах у маленького сына до смерти забить животное, которое, как ему бог знает почему показалось, чем-то обидело его ребёнка. Испачканная штанина, оторванная пуговица, мокрая рука, улыбки и смех товарищей по игре, оторопь мальчика – и вот уже рядом вырастает храбрящийся отец с молотком в волосатой руке и истерически кричит, что никто, вы слышали, никто не смеет оскорблять его сына, что он, отец, этого не потерпит, что со всяким, кто только посмеет оскорбить тебя, сынок, будет то же, что с этим (далее следуют отвратительные ругательства – грязные и среднего рода, что делает их ещё ужаснее, ещё безличнее)... И маленькое животное, желавшее поиграть с мальчиком и развеселить его и его друзей, превращается во что-то кровавое, безмолвное и кошмарное. Мальчик, кое-как перетерпев день, к вечеру не выдерживает и в слезах приходит к матери. Она спрашивает его, что случилось. Он не находит слов, не знает, как рассказать, как объяснить. Он сам не знает, что думать, что чувствовать ему теперь. Ему с детства велели гордиться отцом, не сомневаться в нём, почитать его, считать лучшим, мудрейшим, справедливейшим... «А как ты думаешь, - осторожно спрашивает вдруг мать, - Прав был папа?». Мальчик в замешательстве. Сам вопрос для него – неожиданность. Никогда прежде не спрашивали его о таком, никогда прежде не позволяли судить отца. Что может ответить он, кроме «да»? Разве возможен ответ «нет»? Разве не показал ему отец сегодня свою безграничную любовь, свою заботу о собственной чести и чести сына, разве не доказал, что всегда защитит его, не даст в обиду? И мальчик, с изуродованным слезами лицом, стыдясь своей жалости к безымянному животному (такие чувства в нашей культуре не приняты, их осуждают, их отказываются понимать), сам не понимая, что испытывает теперь при мысли об отце с его яростным лицом и налившимися кровью глазами, глухо говорит: да... Потом, посреди ночи, в темноте он начинает рыдать – нарочито громко, чтобы услышала мать. Но, когда она появляется на пороге его спальни, он вдруг не может назвать истинной причины своих слёз, теряется и лепечет какой-то первый пришедший в голову вздор вроде пропавшей игрушечной машинки. Мать успокаивает его и, ни о чём не подозревая, уходит. Уходит спать к отцу. Даже она уже обо всём забыла...
Белый йогурт, зелёные оливки, паста из гранатовых зёрнышек. Тонкие оладьи из зелени и трав. Перевёрнутые вниз головой горы риса из котла (наверху оказывался коричневый, хрустящий, чуть пригоревший рис, считавшийся самым вкусным). Говорят, кухня нашей страны настолько разнообразна, что можно готовить по новому блюду каждый день в течение года, ни разу не повторившись. А ещё все вокруг ели много сладкого. Везде была розовая вода. Все сладости пахли парфюмерной лавкой. Впрочем, не только сладости. В местах скопления народа (особенно там, где были ковры и люди снимали обувь) использовали литры, бочки, тонны розовой воды: они перебивали запах. Гарамон обычно обходил такие места стороной, отпуская какую-нибудь шутку.
Помню вечера и его тонкие руки в жёлтом свете настольной лампы. Он говорил, что очень худые люди могут наносить сильнейшие удары острой косточкой на внешней стороне запястья. Впрочем, с тех пор, как мы покинули душную Рагу, ему ни разу не пришлось ни с кем драться.
Помню пепельницу, полную окурков. Открытое окно во дворик и крупных, мохнатых ночных бабочек. И предрассветный азан с минарета базарной мечети. Гарамон всегда чувствовал его первым. Замолкал, подносил палец к уху. И каждый раз удивлялся: «Неужели ты не слышишь?». А я только качала головой, поражаясь его острому слуху. И пыталась вообразить, что слышу тоже.
На третий день в Лалемарге мы отправились в заброшенный политехнический институт (оказалось, что мой авантюрист включил этот город в наш маршрут единственно ради этого). Он не без труда отыскал едва ли не последнего оставшегося там работника, старика Саки, похожего скорее на призрак, чем на человека - и с радостью ему отрекомендовался. В молодости профессор Саки был крупным учёным, объяснил мне Гарамон. И добавил, что в Раге часто листал его работы. «Те зелёные книги на самой нижней полке». Я в очередной раз вынуждена была признать, что совсем ничего не помню. Действительно ли я была настолько равнодушна к его математике, настолько слепа к его занятиям? Или просто ужасы дома в переулке Сорур стёрли в моей памяти целые страницы?..
Мы стали наведываться в институт почти каждый день. И хоть нам не встречалось там никого, кроме старого Саки, мух и нескольких пауков, Гарамон неизменно начинал утро с бритья. Поначалу, в первые недели наших скитаний, он этого не делал. Но здесь, в почти опустевшем Лалемарге, он мог позволить себе пойти против тогдашней моды.
После революции мужчины в нашей стране начали говорить друг другу «брат» и отращивать густые курчавые бороды. Мне было странно думать о том, что не я, а кто-то другой, чужак, посторонний может назвать теперь Гарамона братом. Мне было не по себе от мыслей о любых братствах, группах, союзах, коллективах. Ведь разве не творилась наша культура на протяжении веков гордыми одиночками: Хаммаром, Саррафом, Абу Хальзуном, Ибн Музаффаром?..
Беря в руки бритву, он словно пытался смыть, соскоблить с себя всё мрачное, что витало в те годы в воздухе и оседало на лицах. Я хорошо помню, как он брился: ожесточённо, почти яростно. Он часто резался, и тогда я зажмуривалась. Мне представлялось страшное: мечи, ножи, перерезанные горла, что-то из средневековой истории (весьма неопределённый период, растянувшийся в некоторых уголках страны до начала двадцатого века). Он быстро скрёб бритвой, десятки и десятки раз, не жалея своей длинной шеи, и я закрывала лицо руками и умоляла его быть осторожнее. Он только улыбался и объяснял, что делает это ради удовольствия. Что бриться – «чертовски приятно». В нём странным образом сосуществовали хрупкий затворник-аристократ и какой-то неприхотливый, весёлый не то крестьянин, не то солдат.
И всё же иногда я ловила себя на мысли, что лучше бы он этого не делал. Я вспоминала первые дни наших странствий, прекрасные и счастливые в их безнадёжности. В те дни его жёсткие, колючие щёки касались моей шеи, и меня охватывало чувство безграничного покоя. Я была в безопасности. Мне казалось, что я – ребёнок, только что появившийся на свет. Ребёнок, которого не коснутся беды и страхи, которому не причинят зла ужасы за окном, которому не нужно знать о жестокости мира, которому не нужно даже говорить, которого всегда защитит сильный и храбрый взрослый...
В институте были старые тёмно-зелёные доски и мел. Там пылились кипы потрёпанных книг: на столах, на креслах, прямо на полу. Там были портреты шаха: революция словно обошла это место стороной. Казалось, само время здесь искривилось и потекло в обход.
Гарамон с профессором Саки подолгу спорили и курили. Я тихо сидела поодаль и слушала. Профессор был рад свежему обществу и каждый раз перед нашим приходом готовил крепкий кофе и открывал пачку нуги. Нуга была настоящая, приторная, из Сорхабада. Выпив свой кофе, Гарамон обыкновенно вставал у окна с сигаретой и ставил одну ногу на ступеньку возле стены, ни на миг не переставая что-то с жаром объяснять профессору Саки. И я смотрела обожающими глазами на его острое колено, на складки брюк, на длинную шею и обращённый к свету профиль. Потом профессор тихо ставил пластинку. Старую запись оркестра из Раги. Они обменивались парой фраз о музыке – и снова возвращались к математике.
Я незаметно рассматривала книги в кабинете Саки. Помню загадочное слово "Calculus" на корешке одной из них. Помню старые лампы (таких больше не производили) и поблёкший календарь 1964 года. Я готова была полюбить старика Саки за один только его кофе с сорхабадской нугой. В наших краях повсеместно пили чай – оранжевый, с шафрановым сахаром, из маленьких стаканчиков с тонкой талией. Эти стаканчики нагоняли на меня тоску. В них была какая-то безысходная, беспросветная, безликая простота. А вот кофе казался мне совсем другим. У этого напитка был характер. Он был словно насмешливый юноша с пытливым умом и пронзительным взглядом. Я выбирала кофе всегда – даже если это была уже пятая чашка за день, даже если в желудке у меня было пусто, даже если у меня уже дрожали руки и колотилось сердце...
Однажды, попрощавшись с Саки, мы вышли в солнечный и пыльный коридор и почти лицом к лицу столкнулись с Хаммаром.
Вид у него был такой, словно он бродил там уже век. Словно институт был его домом. Он повёл нас за собой. Мы, ни минуты не раздумывая, последовали за ним и, преодолев несколько лестничных пролётов и целый лабиринт коридоров, оказались в библиотеке. Воздух в ней был таким густым и вязким, что мы слышали эхо фраз, которые профессор Саки говорил там самому себе недели назад.
Мне подумалось, что призрачный Хаммар похож на мнимое число, на что-то вроде корня из минус единицы. На то, чего быть не может, чего быть не должно ни по каким законам и правилам - но что, тем не менее, существует. На то, что возникает посреди стройных Гарамоновых уравнений, приводя его сначала в бешенство, а потом исподволь очаровывая... Пустая мысль. Моему талантливому спутнику и в голову не пришла бы такая пошлость. Когда я робко поделилась с ним своим наблюдением, он немедленно сообщил, что я всего лишь утащила (и довольно глупо исказила) мысль, высказанную более полувека назад одним русским писателем. Меня в очередной раз ошеломили его познания.
Я задумалась о его противоречивом уме.
Дело было даже не в его колоссальной эрудиции (он отлично разбирался в опере и политике и кое-что смыслил в истории). Больше всего меня удивляло то, как расточительно использовал он свои силы. Всякая информация была для него ценна. Казалось, его разум ничто не считал недостойным хранения вздором. Ни от какого знания, даже самого нелепого, он не отмахивался. Память его была, как мне казалось, бесконечна. Он знал, как работают почтальоны. Отлично помнил карту страны с сетью асфальтовых и грунтовых дорог, расписание автобусов и цены на билеты. Знал, где купить консервный нож и как заштопать рукав рубашки. Его мозг не пренебрегал ничем. Даже сплетнями об артистах со страниц светской хроники. Имея хороший вкус, он, разумеется, терпеть не мог этих бездарных выскочек, но, тем не менее, держал в памяти их родственные отношения и все до единой роли. Он знал даты религиозных праздников трёх вер – которые игнорировал. Знал рецепты блюд, которых никогда не готовил. Он пугал меня быстротой своего ума. Как часто большие учёные бывают смешны и беспомощны в обыкновенной, повседневной жизни! Рассеянные, невнимательные, с головой в облаках... Но Гарамон был другим – удивительным исключением. Предметы женского гардероба, устройство пишущей машинки, признаки спелого арбуза или дыни – он с лёгкостью разбирался во всём.
Плохо было лишь то, что он быстро ко всему остывал, забрасывая и идеи, и книги, и людей. Всё это было ему интересно лишь постольку, поскольку будоражило мысль и вело его к открытиям и новым решениям.
Но не было приговора хуже, чем стать в его глазах бесполезным.
И тем более удивительна была его постоянная, неослабевающая любовь ко мне, вечно путавшей плюс с минусом и забывавшей, в каком городе мы были на прошлой неделе.
*
Спустя пару недель мы, несмотря на бурные протесты старика Саки, покинули Лалемарг и продолжили путь. Но уже через час автобус забарахлил и остановился, водитель разразился отборной бранью и полез за инструментами, а мы оказались предоставлены самим себе.
Мы снова были в пустыне. К счастью, возле дороги возник скучающий продавец чая из синих цветов. Должно быть, он был совсем один на много фарсангов вокруг.
Мы вышли из автобуса и присоединились к нему. Пока мы пили чай, он рассказывал нам притчи из Хаммара. Гарамон кивал и, улыбаясь одной половиной лица, курил. Он всегда держал сигарету вертикально. Столбик пепла у него долго рос, а потом в один миг летел вниз, на землю... Гарамон тихо смеялся. И закуривал ещё одну.
Я молча сидела рядом и слушала. С детства у нас с ним была довольно досадная особенность: мы как будто делили одну силу на двоих. Когда он был особенно бодр и весел, я чувствовала себя странно слабой. И наоборот. Иногда мне казалось, что это мироздание правит само себя, не давая нам удвоенной силы: ведь если бы мы почувствовали прилив энергии одновременно, мы в буквальном смысле перевернули бы горы. Мы завязывали бы узлом реки. Мы играли бы в мяч звёздами... Так казалось мне иногда. Но я стеснялась делиться с ним этими мыслями.
Торговец чаем рассказал нам, как в далёком прошлом, в ранней своей молодости, месяцами жил в автобусах. Он разъезжал по всей стране, опасаясь шахской полиции. Он питался дешёвой едой с автозаправок, а несколько раз даже вытаскивал кошельки у зазевавшихся попутчиков.
Признаваясь в этом, он ронял голову и дёргал себя за волосы заскорузлыми пальцами.
Он поселился в автобусах – до того он боялся собственного дома, стука в дверь, резкого звука звонка; боялся, что придут полицейские и застанут его одного – безоружным, беспомощным. Но не станут же они останавливать автобусы посреди пустынных шоссе? Не станут караулить, не станут врываться и искать его среди пассажиров?..
У него была одна странная любимая фраза. Три простых слова: никто не придёт. Это значило: он всё ещё в безопасности. Когда-то давно он повторял эти слова в совсем другом значении: это было какое-то романтическое стихотворение об одиночестве покинутого влюблённого, к которому больше не придёт его дама. Он часто бормотал эти строки в те горькие минуты, когда человек так легко поддаётся жалости к самому себе. Но со временем слова эти приобрели для него иной смысл. Они значили теперь: не придёт полиция. Он повторял их как молитву, как заклинание, как успокаивающую мантру. Никто не придёт. Он пытался заговаривать ими свой страх. Он согласился бы на одиночество, на тоску и слёзы каждую ночь, согласился бы на позорную участь брошенного любовника, на что угодно – только бы не пришла полиция, только бы не пришли они, эти страшные они, только бы никто не пришёл!..
Гарамон осторожно поинтересовался, почему он так боялся полиции. Что такого мог натворить этот неглупый, благообразный с виду человек?
Ответ его поразил нас: ничего.
Он не был виновен ни в чём, не совершал никакого преступления, не был коммунистом и не был с коммунистами в родстве, не писал лозунгов на стенах и вообще не говорил ни с кем о политике хотя бы потому, что ничего в ней не понимал; он не обвешивал и не грабил, не обманывал и не подделывал бумаг. Почему же он боялся, что за ним придут?
Потому, объяснил он, что бояться можно без причины. Для страха достаточно одного их вида, одного блеска их пуговиц, одного звука их голосов...
Гарамон тихо спросил, стало ли ему легче после революции. И он, не колеблясь, ответил: нисколько.
Страх, говорил он, вечен. Страх бессмертен. Он живёт на глубине, в тёмных водах. Его не спугнёт движение волн, его не остановят белые пузырьки на их гребнях...
А вот бесстрашие – это совершенное состояние человека. Это то, что отличает богов от людей - и то, что способно сделать человека полубогом. Но оно едва ли возможно до тех пор, пока человек кого-то любит или чем-то владеет. С древности людям было известно: богатство и желания порождают страдания. Но они порождают и нечто гораздо более дурное: страх. Человек боится беды, что может постичь любимую душу. Боится пожара, что может уничтожить его дом. Боится не успеть - сделать, сказать, оставить после себя... Бесстрашным может стать, пожалуй, лишь одинокий бродяга без дома, без желаний, без честолюбия, любви и всего, что возможно потерять. Как, должно быть, ему легко!
Для нас с Гарамоном такое бесстрашие было недостижимо. И всё же мы стремились к нему. Совсем как изогнутые графики каких-то загадочных функций, что стремились к осям ординат на Гарамоновых чертежах и достигали их только где-то очень далеко, за пределами тетрадных листов, в его воображении...
Наш собеседник признался, что уже давно оценивает людей по одному лишь присущему им бесстрашию. Только одно оно осталось для него мерилом хорошего и дурного человека; всё остальное не имело более смысла.
Но ведь бесстрашие не зависит ни от таланта, ни от ума, возразили мы на это; оно не зависит ни от какой добродетели вообще. Самыми бесстрашными оказываются порой глупейшие из людей...
- Говорите прямо: идиоты! – перебил он. – Но ведь именно они и прекрасны. А прекраснее всех – бесстрашные фанатики: самими своими лицами, своими глазами, в которых сквозит свет иных миров... Только то прекрасно, что достойно оперы. Прежде чем сделать что-нибудь – подумайте, поступил бы так герой в опере. Всё то, чего не сыграть на сцене, бессмысленно и в жизни.
Тут, на словах об опере, он спохватился и умолк. Опера была чем-то далёким, чем-то из шахских времён. Сама память о ней в нашей стране в те годы вымирала. Он испугался, не сказал ли лишнего. Я уверена: он выглядел напуганным. Должно быть, страх его за все эти годы так никуда и не ушёл. Должно быть, он в ужасе спрашивал себя теперь, не донесём ли мы на него жандармам за ему одному ведомые прегрешения и не жандарм ли сам Гарамон...
Он поспешно попытался переменить тему. Рассказал какую-то плоскую шутку и сам же глупо хихикнул. Гарамон, желая выручить и успокоить его, поддержал беседу. Они заговорили о другом.
Я сидела тихо и думала об услышанном. Человек был прав: бесстрашие – не черта характера, а состояние. Его достигают и теряют, подобно опьянению или помрачению рассудка. Бесстрашие – это момент во времени, и он редко длится долго. Сохранять его в себе ежедневно и ежечасно на протяжении многих лет способны разве что страстные безумцы, первыми идущие в бой, ведущие за собой других и, как правило, очень быстро погибающие. Тот же, кто привязан к родным сердцам, к дому, долгу или делу, вынужден жить бок о бок со страхом, без алого вина бесстрашия, без его освобождающей силы. И лишь иногда, в редкие мгновения, человек способен угадать в себе его короткий проблеск...
Где-то вдалеке закричал водитель автобуса. Пришло время возвращаться.
Гарамон поблагодарил за чай, и мы тихо попрощались с нашим удивительным собеседником.
*
1986 год пах дождём, водорослями и временем. Сколько всего случилось в тот год!
В середине 1986-го мы осели в городе Рахш и собирались прожить там некоторое время, чтобы Гарамон смог продолжить свои математические занятия и поступить в институт. Он действительно, как мы оба и ожидали, сдал экзамены с блеском, даже не готовясь к ним - и очень быстро был зачислен на первый курс.
Провинции на южном побережье Хазарского моря – единственные в нашей стране, где есть леса (они похожи на холодные джунгли). Тот год нашей жизни пах туманом и влагой, и я с удовольствием говорила Гарамону, что дышу теперь не лёгкими, а жабрами.
Люди за пределами города строили свои жилища из дерева, и это очаровывало нас, напоминало северные сказки, сказки о Гензеле и Гретель. Прежде мы знали только глинобитные и кирпичные дома, сухие и хрупкие от безжалостного солнца. В Раге мы видели только серые камни, жёлтую пыль и душные улицы. Здесь же всё было по-другому. Солнце здесь было бледным, как хорошо воспитанный юноша, не смеющий показать своей могучей силы. Оно никогда не смотрело на людей в упор, а лишь бросало украдкой короткие нежные взгляды. И, совсем как истинный денди, исчезало прежде, чем успевало надоесть.
В Рахше у нас обоих стала часто идти носом кровь. Странно: тревоги наши остались позади, в Раге – но только теперь они начали вырываться наружу, словно найдя наконец выход.
Помню, как я долго тихо сидела, прижавшись к Гарамону. Краем глаза, уголком сознания я видела разбросанные листы и карандаши у него на столе. Над ними, на полке - сиротливо обнимающихся Себастьяна и Вивьен, наших кукол, единственное напоминание о доме в Раге. Скелетики винограда, кожуру граната (Гарамон ел его всегда вместе с косточками, к моему искреннему недоумению), учебники, логарифмическую линейку и циркуль, какой-то чертёж на миллиметровой бумаге... Но мы не думали об этих предметах, мы просто приближались друг к другу так, что было не разглядеть лиц, закрывали глаза и ныряли в темноту. И вдруг одновременно почувствовали что-то горячее и вязкое – и, вздрогнув, уставились друг на друга. Я видела окровавленное лицо Гарамона, он – такое же моё.
Потом, пока я вытирала наши губы и щёки мокрым полотенцем, он одну за другой перечислял редкие болезни и странные причины, их вызывающие. Это был длинный и местами совершенно невероятный список.
Не то чтобы он был ипохондриком. Скорее наоборот: стоит вспомнить хотя бы его сигареты, или ломтики жареного картофеля на завтрак, обед и ужин, или бессонные ночи, нередко кончавшиеся утренними обмороками. Паникёром он не был тем более. Просто он бесконечно много знал – в том числе о медицине – и щедро делился своими познаниями со мной. При этом достижения современной науки удивительно естественно уживались в его голове со средневековым Каноном Ибн Сины.
Он всегда знал, «холодная» или «горячая» природа у блюда, и что сочетается с чем. «Не пей барбарисовый сок, уснёшь», - мог сказать он мне в путешествии или просто в середине важного дня. А я делала вид, что не понимаю, о чём он.
Мне вспоминается ещё вот что. Он никогда не имел сколько-либо постоянной работы – или того, что обычно понимают под этим словом. Не могу вообразить, чтобы он ходил в одно и то же место к одному и тому же часу на протяжении многих лет. Это было совершенно несовместимо с обликом, со всей натурой Гарамона. Однако он постоянно был занят. Он работал не меньше, а то и больше тех, кто служил в конторах или трудился на фабриках. Иногда он заявлял, что женат на работе. Эти слова порождали во мне смесь ревности и гордости. Своими статьями и публикациями он не зарабатывал ничего – и всё же он не мог не писать их. Он даже не задавался вопросом, нужно ли это делать: он просто твёрдо знал, что это – его призвание.
Однокурсники его, как и приличествовало их молодым годам, относились к учёбе в институте по-детски несерьёзно и видели в ней продолжение школы: что-то устаревшее, навязанное родителями и обществом, что-то, против чего следует бунтовать. Хорошая учёба не пользовалась у них почётом. Зато у того, кто учился плохо, непременно была, как им казалось, какая-то тайная, прекрасная, богатая событиями и переживаниями, достойная зависти жизнь. Эту «настоящую жизнь» они резко противопоставляли науке (одно из самых раздражающих заблуждений молодых людей). В преподавателях они видели исключительно врагов, в любую минуту готовых к атаке. Гарамон же видел в них коллег, а в домашних заданиях и экзаменах – начало своей биографии математика.
Я всегда удивлялась тому, как много денег мы тратили, и тому, что они у Гарамона всё не кончались. Сейчас, вспоминая это снова, я удивляюсь ещё больше. Не имея постоянной работы и пристрастившись к в высшей степени бессистемному образу жизни, он время от времени оказывался обладателем внушительных, по тем временам и по студенческим меркам, сумм. Так, однажды он получил первый приз какого-то математического конкурса – и оказался самым молодым его победителем в истории. В другой раз он обыграл всех в институте в шахматы (за это тоже полагалась денежная премия). Потом его пригласили поучаствовать в создании документального фильма о Гауссе. Гарамон так любил его и так много о нём знал, что засыпал сценаристов идеями, собственноручно написал для них пятьдесят дополнительных страниц текста и удлинил фильм на три с половиной часа. Разумеется, почти ничто из его трудов не вошло в окончательную версию. В первые несколько дней он бушевал. Затем махнул рукой и больше никогда не пересматривал фильм. Даже когда его показывали по телевидению – каждый год в день рождения Гаусса. А потом просто стёр само его название из памяти. Во всяком случае, так он говорил.
Когда Гарамон уходил в институт и я подолгу оставалась дома одна, мне становилось страшно. В Раге, пока мы были вместе постоянно, страх можно было на время усыпить, придушить, загнать в угол. Теперь же мне каждую минуту мерещилось что-то ужасное. Пожар. Капающая из сломанного крана вода. Затихшие у дверей жандармы, готовые вломиться внутрь. Я вздрагивала от каждого стука. И страх, похожий на кипяток, ещё целую минуту разбегался по жилам, медленно замирая в пальцах рук и ног. Я пыталась отвлечься, листая свежий роман Болан-Шенкера «Любовь и кровь семьи Дивансаларов» (о нём в тот год не говорил только ленивый), но руки мои дрожали, а строки казались нагромождением случайных слов. Я в очередной раз повторяла себе, что страх – худшее из зол, а бесстрашие – высшее из достоинств, но в одиночестве эти заклинания работали плохо.
Зато звука ключа в замке каждый раз было достаточно, чтобы меня успокоить. Только он один мог даровать мне бесстрашие. Возвращаясь из института, Гарамон много говорил. Называл кого-то болваном, ругал очередную посредственную публикацию, предлагал своё решение против предложенного каким-нибудь бородатым профессором – и снова рассуждал о своей проклятой задаче. О magnum opus. Заговариваясь, он забывал о времени. А я только беспомощно смотрела, как стынет обед и теряют форму взбитые сливки в чашке с кофе. И мне приходилось напоминать ему обо всей этой ерунде. Тихо, еле слышно, как можно осторожнее. Ванная, полотенце, кран. Стул, чечевичный суп, красный перец. Ложка. Салфетки. Пепельница.
Соль. Белый йогурт. Оливки. Этими дурацкими репликами я раздражала саму себя. Проклятая домохозяйка! Глупая Гармин! Пока мысль моего математика парила в необъятных мирах умозрительного, заключённая в его высокий лоб с вьющейся тёмной прядью, я прерывала её полёт своими неуместными репликами о соли и перце, кастрюле на плите и полотенце в ванной! Я ненавидела саму себя и за это готова была возненавидеть и его науку.
- Это будет исторический опус! Вот увидишь, - повторял он как в лихорадке. – Никто, никто прежде об этом не думал. Я проверил всё. Клянусь: никто! Подожди, скоро сама всё прочитаешь.
- Я ведь ничего не пойму, - возражала я было. – Объясни сейчас, объясни как можешь, объясни словами!..
Но он уже не слушал: схватив со стола стакан с растворимыми витаминами и зажав в зубах кусок хлеба, он подмигивал мне и отправлялся работать. «Не залей пишущую машинку», - хотелось мне крикнуть вслед, но я останавливалась, понимая, до чего всё это далеко от его прекрасного мира.
Бывало, в Гарамона влюблялись студентки. На переменах и после лекций они просили его рассказать им о Пьере Ферма или посоветовать литературу по теории чисел или ещё бог знает чему – только бы попросить, только бы обратиться к нему, назвать по имени, встретить его взгляд. И он, ничего не замечая, начинал рассказывать. Он мог говорить безостановочно. Он так увлекался самим вопросом, что совершенно не видел, как эти девочки пожирали его накрашенными глазами из-под чёрных платков. Таких девочек было три. Точнее, он говорил мне о трёх. Однако по наблюдениям кое-кого из молодых, проницательных и принимавших в нём участие профессоров, их было гораздо больше. Они, эти внимательные профессора, говорили, что у Гарамона есть «магнетизм». И что сам он производимого им эффекта просто не замечает.
Должно быть, эти девочки терпеть не могли меня. Догадываясь обо всём (или просто смутно чувствуя что-то женским чутьём), но не в силах ни в чём убедиться и ничего доказать, они искренне желали зла пленившей их героя «ведьме» (однажды моё ухо уловило это слово, произнесённое чьим-то приглушённым, шипящим голосом). Мне от этого было почему-то только весело. Видимо, верность Гарамона делала меня неуязвимой.
Кто-то из них, рассказывал он мне со смесью жалости и отвращения, пытался сделать ему подарок. Он даже не развернул его, даже не взял в руки, к удивлению и отчаянию дерзкой поклонницы. И вдруг заявил, как отрезал, что помолвлен. Позже я долго удивлялась отчаянному поступку незамужней девушки – не то её храбрости, не то глупости. И гадала, что же лежало в той коробке.
*
Наверное, тот день был главным в моей жизни.
Я до сих пор помню его в мелочах.
- Вон там - советский берег. А может быть, там. – Гарамон медленно поворачивался вслед за своей вытянутой рукой. – Туман, ничего не видать.
Помню, как он задумчиво вглядывался в горизонт, прищуриваясь то ли от воображаемого солнца, то ли от напряжения мысли.
- А там – видишь? – вон там, далеко-далеко, должна быть Астрахань. – Он резко обернулся, чудом сохранив равновесие. – Ничего не разглядеть.
Он замолчал. Под ногами попадались белые ракушки. Я подбирала их бездумно, повинуясь древнейшему инстинкту охотников и собирателей. Говорят, это он движет коллекционерами в наши дни. Древний, живучий инстинкт.
Я смотрела на него с любопытством, надеясь прочитать на лице его что-то очень важное, но не различала ничего.
Пахло водорослями.
- Советские математики очень сильны, - сказал Гарамон вдруг. – И шахматисты. Хотел бы я сыграть с N (он назвал фамилию).
Мы были на берегу Хазарского моря. В тот день мы увидели его впервые. Ради этого мы приехали из Рахша в маленький рыбацкий городок Эйни. Люди Рахша относились к нему с иронией, считая, что смотреть там нечего, а народ – так и вовсе тёмный и безграмотный. Но мы не обращали внимания. Мы готовились к встрече с морем так, как, наверное, готовятся к свадебным торжествам. Или встрече с великим человеком, которого боготворят. Встреча с морем, о котором мы мечтали столько лет, столько душных ночей и невыносимых дней в раскалённой и полной ненависти Раги, должна была стать счастливейшим мигом нашей жизни.
На берегу было прохладно и пусто. Ни звука, ни шороха. Люди и животные, казалось, попрятались в дома, ожидая дождя и медленно подкрадывавшихся сумерек. Никого, кроме нас двоих.
И Хаммара.
Мы заметили его не сразу. Седой, почти прозрачный от прожитых лет, он тоже тихо собирал ракушки чуть поодаль. Он улыбался и как будто что-то читал нараспев. Нам стало тепло. Под пасмурным небом, на краю свинцово-серого моря нам стало вдруг тепло. Мы тоже улыбались. Восторг прокатывался волнами вниз по нашим позвоночникам, и мы тихо дрожали, наслаждаясь горячими мурашками. В волосах у Гарамона висели маленькие капли.
Мы пошли к Хаммару. Он стихами говорил о том, что вчерашний день ушёл, а завтрашний ещё не наступил, и кто знает, наступит ли, и потому смысл имеет лишь настоящее. Довольно избитая, в общем-то, мысль, к тому же изрядно опошленная Хаммаровыми подражателями и последователями, сейчас она звучала прекрасно, звучала как новая, звучала почти дерзко. Так, должно быть, это было тысячу лет назад, когда мудрость молодого Хаммара ещё не окаменела в веках. Когда не было ни памятников ему, ни гигантского мавзолея в виде перевёрнутого винного кубка.
Увлекая за собой Гарамона, я бегала по краю воды, смеясь и глубоко вдыхая солёный воздух. Мне хотелось почувствовать, каково это, когда лёгкие наполняются до предела, готовые разорваться от блаженства. Я смотрела на воду и удивлялась тому, до чего всё просто - и до чего упорно люди этого не видят. Свобода – это берег Хазарского моря и вода до самого горизонта. Свобода – это место, куда приходит Хаммар, вот уже десять веков вольный бродить там, где ему нравится. А несвобода – это Рага, это города с узкими улицами и душными домами, и удушающая одежда, и засушенные розы. Свобода – это счастье. А несвобода – зло. Всё до того просто, что многим даже не приходит в голову этого произнести.
Между тем надвигался шторм. На берегу стало совсем темно. Песок у воды сделался почти чёрным. И всё же это свободное Хазарское море было красиво. Гарамон повёл меня назад. Я старалась идти как можно медленнее и постоянно оглядывалась на волны, стараясь запомнить эту картину навсегда. Головы у нас кружились, оглушённые кислородом, запахом водорослей и беседой с Хаммаром. Лёгкие, переполненные солью, скрипели. А может быть, это были уже не лёгкие, а раскрывшиеся жабры.
Когда мы вернулись в Эйни, дождь уже вовсю колотил по крышам домов и люкам в асфальте, гудел внутри труб, стучал по брезенту. Стало темно как ночью. До Рахша мы добирались на небольшом автобусе. Водитель слушал радио: сначала диктор рассказывал что-то на местном диалекте (он показался мне мелодичнее литературного языка столицы), потом заиграла легкомысленная модная песенка. Но её звуки казались приятными и как будто давно знакомыми.
Гарамон выглядел как никогда счастливым. Тёмно-янтарный взгляд его был теперь почти золотым. Он был похож на цвет цифры девять, какой её всегда видел мой любимый математик.
Только войдя в дом, мы поняли, что оба мокры насквозь, до самых костей. От избытка кислорода головы у нас болели так, что мы с трудом узнавали собственные голоса. Счастливые, обезумевшие от головной боли, мы крепко обнялись.
Я засыпала с ощущением совершившегося чуда, сбывшейся мечты, исполненного долга... Гарамон только тихо улыбался.
Глубокой ночью он вдруг вскочил и ринулся к письменному столу с невнятным криком, прозвучавшим в этот глухой час неестественно громко.
Я догадалась: он решил свою задачу.
Окно распахнулось, и в комнату ворвался запах ночи. Запах травы, земли и звёзд. Я осторожно высунулась наружу и сделала глубокий вдох. А потом долго вглядывалась в небо, пока не отыскала созвездие Ursa Major. Где бы мы ни оказывались, где бы ни останавливались на ночлег - если созвездие это было на месте, я чувствовала себя дома.
Теперь Гарамон готов был закончить свой magnum opus.
*
Он кое-как размёл свой мусор, освободив немного места на столе, и рухнул на диван перед ним.
В течение следующих восемнадцати часов он сидел и писал.
Этого я никогда не понимала, но, видимо, так было нужно: даже решив задачу, даже получив ответ, даже поняв всё от и до, он продолжал работать. Он испещрял лист за листом бесконечными уравнениями. Парадоксальным образом решение было у него обыкновенно не концом, а лишь началом дела.
Он не вставал и почти не двигался всю ночь и весь следующий день, и только пальцы его нервно били по клавишам, да съезжала вбок каретка.
Я несколько раз приносила ему кофе с гущей и финики. Приносила и ставила рядом с пишущей машинкой. Молча кивала на них. Он улыбался, благодарил – и тут же забывал. Я боялась, что он опрокинет чашку и зальёт листы – но ничего не говорила, не смея отвлекать. Иногда я делала чай с красными барбарисовыми ягодами. Чай остывал прежде, чем он его замечал.
В конце концов я махнула рукой и решила чем-нибудь заняться. И поняла вдруг, что Гарамон впервые в жизни столь надолго предоставил меня самой себе. Готова поклясться: он не отрывался от работы, пока не закончил. Он не отрывался от работы ровно восемнадцать часов.
Я не стала ему мешать. Оставила его на диване и пошла в соседнюю комнату – ту, где он обыкновенно работал. Не отрывая глаз от уравнений, он дал понять, что я могу сесть на его место.
В той комнате, почти мне незнакомой, пахло чем-то холодным и синим. Я осторожно потрогала пыльный сосуд на столе (конный римлянин на этикетке, претенциозное V вместо U) и уселась за стол. Теперь, когда я могла сколь угодно долго разглядывать его таинственные бумаги, когда он не мог обнаружить меня за этим столом, зажечь свет, приблизиться и прервать моё занятие – я испытывала странное чувство. Бумаги казались раздетыми и беззащитными. Меня порадовал их беспорядок: в нём была жизнь, какую невозможно подделать. Гарамон то ли не успел, то ли (что вероятнее) нарочно не хотел ничего от меня спрятать. Он был до странности одержим честностью.
Мне хотелось целовать даже простые, случайные листки, на которых он писал. Карта какого-то полуславянского города на Дунае (жирными овалами обведены ратуша, вокзал, два музея и унылый замок). Интересно, откуда и зачем была она у него? Неужели он надеялся однажды покинуть страну? Я не знала ничего. Рекламная брошюра на непонятном мне диалекте. Счета за еду – со слезами я узнавала печёные овощи и грибы, которые мы ели всегда из одной тарелки. Затрёпанные билеты на дребезжащие душные автобусы – я никогда не заботилась об этом, никогда не помнила ни цвета автобуса, ни цены билета, ни даже следующего нашего пункта назначения: это всегда было делом быстроумного и властного Гарамона. Все эти бумаги лежали передо мной теперь, уязвимые, беззащитные и от этого наполнившиеся вдруг каким-то новым и большим смыслом.
Я приоткрыла дверь и украдкой посмотрела на своего математика. Он продолжал яростно работать.
Почему я так привязана к этому человеку, спросила я себя? Я отложила бумаги и задумалась. Вспомнила мир за стенами душного дома в Раге (переулок Сорур, улица Мехр, проспект Валиахд). Шумных, грубых мужчин, столь не похожих на того, с кем я росла, чужаков, внушавших страх. Я видела их постоянно, хоть и появлялась на улице редко, всегда в сопровождении Гарамона и закутанная в чадру. Они были повсюду, от них было не скрыться, и они были самой Рагой, её жизнью. Я сочувствовала их дочерям и жёнам и в то же время поражалась их стойкости, их храбрости, их выдержке – я почти восхищалась ими... А в следующее мгновение уже презирала их, и жалела, и называла эту выдержку безволием, а храбрость – глупостью...
Их мир казался мне не просто опасным - их мир казался мне неправильным. Выйти в этот мир казалось мне не только риском, но и ошибкой. Единственным истинным миром был для меня Гарамон.
К тому же, только мы двое и могли понять друг друга. Только мы двое были способны на это. Тот, кто не жил в доме удушья, не вздрагивал от полных ненависти окриков, не мучился от голода и заползающего в колени холодного страха, не смог бы понять меня до конца. Это мог быть один он.
И всё же почему, спрашивала я, мне ни разу не захотелось отойти чуть подальше, отпустить руку Гарамона, увидеть мир других людей и найти, как это принято, кого-то среди них?
Конечно, я всегда знала, в чём причина.
Истинная причина крылась в моём страхе.
Конечно, я боялась. Боялась нашей страны с её жестоким прошлым и беспокойным настоящим, боялась домов и площадей Раги, боялась шумных мужчин и мрачных женщин на проспекте Валиахд... И только в объятиях Гарамона я могла на миг испытать подлинное бесстрашие.
А ещё я вспоминала о странном противоречии Раги. В доме удушья было тяжело дышать, но едва мы оказывались на улице, на меня наводило ужас и тоску буквально всё: нищие старики, голодные дети, объявления о пропавших кошках и даже одинокие ржавые велосипеды. Всё вокруг казалось мне больным и сиротливым, всё беззвучно звало на помощь. Мне немедленно хотелось домой. Но был ли у нас дом? Было ли им удушливое здание в переулке Сорур?
Настоящий дом – это место, где человек имеет право не бояться. Место, где ты в безопасности. Место, принадлежащее тебе, место, где ты не самозванец. Где никто не назовёт тебя чужаком, не сможет унизить, не посмеет оскорбить. Место, где человек может быть бесстрашен.
Рага никогда не была для нас домом. И всё же мы чувствовали себя дома друг подле друга. Только в эти минуты, за дверью нашей тесной комнаты без окон, переплетаясь пальцами и ресницами, мы оказывались дома. А за дверью её начинались чужие земли, вражеские страны, огненные поля... Поля, где уходят в землю и становятся прахом белые кости, а по весне над ними расцветают алые маки – лишь для того, чтобы вскоре всё повторилось снова, чтобы свершился полный круг...
- Готово! – послышался голос Гарамона.
Я вздрогнула.
- Завтра же отправляю в N (он назвал один из самых авторитетных в те годы математических журналов).
Кивнул на ровную стопку листков – свою завершённую работу.
Потом сказал ещё что-то торжественное и непонятное – и тотчас уснул.
Был уже вечер следующего дня. Где-то за лесами солнце опустилось в Хазарское море. А потом стемнело. Я открыла свою тетрадь и начала писать обо всём, что с нами случилось. Я писала, пока над крышами домов не поднялось красное светило.
И тогда я взглянула на спящего Гарамона - и едва не закричала от изумления.
На лице его, озарённом оранжево-алым светом, было выражение, какого я никогда не видела прежде.
Это было прекрасное и совершенно незнакомое мне лицо.
Оно выражало абсолютное, сверхъестественное бесстрашие.
*
Прошлое хорошо тогда, когда оно не фотография, беспощадно проявляющая грубоватую красноту кожи и каждое воспаление на ней, а картина. И желательно – чуть расплывчатая, неясная, выгоревшая. Ведь большая чёткость вовсе не означает большую красоту, а передача всех без разбору подробностей — отнюдь не признак совершенства.
Годы спустя и в тысячах километров от Раги я буду вспоминать душный день, когда мы спускались к базару по жёлтой от пыли улочке какого-то городка. Из-за забора нас окликнул старик. Спросил, откуда мы родом. Гарамон назвал — гордо и непринуждённо одновременно. И, как это обыкновенно случалось, к великому смущению собеседника. Я молчала. Я никогда не понимала до конца, что именно овладевало мною в такие минуты: восхищение моим спутником или просто тоскливая, бессильная зависть.
Человек заговорил о войне.
- Жаль, - повторил он несколько раз. – Жаль. Вот как вышло-то, да?
Гарамон скривился – лицо капризного кронпринца, которое я так любила. Презирающий войны затворник. Невыносимый в своей одарённости математик. Он смеялся на четырёх языках, и на каждом по-разному. У него были янтарные глаза. Он писал левой рукой по листам старой бумаги, от которой хотелось чихать. Мне подумалось вдруг, что семнадцать веков назад его профиль мог бы украшать золотые монеты... А человек многозначительно смотрел на нас: то на Гарамона, то на меня, то на нас обоих разом. Смотрел с такой грустью, словно видел перед собой покинутые нами места, наши родные края и их несчастных, задыхающихся людей...
Той ночью, ближе к утру, когда стало можно отличить чёрную нитку от белой (в некоторых уголках нашей страны так по сей день определяют время), мой математик вдруг заговорил о задаче, которую решил больше пяти лет назад. Я слушала и с горечью понимала, что совсем этого не помню. Быстро щёлкнул зажигалкой – лицо его на мгновение осветилось и снова погрузилось в темноту. Я успела почувствовать волну мурашек: они прокатились вниз по позвоночнику, заставив меня дрожать.
Сама я никогда толком не курила в настоящем смысле этого слова. Просто иногда поджигала сигарету за компанию с Гарамоном (довольно долго соображая перед этим, с какого конца следует поджигать). Я могла извести её целиком, ни разу не затянувшись. Растерянно смотрела, как ползёт вниз красное пятнышко, а потом стряхивала пепел. Снова смотрела — и снова стряхивала, мучась от желания поцеловать его. Он приходил в ярость, когда я его перебивала – даже так.
И всё-таки интересно: у скольких людей в памяти мы остались, пусть и ошибочно, парой?
Вот мы идём вдоль обмелевшего ручья. В руках у Гарамона, в его длинных пальцах пианиста — два початка кукурузы. Он купил их с неожиданным восторгом (волшебно-мальчишеский смех!), расплатившись несколькими монетами. Торговец спросил, добавить ли соли. Он кивнул. «Дурно! – вынесет он вердикт, когда мы продолжим путь, и он на ходу откусит от лохматой жёлтой палки. – Я разочарован!» Из-за высокой стены выглядывает девочка. Сколько ей лет - девять? Десять? Чёрные ресницы, густые брови (о, стрелы ресниц и луки бровей!)... Со странным недетским любопытством она рассматривает того, кто рядом со мной. Я должна была бы тихо ей улыбнуться, но меня пожирает ревность, в который раз меня пожирает ревность, невыносимая, необъяснимая, неправильная – даже из-за этого ребёнка, даже сейчас...
Вот мы у тяжёлых резных ворот базара. Совсем рядом - надрываясь, не щадя собственного горла, кто-то кричит: смеющиеся фисташки, смеющиеся фисташки! Это значит, что скорлупка ореха уже треснула, и её можно разгрызть зубами. Гарамон подходит к меняле, тот узнаёт его, шумно приветствует. Они перебрасываются несколькими фразами. Он достаёт потрёпанные бумажки, вручает меняле; меняла пересчитывает их с каким-то кошачьим удовольствием, смачивая палец слюной и почти плотоядно (или это мне только кажется?) поглядывая на Гарамона... Вот мы, пробравшись сквозь галдящую толпу, остановились у одного из рядов. Он договаривается о чём-то с торговцем. Выбирает травы. Я втихаря пробую сушёные тутовые ягоды: они сладкие и чёрные, на них косая полоса солнца, за день они нагрелись и теперь лежат тёплые... Как эти люди смотрят на Гарамона!..
Помню ещё, как мы бедно ужинали в одном городке близ Сорхабада, и мой измождённый сотрапезник, не обращая внимания на дымившийся перед ним густой чечевичный суп, листал какую-то книгу. Потом рассеянно, глядя куда-то мимо меня, поднял руку, чтобы потрогать бледный шрамик у себя на виске — и мне захотелось рыдать от нежности, от обожания и отчаяния... И, конечно, расхотелось есть.
В те дни я часто думала о прошлом нашего края и его безвестных людях. О тех, кто жил там, где теперь Рага. О тех, кто нюхал ветер на берегу Хазарского моря. Кто ходил, кто сидел на том месте, где сыграли свою короткую шахматную партию мы с Гарамоном? Какие слова говорили, какие стихи пели на том месте, где мы столько раз пили бледно-зелёный чай, горький кофе с мутью и обжигающий горло подпольный арак? Они говорили на неизвестных нам языках. Они видели мир, нарисованный неведомыми словами. Предметы в нём двигались не так, звучали не так, как наши. Я думала: что, если эти безымянные люди оставили нам в наследство свои истории и свои беды? Наполнили мир силой своих слёз, своей нежностью и своей ненавистью, своими кошмарными снами, своей надеждой и своей бесконечной грустью... Я воображала девочку из душной Раги, век пятый или шестой; девочку, влюблённую в своего единственного дальнего родственника с рыжевато-карими глазами, девочку, оставившую свою страсть для меня, девочку, чью страсть ношу теперь, как венок из красных цветов, я...
Так скольким случайным прохожим мы попались на глаза вместе? Сколько человек, пусть на самый краткий миг, сочли нас обыкновенной счастливой семьёй, подобной другим? В скольких мирах, в скольких вселенных это было, пусть и недолго, правдой?
Есть вещи, проверить которые невозможно. Их можно только придумать. И написать о них.
И теперь я думаю о миллионах лет, о времени звёздном и океанском, о времени трав и угля, времени душных лесов и гигантских стрекоз, времени дождей и песка; думаю о тысячах лет, о времени охотников и землепашцев, о времени камней, бронзы и железа, о времени забытых богов и богов живых; о времени войн и песен, о времени умов и времени сердец; думаю об алых маках, всходящих каждую весну на месте пролитой крови, об их гибких стеблях, вьющихся среди чьих-то белых рёбер и пустых глазниц — и изумляюсь тому, что живу в одном времени с Гарамоном. Я вспоминаю о том, что мы носили одно лицо и одно имя, пусть он и появился на свет с янтарными глазами, а я – с глазами цвета воды. И о том, что в один из дней, когда весна уступает лету, в семнадцатый день того месяца, когда ночи светлы, а предметы не отбрасывают теней, мы стали друг другом и уже не разлучались. Это был день рождения Хаммара, и тогда мы убедились, что он был нашим незримым покровителем. Я вспоминаю, как, начав наши странствия, счастливые в их безнадёжности, мы поняли, что отныне дом для нас – в объятиях друг друга. Я пытаюсь вспомнить, сколько раз видела свет звёзд сквозь объятие Гарамона и сколько раз – свет солнца, сколько раз я плакала до синевы в глазах и сколько раз он выпивал мою грусть до дна, сколько раз губы его пахли моей кровью и сколько раз мои губы покрывались его солью. Я пытаюсь вспомнить – и понимаю, что это невозможно, что все числа давно свернулись в короткое слово «вечно». И тогда мне хочется рыдать и благодарить - сама не знаю, кого или что.
А ещё я думаю о самой яркой звезде в созвездии Ursa Major. Говорят, что свет её летит до Земли целых восемьдесят лет. И если однажды какой-нибудь молодой путешественник окажется в Раге, возможно, он увидит её именно такой, какой она была в тот далёкий год, когда я подолгу смотрела в ночное небо — а потом, затаив дыхание, вглядывалась в лицо Гарамона, зеленовато-голубое от звёзд.
Какими, интересно, были они на самом деле?