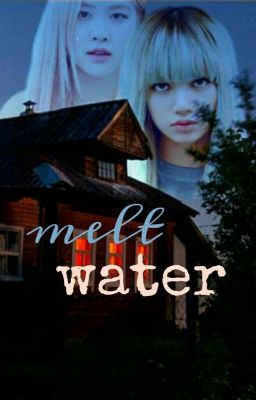one
ficbook: чарли браун
приготовтесь. эта история...она...она немного пугающая.
произошедшее той весной в деревне сквозь все сказанное, увиденное, спетое, передуманное и перепугавшее их до седых волос, в конечном итоге преодолевает мнимые амплитуды кажущейся невозможности такой цепочки событий, возвращается к истокам - полному штилю, замыкаясь, совершая полный круг. что-то поменялось, перевернулось в голове и сердце; что-то щелкнуло где-то в подреберье, так, что каждый вдох полной грудью теперь вызывает легкое головокружение. и одновременно с этим чеён, внимательно оглядываясь, не может уверенно сказать, что за эти три месяца, вместившие в себя десять, двадцать, сотню лет неизвестных математикам и аналитикам величин, что-то вообще поменялось, что что-то сдвинулось с некой мертвой точки. только холодный ветер, путавшийся в голых ветвях деревьев в марте, к концу мая весь пропитывается запахом травы, лета и гари.
той весной в деревне все точно так же, как было восемь лет назад, как было, когда они с мамой уезжали - с этих крошечных островов, из страны, обрубая прожитые поколениями предков годы - в новый мир, в новые парадигмы, забывая, как звучит родная речь. пара десятков небольших, обветшалых домов; вниз по склону и ухабистой дороге - доки и еще ниже - старый причал с парой пришвартованных лодок, медленно покачивающихся на волнах. март: кипа счетов за международные звонки, мятый, бесцветный дедушкин голос на том конце, тошнота от долгого перелета, быстро охвативший поток родной речи, от которой успела отвыкнуть, старый паром. стоя на самом верху смутно знакомого склона, спиной к россыпи крошечных домиков, чеён пытается усмотреть в море те восемь лет, которые неизвестно куда канули, неизвестно как утонули.
веет холодом.
деревня стоит во времени мертвой точкой, незыблемая и неподвижная, со всеми своими людьми, чьи дома пропахли рыбой и солью. вечером первого же дня бабушкин дом до отказа начиняется ими, и еле-еле дышит через силу - острые запахи специй, духота и пар от беспрерывной совместной готовки, сдвинутые в один несколько длинных столов. дедушка сидит во главе - хмурый, сгорбленный, опирается о стол сжатым кулаком одной руки, пока другой мнет в кармане рецепт, несколько недель назад оставленный врачом с большой земли. за закрытой дверью бабушка говорит, что нехорошо вот так: не выйти к гостям, и ее поднимают на кресле в четыре руки, несут в гостиную, усаживают рядом с дедушкой, глядят на прорвавшуюся сквозь болевые спазмы улыбку.
сощурить глаза, так, чтобы все вокруг поплыло, и вот уже кажется, что ничего и не менялось с последнего раза, когда они всей семьей принимали гостей. деревня стоит на месте. а вот чеён с мамой убежали - и стали другие. чеён берут под руки, чеён рассматривают, столпившись, расспрашивают, улыбаются. галдят наперебой - какая выросла, только подумать - и наперебой даже не то, что сравнивают с мертвыми родственниками - лепят из них: нос того-то, губы той-то, характер - ну точь-в-точь как у тех-то.
пожилой сосед, хмуря испещренное морщинами лицо, шутит, что чеён совсем позабыла корейский; спрашивают про учебу, про пустыню виктория - чеён спрашивают обо всем на свете, всем хочется что-нибудь да услышать о другой стране, о большой стране, о полярной реальности - и только море, темное и тихое, молчит, когда, спустя годы, снова встречает чеён.
председатель, произнося тост и замерев с стопкой соджу в толстой ладони, говорит: как приятно снова видеть вас с нами.
как жаль, что по столь печальному поводу.
той весной запах лекарств в доме перебивает даже запах еды и сыроватую духоту, свойственную постройкам на побережье.
в сарае, общем на три дома, чеён отыскивает старое металлическое ведро с парой вмятин и прикидывает, как купит новое в следующий раз, когда отправится на большую землю на пароме. обязательно рыжее. бабушка любит рыжий цвет, всегда любила - долго шила большое и теплое покрывало на их с дедом широкую кровать, чеён смутно помнит что-то такое из детства.
а теперь бабушка лежит под этим покрывалом, дыша чудовищно медленно, так, словно боится спугнуть пылинки, кружащие вокруг в потоках солнечных лучей. но это все иллюзорно, чеён знает. и дело даже не в запахе лекарств, который впитали, кажется, уже и кожа, и одежда, а в том, что бабушка вообще ничего не боится; даже улыбаться потрескавшимися губами, каждый раз совершая над собой нечеловеческое усилие.
чеён вымывает полы в доме, ползает с тряпкой из угла в угол по нескольку раз, хорошо проветривает комнаты и моет окна, моет посуду, таскает белье в общую на всю деревню прачечную (крошечный одноэтажный дом с тремя громоздкими стиральными машинами, выстроенными в ряд), убирает во дворе, готовит ужин, но запах микстур и таблеток все равно висит в доме, заполняя каждую комнату до краев.
мама почти не отходит от бабушки, отказываясь поменяться с чеён даже на полчаса и шелестя то и дело упаковками от одноразовых шприцов (звук, от которого по загривку пробегаются мурашки). она пропускает приемы пищи, все откладывая на необозримое потом, и позволяет себе расслабиться, откинувшись в кресле, только когда бабушка ненадолго проваливается в сон.
дедушка, возвращаясь вечерами, вносит с собой в дом запах рыбы и сырости, и не раздевшись даже, а только стянув свои рыбацкие сапоги, сразу идет в спальню, и подолгу стоит в дверном проеме, смотря в упор на бабушку и совсем, совсем ничего не спрашивая.
ужинают молча и быстро, а потом расходятся: деда - к бабушке, подержать за холодную руку, проверить запасы лекарств по списку, поговорить вполголоса о чем-то своем; мама - поспать пару часов в их с чеён комнате (а ночью все равно будет ворочаться рядом на разобранном диване и тяжело, загнанно дышать); чеён - на крыльцо, прислониться к стене и смотреть, как все вокруг постепенно тонет в ночи, а небо из серого разом в темное, беззвездное. март - холодные, сильные ветра, шумное море и частый дождь, а чеён все стоит, стоит, стоит, пока не замерзнут руки даже в карманах самой теплой дедушкиной куртки, пока вся деревня не замрет и не растает в тумане. пока за спиной, в доме, все не затихнет.
поздними вечерами дедушка сидит с ней на кухне, гладя ладонями, огрубевшими от десятилетий ежедневной работы веслами, кайму старинных фарфоровых пиал. соблюдая вечные негласные договоренности, они все делят надвое: чеён моет посуду, а дедушка насухо вытирает ее застиранным полотенцем с маркировкой сеульской олимпиады. а потом, громыхая, раскладывают по полкам в четыре руки: чеён - с непривычки и в ставшем почти чужим доме, дедушка - потому что дрожат руки. и сидят еще потом до глубокой ночи, разговаривая, как они всегда умели, обо всем на свете. в соседних комнатах спят мама с бабушкой, все наполнено тишиной, и не горят даже желтоватые, мутные лампы, и тогда кажется, что вокруг на сотни километров за холодным оконным стеклом - только ночь, и в ней нет никого, кроме чеён и дедушки, до самой большой земли. дедушка всю жизнь провел в море, и сам пахнет солью и холодом, а говорит как сказочник из древних легенд. дедушка разливает чай - снова, только теперь на них двоих, а не на всю семью; становится усталый и почти мрачный, и говорит чеён: чем больше всего узнаешь, тем тверже уверяешься, что не знаешь вообще ничего, и тем большее хочется исследовать, рассмотреть, разобрать на детали, и в толще своих вопросов тонешь, увязая, как в трясине; идешь ко дну.
рано утром он уходит в еще темное с ночи море, а чеён слушает, как он гремит у входной двери, возит по полу походной сумкой с приготовленным вчерашним вечером обедом, скрипит высокой рыбацкой обувью.
сном накрывает, как тяжелой волной, уже в предрассветном сумраке, и через несколько часов день начинается заново - как под копирку снятый с предыдущего, как по кнопке повтора на старом кассетном плеере. всюду одно и то же - то же безлюдье за окном, тот же запах лекарств, пронизавший дом, мама все так же уставшая, бабушка, улыбающаяся все так же через силу. изо дня в день.
чеён приобретает привычку засиживаться в прачечной, слушая, как гудит барабан в стиральной машине. гадая, что громче - этот гул или шелест, с которым море опускает волны на неровную, кое-где непролазно поросшую высокой травой, линию берега.
когда чеён была маленькой, прачечной не было, а дом этот был сырым и темным складским помещением, заваленным веревками, ящиками со специальными отделениями для снастей, сломанными веслами, спасательными жилетами, которые своими светоотражательными пластинами смотрели из темноты, как чудовища, множеством глаз. чеён, может, и забиралась бы сюда, но одной было страшно, а других детей в деревне тогда почти не было, и все - сильно младше. оставалось только обходить склад десятой дорогой и крепко держать дедушку за руку, если вдруг случалось подойти опасно близко.
а теперь - теплое, светлое помещение, которое и покидать не хочется; в котором хочется запереться на все замки и никуда не выходить, провести целую вечность наедине с гулом, в котором вся прочая жизнь тонет, как танкеры в бермудах.
это невозможно, конечно, как невозможно остановить время и замереть в одной точке. иллюзия, что родная деревня восемь лет назад и сейчас - тождество, по частям распадается уже через пару недель, стоит только чеён присмотреться к ней, как следует. меняются здания, меняются люди: из складских помещений получаются прачечные, из взрослых людей - старики. малышня, с которой чеён было когда-то так скучно играть в салки, теперь грустные и тихие подростки, а в ветхом доме тетушки, торговавшей раньше специями, теперь живет пранприя - улыбчивая тайка с огромными слезливыми глазами.
она просит называть ее лалисой.
чеён в день их сумбурной встречи домой уходит без пакетика молотого красного перца, но с новым именем на языке. а на следующий день встречает лалису в прачечной, и они говорят целый час о всякой ерунде - беседа идет легко, будто они уже были знакомы тысячу лет; и потом еще вечером, когда выходит, по обыкновению уже, на крыльцо подышать. лалиса идет мимо дома чеён куда-то к склону - к пристани, наверное, и поднимает вверх ладонь, достав ее из кармана желтого плаща-дождевика.
- привет.
еще через пару дней лалиса рассказывает, что работает тут же - моет полы в доках и сидит на кассе в крошечном продуктовом магазинчике смену через трое.
к воскресенью полки пустеют, приплывает паром.
лалиса говорит, что пошла бы и ящики разгружать, потому что интересно по кораблю туда-обратно и в доки потом, но моряки упрямятся и не дают таскать тяжелое.
- куда? рассыпешься, - смеется сынхён, когда в следующее же воскресенье лалиса ведет чеён на пирс встречать паром. и сам берется за большой деревянный ящик.
с ним сложно спорить: лалиса невысокая и почти неприятно тощая, со спины ее запросто можно принять за ребенка. кости страшно выпирают, обтянутые светлой кожей - чеён сама только полчаса назад видела, как лалиса переодевалась в чистую футболку после смены в доках.
в магазине чеён с парой других ребят помогает лалисе раскладывать продукты по белым полкам, а потом уходит домой - встречать дедушку и разливать по тарелкам никому не нужный ужин.
мама смотрит странно.