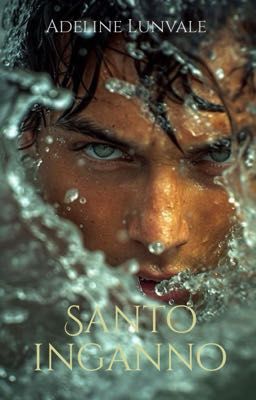Глава 1
Флоренция, утро.
Город ещё не проснулся, но в моей мастерской уже светло — холодный, блеклый свет
растекается по полу, цепляется за кисти, за края холстов, за утреннюю тишину.
Я держу в руках последний фрагмент. Холст — охра и светлый кобальт, тёплый и хрупкий.
Он будто дышит. Эта картина жила со мной всё это время — как идея, как голос в голове, как
упрямая мысль, не отпускающая, пока не оформится в форму.
На центральной части — руки. Мои. Женские, вытянутые вверх, синеватые под кожей —
будто вместо крови небо. В ладонях — звезда. Настоящая. Не нарисованная, а выжженная в
ткани, как след от света.
Остальные куски — облака, дорога, колени в пыли. Где-то на фоне — человек спиной. Не
знаю, уходит он или ждёт.
Это я.
Это я пытаюсь поймать невозможное.
Это я, которая перестала бояться.
Я сажусь на пол и начинаю собирать. Один фрагмент за другим. Это не просто техника — это
ритуал. Я не пишу, я собираю правду из лоскутов, как жизнь. Мозаику из того, что
чувствовала, чего боялась, о чём молчала.
Когда всё готово — поднимаюсь, смотрю. Картина неровная, с грубым швом посередине. Но
честная.
— Хватит мечтать, — говорю себе. — Время собираться.
Я ещё пару минут стою перед ней. Не могу оторваться.
— Она идеальна, — шепчу . — Её должны забрать за миллион долларов. Или хотя бы понять.
Я снимаю халат, переодеваюсь. Всё лежит на кресле: футболка, джинсы, шарф, пахнущий
красками. Собираю кисти, блокнот, упаковку с красками. Картину складываю в папку,
аккуратно — будто в ней не холст, а что-то живое.
На кухне пахнет кофе и поджаренным хлебом.
Папа уже здесь. Сидит у окна.
Я сажусь напротив. Он наливает мне кофе, режет апельсин. Мы не обсуждаем, зачем я еду.
Никогда не обсуждаем. Он просто знает. Уже не первый раз.
— Возьми орехи, — говорит он, кладя пакет на стол. — В прошлый раз ты всё забыла.
Я улыбаюсь. Он помнит.
— Спасибо, пап.
Он подаёт мне коробку с булочками.
— Вдруг снова забудешь есть, когда рисуешь.
Я киваю, молча. Не могу сказать, как мне важно, что он делает всё это — просто, спокойно.
Как будто знает, что именно мне нужно.
У машины на заднем дворе уже ждёт брат, занятый разговором с соседом.
Стоит, прислонившись к дверце, жмурится от солнца. Заметив меня, заканчивает разговор и
сразу становится веселей — в разы, будто мечтал, когда я уже покину наше семейное гнездо.
— Ты как всегда драматично собираешься, — говорит он, подхватывая чемодан.
— А ты как всегда очень счастлив, что я уезжаю, — отвечаю.
Папа кладёт в багажник папку с картиной, очень осторожно.
— Позвони, когда приедешь.
— Обязательно.
Он обнимает меня крепко, как в детстве. А брат хлопает по плечу — мол, держись.
Я сажусь за руль. Они остаются стоять на тротуаре, и вдруг — чувствую укол внутри.
Ностальгия по тому, что ещё даже не закончилось. Но я вернусь — это только на четыре
месяца. Не больше.
Флоренция остаётся позади.
Впереди — Леричи.
И, возможно, всё, чего я давно жду.
Когда-то я выбрала правильную дорогу. Университет, юридический. Папа гордился, я
старалась. Училась на отлично. Все говорили, что у меня блестящее будущее. А внутри —
тишина. Глухая и пустая.
Я перестала есть, перестала спать, перестала рисовать. Тогда-то и поняла: мне не нужно
будущее, которое все мне придумали. Я хочу настоящее, пусть даже странное, неровное, но
моё.
Когда я пришла к нему и сказала, что ухожу с юридического и поступаю в Академию, он
долго молчал. Потом выдал:
— Если это заставляет тебя жить — живи. Но от меня не получишь ни копейки. Своё
искусство — корми сама.
И я кормила. Работала официанткой, спала на полу, ела рис с солью. И дышала впервые по-
настоящему.
Через два года он сам пришёл на мою первую выставку. Стоял сзади, молча. А потом сказал,
как будто между делом:
— Надеюсь, когда-нибудь твоя мазня принесёт тебе состояние. Или хотя бы хватит моего
после смерти. Я закинул тебе карту, пользуйся.
И всё. Никаких «прости», никаких «ты была права». Просто дал понять: он видел. Он понял.
Я свернула с трассы. До Леричи оставалось меньше получаса.
Когда отец тогда сказал, что я не получу от него ни копейки, я сделала вид, что мне всё равно.
Но на самом деле — мне было страшно. Даже стыдно. Я не умела продавать, не умела
просить. Жила идеей, а не расчётом. Но идея не платит за еду.
Тогда один знакомый с философского курса — я даже не помню его имени — однажды за
чашкой кофе сказал:
— Зачем ты пытаешься выжить во Флоренции? Галереи там, где туристы. Ищи прибрежные
города. Где люди расслаблены и у них деньги в карманах.
Он прав. Я начала искать. В какой-то момент, в отчаянии, просто ткнула пальцем в карту.
Попала в Леричи.
Первый раз я приехала туда без плана. Без связей, без уверенности. Просто с картинами в
багажнике. Жила в дешёвой комнате с дурацким балконом и облезлой мебелью. День за днём
обивала пороги галерей, пыталась выставляться хотя бы на каких-то стендах. Все
отказывали.
А потом я познакомилась с Кларой.
Она держала маленькое кафе у воды. Садик с белыми скатертями, висящие лимоны, вид на
лодки. Она посмотрела мои работы — и, к моему удивлению, сказала:
— Они живые. Пусть висят у меня. Я знаю, кому их показывать.
Так всё и началось. Я повесила пять картин на задней стене кафе, и Клара показывала их
своим "знакомым". До конца сезона продались только две — но их купили за пятнадцать
тысяч долларов. Это казалось чудом. Мне хватило, чтобы вернуться в академию, арендовать
мастерскую, купить нормальные краски.
Следующее лето оказалось удачнее. На одной пляжной вечеринке — я туда вообще не
собиралась идти — я разговорилась с женщиной из Парижа. Её звали Лоранс, она занималась
интерьерным дизайном. Смотрела на мои руки, а потом спросила:
— Ты художница?
Я показала ей пару фотографий своих работ с телефона. Она попросила приехать на
следующий день в отель и показать всё, что у меня есть.
Через три дня она купила почти всё — на полмиллиона долларов. Тогда я не знала, как себя
вести. Хотелось плакать, смеяться, прятаться. С тех пор Лоранс присылает заказы пару раз в
год. Немного, но стабильно. Она говорит, что мои картины "умеют молчать", и что в тишине
люди верят в красоту.
Клара же продолжает продавать понемногу, по своим туристам, в сезон. А я... Я поняла, что
Леричи — это не просто точка на карте. Это место, где я могу быть нужной.
Прошлое лето было щедрым. Мне хватило, чтобы не нуждаться весь год. Но деньги уходят. А
вдохновение, как выяснилось, тоже требует заботы.
Поэтому я снова здесь. С надеждой. И со страхом. Но с полной папкой новых работ. А это
уже немало.
Леричи.
Я въезжаю в него, как в жаркую воду. Машина медленно катится по узким улицам, а я
открываю окна и сразу чувствую — воздух совсем другой. Он как будто пьяный. Тяжелее,
чем во Флоренции, но не давит. Он обволакивает, как чужой плед с запахом чужих духов,
который почему-то хочется оставить на себе.
Город шумит. Всё кишит людьми — бедными и богатыми, нарядными и небрежными, с
зонтиками и айфонами, с обветренными щеками и кольцами по локоть. Тут все перемешано:
дорогие каблуки на неровной брусчатке, выгоревшие шляпы, дети с липкими пальцами,
люди, которые целуются так, будто им нечего терять.
Этот город умеет дышать громко. Как будто он только что проснулся и уже пьёт четвёртый
апероль.
На светофоре я вижу мужчину в дорогом белом льне, который ест пиццу с пластикового
подноса. Рядом — женщина в купальнике и с бокалом просекко. Туристы — со всех концов
света. Кто-то приехал жить красиво, кто-то просто сбежать. И всем здесь будто разрешено
быть кем угодно. Даже тем, кем быть не решался весь год.
Где-то на спуске к воде играют уличные музыканты. Кто-то машет в окно — я не знаю, мне
ли, но я машу в ответ. Леричи снова принял меня. Точно так же, как тогда — в первый раз.
Без гарантии, но с этой странной уверенностью: если ты готов — он тебе даст шанс.
Солнце уже почти в зените, и всё покрыто бликами. Дома, окна, лица. Я еду медленно, не
потому что надо — потому что не хочу торопиться. Я хочу смотреть. Впитывать. Кажется,
моё вдохновение уже выехало мне навстречу — в этих лицах, этих цветах, этом ленищем
безразличии к «важному».
Я поворачиваю к дому. Он на холме, не слишком приметный, но с видом, от которого
невозможно оторваться.
Этот дом я снимаю уже третий сезон — чистое везение. Он всегда «случайно
освобождается» к моему приезду, будто сам город хочет, чтобы я возвращалась. В нём всё
скрипит, всё живёт своей жизнью, и всё это — моё на ближайшие месяцы.
Паркуюсь. Тихо глушу двигатель. Смотрю на ворота. Знаю, за ними жара, запах цветущего
розмарина и потрёпанный диван на веранде.
Я приехала.
Во дворе пахнет горячей землёй, пылью и чем-то сладким, будто запекшимся инжиром. Я
поднимаюсь по знакомым ступенькам — тут каждое пятно на стене, каждая царапина в
перилах свои, родные. Меня встречает хозяйка — синьора Альба. В лёгком шёлковом платье
с цветочным узором и в элегантных туфлях на тонком каблуке, она выглядит так, будто
сейчас идёт по набережной, а не встречает жильцов.
На губах у неё — чуть смазанная от жары алая помада, на ушах — янтарные капли серёг в
золотой оправе. Глаза блестят, как у человека, который уже прожил много, но по-настоящему
устал — ни разу.
— Вивьен, amore mio! — с порога раздаётся её голос, полный восторга. — Ты снова сияешь!
Я знала, что вернёшься!
Она обнимает меня крепко, чуть прижимая к себе, и целует в обе щёки. Её духи — лёгкие,
цитрусовые, но с горьким, сухим послевкусием, как белое вино.
— Как прошли эти полгода? — спрашиваю, беря ключи из её ладони.
Альба закатывает глаза, всплеснув руками:
— Ужасно. Эти иностранцы, что жили тут до тебя... Беженцы, говорили. Я сперва пожалела
— ну знаешь, сердце у меня мягкое. А потом... ни "буонджорно", ни "граци". Ходят мимо,
как будто я мебель.
Она вздыхает тяжело, как будто вся боль мира легла на её плечи, и продолжает:
— А потом вообще не заплатили вовремя. Я им — "Синьоры, извините, но так нельзя", а они
— молчат. И тут дети их — вот такие мелкие! — разрисовали мне забор. Пятнами! Красками!
Я их выгнала в ту же ночь.
— Сразу? — спрашиваю, удивлённо приподняв бровь.
— Мгновенно. Сказала им: "Если не умеете жить красиво — не живите у меня!" И всё. Я
снова свободна. И ждала тебя. Моё солнышко.
Я улыбаюсь, принимая ключи.
— Номер квартиры ты и так помнишь, — добавляет она. — Я пойду, Лоретта уже ждёт меня
в кафе. Один бокал вина, не больше, ты же знаешь... хотя мы так всегда говорим.
Она подмигивает, целует меня в щёку и исчезает за калиткой, а её каблуки радостно стучат по
каменной дорожке.
Дверь поддаётся легко — чуть скрипит, как будто шепчет: ты снова здесь. Я вдыхаю глубоко.
Этот запах... Он ни на что не похож. Пыль, застывшая в солнечных лучах, дерево старых
рам, остатки чьих-то духов и тонкая нота соли — будто ветер с моря затерялся в шторах и
остался тут жить.
Я не включаю свет. Не нужно. Я помню всё. Как ступенька пола чуть ниже у входа. Как мягко
гнётся диван, если сесть не на середину. Как стол в кухне стоит строго под лампой, которую
Альба называет «единственной моей роскошью в этом доме».
Ставлю чемодан в угол, не спотыкаясь, не нащупывая. Я как будто не приезжала, а просто
вышла на минуту за хлебом.
Прохожу на кухню. Здесь пахнет иначе — душистее. Как будто сама комната знает, что
создана быть сердцем дома. Здесь тепло даже в темноте. Пряный аромат засохших трав, чуть
сладкий — наверное, оставшийся после прошлых жильцов чай с кардамоном. Кухня будто
улыбается. Характерная, с медными ручками на ящиках, выщербленным фарфором и
скатертью в горох, на которой застыл след от чашки — круглый, почти идеальный, как луна.
Я глажу ладонью столешницу — гладкую, прохладную. Ты скучала по мне? — спрашиваю
про себя.
Потом иду в спальню. Там мягко, как во сне. Воздух здесь другой — сладкий, как ваниль и
тёплое молоко. Пахнет постельным бельём, пудрой и чем-то из детства. Спальня — как
зефир: светлая, сливочная, с нежными углами и тканями, которые будто приглушают любые
мысли.
Я бросаюсь на кровать. Матрас прогибается идеально. Не слишком мягкий — но обнимает.
Подушки пахнут солнцем.
Шторы здесь — как лёгкое платье на женщине, знающей себе цену. Полупрозрачные, с едва
заметной вышивкой. Они колышутся от ветра, играя в медленный танец с морским воздухом.
И вдруг я понимаю — я снова дома. Пусть временно. Пусть на лето.
Но здесь — моё место.
Я лежу на кровати, глядя в потолок. Сквозь тонкие шторы просачивается вечерний свет —
золотой, как масло на пальцах. Где-то за окном смеются, слышен звон бокалов и собачий лай.
Всё кажется неторопливым, правильным.
Пусть мир шумит, бегает, меняется — я дала себе лето. Четыре месяца, чтобы творить,
менять, решаться и идти к своей цели.
И этого — уже достаточно.