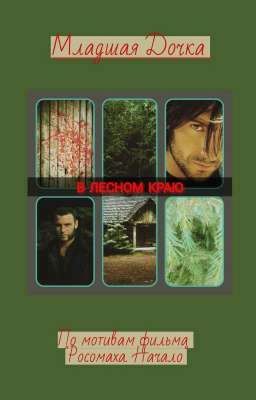5. Пуговицы
Ивон, которая так и не вспомнила ни родной речи, ни того, как проявлять характер (какой-никакой, а он у неё всё же имелся), то ли внесли в дом по ужасно скрипучим полам, то ли втолкнули в него.
Джейми не было видно — он, должно быть, и впрямь пошёл спать. Может, на чердак или в какой-то закуток в лесной развалюхе. Сама же девушка оказалась в тесной, грязной и неряшливой комнатёнке, которую освещала лишь всё та же масляная лампа, с какой младший оборотень встречал старшего на крыльце. Она сильно чадила и издавала довольно резкий малоприятный запах, но позволяла разглядеть старую неуютную кровать с рваным, больше похожим на пыльный саван, покрывалом, многолетний сор, паутину и унылые обломки неказистой мебели. И его — человекозверя с красивым именем Виктор.
Его невольная гостья осмелилась посмотреть в глаза, которые так пугали её — не сказать бы, что робкого десятка девушку. Он смотрел заинтересованно, насмешливо-дерзко и чуть задумчиво. Какие мысли скрывал в себе этот взгляд? Не о том ли, как поизощреннее замучить?
Девушка с трепетом искала в серых зеркалах его души ответ на свои вполне обоснованные страхи, однако в глазах Вика ни доброты не было, ни откровенных намёков на что-либо дурное. Вроде бы и бед не сулил его взор, однако, увы, и не обнадеживал. Обжигал только, словно окружал со всех сторон диким пламенем.
Ивон под этим взглядом будто вся покрылась паутинкой из стыда и смущения. Наверное, глупо теперь было прятать от него грудь, которую Вик успел не только рассмотреть, но и потрогать, однако руки сами метнулись вверх, к обрывкам одежды.
А оборотень, как-то нагловато, что ли, усмехнувшись, стал, наоборот, раздеваться: небрежно скинул на пол сюртук и принялся расстёгивать пуговицы на жилете. Вот только беда: этому простому действию сильно мешали когти и чудное строение негибких, далёких от изящности пальцев. Он уж хотел было со злости рвануть края одежды, но Ивон вдруг, совершенно неожиданно для самой себя, метнулась в его сторону и выпалила (впервые с тех пор, как увидала):
— Давай помогу.
Ещё живя счастливой девочкой у родителей, она всегда помогала соседскому пареньку с этим делом. Тот то ли и впрямь не умел, то ли отчаянно ленился, но руки Ивон всегда тянулись пособить. Так и теперь вот дёрнулись, но застыли в паре футов от заветных пуговиц — а вдруг не позволит? Не мал ведь уже.
Однако юноша молчал и стоял неподвижно, всё так же настойчиво и странно буравя её взглядом с непроглядной чернотой зрачков. И Ивон, презрев нерешительность, коснулась плотной когда-то, но теперь истрёпанной шерстяной ткани. Материя непонятного тёмного цвета оказалась вся изодрана — должно быть, всё теми же когтями, и девчонку, пока она одну за другой освобождала от петель полуоторванные пуговицы, кольнуло что-то вроде сочувствия, ведь как не сходились друг с другом эти когтистые руки и одежда с пуговицами.
Кисти её подрагивали и время от времени делали не то, но не так уж это и трудно — обычными пальцами справиться с застёгнутым жилетом. Сложнее поднять голову и взглянуть на его владельца, терпеливо ждущего, что же будет дальше.
И всё же Ивон решилась. Парень, почти не мигая, точно зверь в засаде, смотрел на неё, но теперь уже как-то совсем иначе. Как именно, трудно было сказать, но в какой-то миг, которого ни за что не приметить, в нём что-то будто резко переменилось, как, бывает, накатывает ненастье. Из глаз его исчезла вся прежняя вздорность и жёсткость, и девушка, пытаясь понять, что же видит в них теперь, застыла, так и не убрав рук от одежды на груди оборотня.
Ивон по-прежнему было страшно и вместе с тем волнительно от близости к большому мужскому телу и к тёмным безднам на его лице, звериную черноту которых всё больше и больше заволакивал серый сумрак, как и раньше непонятный, но вполне человеческий. Очень даже человеческий. Такой, что захотелось вынуть из щетины на его лице случайно застрявшую там частичку древесной коры.
Виктор в ответ на это вздрогнул, напрягся. Ивон и сама была не своя от происходящего, но точно цепенела под непонятным тяжёлым взглядом, дурела, но не могла (и — Господь Всемогущий! — не хотела даже) вырываться из-под действия этих чар. Как заворожённая стояла едва ли не обнявшись с ним, совсем ещё недавно ужасным лесным чудовищем, жестоким, резким и беспардонным, но теперь, как показалось, каким-то совсем иным, и забыла даже думать о том, для чего, собственно, он привёл её в своё страшное логово.
Наверное, она, одурманенная его чащобным колдовством, сейчас и согласилась бы буквально на всё, но он по-прежнему стоял и смотрел, будто ожидая чего-то или о чём-то мучительно мысля.
— Ложись, — приказал он вдруг, очень низко и хрипло, почти что неразборчиво, как будто с трудом, и, не дожидаясь, пока смущённая и растерянная Ивон выполнит его команду, не слишком резко, но не оставив выбора, оттолкнул девушку от себя и заставил опуститься на лежанку.
В горле у Ивон, и так давно уже пересохшем, защипало ещё сильней, но тот, кого можно было бы принять за лесное чудовище, оказался ещё обманчивее, чем думала о нём его гостья-пленница.
Парень сел рядом с ней, заставив несчастную лежанку жалобно взвизгнуть под тяжестью тела, уложил Ивон и сам лёг рядом. Просто лёг, обняв большой когтистой рукой — не раня, не вторгаясь туда, куда, наверное, должен был бы по всем статьям вторгнуться, но и не позволяя выскользнуть, вырваться из-под своей власти. Колючее от щетины лицо, чуть поёрзав, должно быть, в поисках удобного положения, уткнулось ей в затылок.
Ивон лежала на левом боку, а молодой человек из леса примостился к ней сзади, и юная батрачка с сыроварни всё ждала со смешанными чувствами, что мужские губы начнут бесцеремонно целовать её, а руки — присваивать и то, чего уже касались, и то, к чему ещё не успели притронуться. Однако в холодных объятиях грязной лежанки когтистые руки только грели, дыхание, ровное и размеренное, легонько обдавало шею теплом. Виктор спал. Девушка рядом с ним, сперва боявшаяся вздохнуть поглубже, в конце концов тоже забылась: сегодня столько всего произошло, что ни на страхи, ни на сомнения, ни на мысли о чём-либо сил просто не осталось.
***
Вик проснулся и ощутил рядом что-то весьма и весьма приятное. Он лежал на боку, а девка, у которой он вчера не спросил даже имени, всё так же спала к нему спиной, вызывая непонятные ощущения и мысли. Вроде бы и прижималась аппетитным задом (хороший, кстати, зад: в меру большой, мягкий — так и тянет, так и зовёт «вставить», и как вкусно от него пахнет из-под сомкнутых бёдер!), но понять, отчего же не взял её вчера, а как последний дурак просто уснул с нею рядом, хоть ты тресни, не получалось.
Вик форменно одурел тогда от этой смеси страха и притяжения, которым столь неожиданно засочилась крестьяночка — с ума же можно сойти от этих двух ароматов, когда они перемешиваются и щекочут нос, взрывая всё в голове, тем более что никогда ещё Крид такого не испытывал. Два раза был Виктор с бабами — шлюх зажимал в подворотнях — и всегда упивался лишь страхом (одну, помнится, убил за то, что запахла не только жалкой трусливой добычей, но и отвращением). Не прощал Вик презрения к себе: хватит — натерпелся в детстве, и теперь он чётко знал, что делать с теми, кому пришёлся не по душе.
Эта же красотка источала что-то особое: боялась и влеклась. И не брезговала. Хорошая девочка!
По утрам и так-то всегда «стои̒т», а тут совсем мо̒чи нет.
Вик придвинулся к невольной соблазнительнице поближе и плотно прижался к ней той частью своего тела, что желала её больше всего. Девка вздохнула, но, так и не проснувшись, шевельнулась и подалась к парню своим притягательным, точно два пышных хлеба, изгибом, а потом вдруг чуть размежила веки и... вновь начисто отбила желание овладеть ею без спросу.
Что вчера вечером, что сейчас, она смотрела на него как-то очень странно, даже пугающе странно, хотя и была, вроде как вся в его власти. Вот и теперь, вместо того, чтоб привычно для себя наброситься, задавить непреклонным и безжалостным напором, Виктор Крид просто привстал, нависнув над ней, и спросил:
— Как звать-то?
— И-вон, — девица запнулась, вновь начиная пугаться, смущаться, и в то же время притягиваться, туманить голову Виктора, попеременно то беся, то успокаивая, но не давая ни сделать своей, ни прогнать к чёртовой матери.
Зачем он вообще привёл её сюда? Не для того же, чтоб она пуговицы ему расстёгивала...
Пуговицы. Он всю жизнь проклинал их, но с детства так и не избавился от привычки носить одежду с ними — он обязан был однажды одолеть их, как и всё на этом свете. Однако в тот миг, когда тонкие и ловкие девичьи пальцы показали противным кускам кости*, где их место, Вик начисто забыл, чем вообще хотел заняться с красавицей, которую вытащил из-под паршивого француза.
В детстве он так мечтал, чтоб мать однажды подошла и помогла ему справиться с маленькими «мерзавками» на драной одежде, но мечты у Крида не сбывались никогда, и в конце концов он перестал верить во что-либо или в кого-либо, кроме самого себя и своих верных когтей.
А эта Ивон обескуражила его, запутала, заставив почувствовать себя идиотом, счастливым идиотом, на миг поверившим, что на свете случаются чудеса.
И потому, видимо, Виктор, встав, бросил ей свою рубаху, чтоб прикрылась. Она заслужила это...