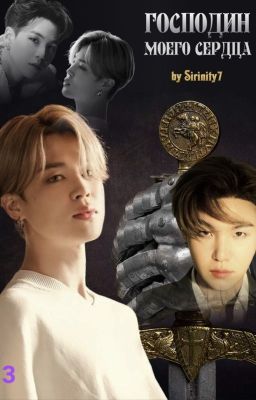Часть 11
========== Глава 11 ==========
Дамаск. Айюбидское царство. 1203 г.
Чимин думал, что не заснёт этой ночью в богатых покоях дворца от волнения и тревоги, охвативших его, но на своё удивление он уснул крепким сном младенца и проспал без сновидений до утра. Противный перезвон колокольчиков разбудил его — слуга склонился над ним, теребя за плечо, жестами показывая следовать за ним.
Через тенистую мраморную террасу вела мощёная дорожка к павильону, что оказался огромным крытым бассейном, с чистой и чуть тёплой водой. Чимин заметил ещё нескольких слуг, что держали подносы с маслами и тонкими одеждами, и все замерли в ожидании, когда юноша искупается, а они смогут выполнить свои обязанности. Вряд ли Чимин мог похвастаться, что умеет хорошо плавать, он скорее не умел, и сейчас просто стоял в воде по грудь, разводя её руками, волнуя её вокруг себя.
— Не умеешь плавать? — глубокий бархатный голос раздаётся за спиной, и Чимин замечает упавших ниц перед падишахом слуг.
— Не совсем, — робко признаётся юноша, но в следующую секунду горделиво вздёргивает подбородок. — Пришли посмотреть на мою немощность? А сами-то умеете?
— Конечно, я здесь для этого, — и Тэхён скидывает кафтан перед изумлённым и смущённым юношей, медленно заходя в воду. — Не бойся, ложись на воду и разводи её руками под собой, а ногами перебирай не спеша, вот так.
Чимин снова опешил — не каждый день перед его глазами обнажённый падишах, да и он сам в чём мать родила, но противиться не стал, заплывая вслед за падишахом.
— Вчера, верно, ты был напуган, — начал Тэхён, мягко перебирая руками в воде, всё также увлекая юношу за собой. — Не нужно бояться. Здесь ты мой гость.
— А все купленные на рынке рабы удостаиваются такой чести, повелитель? — возможно вопрос прозвучал бестактно, но Чимин не смог удержаться, чтобы не съязвить.
— Нет. Только такие красивые и милые юноши, как ты, — тихо смеётся падишах, всё так же плавая вокруг замершего юноши.
— Милые?! — озадаченно спрашивает Чимин, не зная, как на это реагировать. — Ваш телохранитель думает совсем иначе. Этот противный Гела...
— Самый верный и преданный друг на земле, — не даёт договорить юноше падишах, заканчивая слова вместо него. — Поверь, вся его грубость... и настороженность, продиктованы заботой обо мне и моей безопасности. Вы подружитесь, вот увидишь.
Чимин стоит в воде, больше и не пытаясь поплавать, думая о том, как странно и стремительно всё складывается. Вчера он стоял на рынке рабов полуобнажённым товаром, за который требовали золото, а сейчас он в великолепном дворце купается с самим правителем этого сказочного государства. Что за игры судьбы, что за неожиданные повороты? И просто так ли он здесь оказался? Чимин смотрит на молодого падишаха, что словно рыба плавал в воде... как волшебная, невообразимо красивая рыба. Он чувствует его доброе сердце и чуткую натуру — не может столь красивый человек быть жестоким, и он добр к нему, а Чимин лишь огрызается и шипит на его доброту.
Юноша прячет виноватый сожалеющий взгляд, снова волнуя воду руками, смягчает и голос, и сердце.
— У меня тоже есть друг. Самый лучший, любящий и понимающий.
— И где же он? Остался во Франкии? — Тэхён подплывает ближе, смотря в лицо юноше.
— Я потерял его во время шторма, — сникает Чимин, безвольно опуская плечи. — Мой корабль разбило о скалы, а он... не смог вернуться за мной. И я очень боюсь, что мой прекрасный друг думает, что я мёртв, но ещё больше боюсь того, что он винит себя в этом. Бэкхён не заслуживает страданий!
— Так зовут твоего друга?
— Да, Бён Бэкхён, герцог Анжуйский, мой лучший друг.
— Это из-за него ты стремишься попасть в Константинополь?
— Да, — и Чимин совсем не врёт, просто не договаривает, а падишах, почему-то пристально смотрит на него.
— У тебя такие глаза... словно замёрзшее небо. Таких глаз я не видел ни у кого. И мне всё больше кажется, что ты здесь по воле Всевышнего, и ты тот, кого я так долго искал.
Чимин отступает назад, волнуя воду вокруг, чуть бледнея, с грохочущим сердцем и тревогой в глазах.
— Не бойся меня, и это не то, о чём ты думаешь, — Тэхён улыбается мягко, стоя перед ним восхитительной живой статуей с влажными кудрями до плеч, и сияющими изумрудным светом глазами. — Насладись приятной водой, а после тобой займутся мои слуги. Хочу видеть тебя сегодня за вечерней трапезой.
Юноша кивает судорожно, и смущённый румянец появляется на скулах неконтролируемо. Он обхватывает свои плечи руками пока падишах всё так же с улыбкой покидает воду. На тело правителя тут же накидывают мягкую ткань, а на ноги обувают вышитые золотыми нитями сандалии. Чимин неотрывно следит за ним, пока не замечает ухмыляющегося Гелу, стоящего всё это время у входа. Злость накатывает по новой на этого дерзкого юношу. Чимин хмурит брови, презрительно поджимая губы, и отворачивается, пытаясь плыть уверенно и грациозно, на что слышит сдавленный смешок. Чёртов телохранитель!
День пролетел незаметно, но Чимин времени не терял — он обошёл половину дворца, столько, сколько смог за день. Ему никто не препятствовал, и не останавливал. Слуги почтительно склонялись перед ним, всё так же позвякивая раздражающими колокольчиками на ногах. Жестами ему указывали путь, приносили подносы с едой и напитками, которые юноша ел и пил с удовольствием, и всё это он делал с одной лишь целью — понять, как сбежать отсюда. Но чем дальше он ходил по дворцу, тем больше замечал, что просто любуется им, восхищённо распахивая глаза, с глупой улыбкой смотря на все красоты и богатства. От волнения он комкал своими маленькими пальчиками великолепный кафтан нежного-голубого цвета, когда попал в главную тронную залу, с раскрытым от изумления ртом, осматривая расписной потолок, выложенные керамикой стены, украшенные резьбой ставни и невероятные по красоте ткани драпировки. Журчащий фонтан посреди комнаты манил прохладой, а подушки разложенные вокруг — влекли прилечь на них, что уставший юноша и сделал... и не заметил, как уснул.
Таким его находит Тэхён, тут же отсылая стражников, что шли за ним, боясь разбудить столь нежное создание, и тихо садится рядом.
— Я то думал, что ищу сильного и зрелого воина, что спасёт моего возлюбленного от смерти, а ты вон какой — такой хрупкий, нежный, хоть и храбрый птенчик, — вздыхает падишах, невесомо касаясь светлой пряди и убирая её с лица. — А может это и не ты вовсе, и я ошибаюсь? Уповаю лишь на время и милость Аллаха. Да сбудется воля Его. Аминь, — и столь же бесшумно покидает тронный зал, позволяя юноше досматривать свои сны.
Вечером, за лёгким ужином, Тэхёну всё же удалось разговорить юношу, и падишах узнал многое о родине Чимина, о его доме и маленькой сестре, о доблестных рыцарях и знатных дворянах, и оба не заметили, как проговорили до поздней ночи.
— Твой дом далеко, и судя по тому, как ты рассказываешь о нём — очень скучаешь. Зачем же ты покинул Франкию, отправляясь в опасный путь по бурным водам? Чего ты искал? — Тэхён смотрит пристально, с лёгкой улыбкой на губах, откровенно любуясь юношей.
Чимин снова смущается этого пронизывающего взгляда зелёных глаз, и говорит чуть запинаясь:
— Мой друг... Бэкхён искал кое-кого. Я поплыл вместе с ним. Он должен был дождаться этого человека в Константинополе.
— Наверное, это очень важный человек, раз ради него пускаются в такой далёкий и опасный путь. И почему-то сердце мне подсказывает, что здесь замешана любовь, ведь так?
Чимин нервно сглатывает, но улыбается, пряча взволнованный взгляд.
— Да, Вы правы, повелитель. Мой друг искал своего возлюбленного, — быстро говорит юноша и замирает в ожидании.
— Возлюбленного? — чуть заторможенно спрашивает Тэхён, ещё пристальней смотря на Чимина. — Мужчину? И ради любви к мужчине твой друг проплыл всё Средиземноморье?
— Да. Его чувство очень сильное. Бэк не может думать ни о чём другом, кроме как о воссоединении с ним. Знаю, звучит слишком уж беспечно, но такова любовь. И она гнала его через все земли и моря.
— А ты? Ты тоже искал кого-то? Я же вижу, что ты недоговариваешь мне, хоть глаза твои дивные этого не скроют. Скажи мне.
— Нет, — выдыхает юноша, теперь уже откровенно солгав падишаху, — я плыл со своим другом и никого не искал, и не ждал.
Он не будет рассказывать о Юнги никому, да и что он может сказать? Что поплыл неизвестно зачем, не зная нужен ли он, помнят ли его? А он такой дурак, что до сих пор хранит в сердце надежду, что всё ещё любим?
— Отпустите меня, повелитель, — просит юноша, снова смотря ему в глаза. — Зачем я Вам? Я отправлю Вам обратно всё золото, что Вы за меня заплатили, только отпустите.
Тэхён тихо смеётся, понимая, что юноша нравится ему всё больше и больше, и смотрит таким добрым взглядом полным понимания, что у Чимина на мгновение зажглась надежда в глазах.
— Я знаю, ты сегодня обошёл дворец без устали, всё рассматривал, выискивал как отсюда сбежать, — мягко улыбается падишах. — Я облегчу тебе задачу. Выйти из дворца можно только двумя путями: первый — это парадные ворота, через которые ты вошёл, и второй — у западной стены, где находятся отряды моей личной охраны, и если ты не превратишься в маленькую серую мышку... нет, нет... ты не можешь быть мышкой, в невероятно красивую бабочку или райскую птичку, то отсюда ты точно не упорхнёшь. Я тебя не отпущу.
— Но почему? Зачем я нужен Вам? — снова спрашивает взволнованный юноша. — Поймите же моё отчаяние и тоску! Я должен уйти... должен...
— Что? Говори же? — Тэхён снова смеётся, хоть и видит, как темнеют глаза юноши от гнева.
— Вы смеётесь надо мной, развлекаетесь, словно я диковинная игрушка. А поставьте себя на моё место, — Чимин понимает, что переходит границы дозволенного — он дерзит падишаху. — Если бы Вас оторвали от своего дома, от людей, которых любишь... А ты сам не можешь ничего сделать только лишь... из-за прихоти какого-то...
— Говори же, говори, — снова смеётся падишах, получая невероятное наслаждение от того, сколь мило гневается этот прекрасный юноша.
— Какого-то наглеца, возомнившего себя вершителем судеб!
Чимин устало опускается на подушки в полной уверенности, что ему точно отрубят голову за дерзкие слова.
— Только Всевышний вершит наши судьбы, и ему решать когда и в каком месте нам быть. Сейчас ты здесь — в моём дворце, значит так распорядилась судьба.
— Разве? Так распоряжаетесь Вы — всемогущий и всемилостивейший падишах! И не нужно всё валить на вашего бога. Господь знает высшую справедливость, и то, что я здесь, в Вашем плену, неверно в корне. Вы препятствуете моей свободе, а не божественный дух!
— Что ты знаешь о милости Всевышнего, о силе и воле Его? Замолчи сейчас же, и больше не говори о том, чего не знаешь. Не тебе подвергать сомнениям Его решения. Смирись, склони голову перед судьбой, прими свою участь.
— Нет! Никогда, ни за что! Принять, что я игрушка, прихоть? Лишить себя собственной жизни, надежды и... любви, только лишь потому, что какой-то мифический дух... судьба, или что-то ещё... решает за тебя? Вы бы сами смирились? Отказались бы от собственных желаний и помыслов, от любимого человека, только лишь потому, что так угодно кому-то?
Тэхён открыл было рот, чтобы сказать твёрдое «да», да только мысль молнией пронеслась в мозгу — разве его желание любой ценой спасти любимого не есть противостояние неизбежности, противостояние судьбе, а может даже воле Всевышнего? Его попытки разгадать загадку снов, его упорство найти «спасителя», а найдя — удерживать его любой ценой — разве это не есть старание изменить судьбу? Он смотрит на этого чудесного юношу, что, казалось, открыл ему глаза, но всё же говорит о другом.
— Ты сказал «отказаться от желаний и помыслов, от любимого человека». Я услышал тебя, и хочу чтобы ты кое-что знал... Ты не уйдёшь отсюда потому, что я не могу сделать именно этого. Ты узнаешь всё в своё время, а сейчас — просто будь моим гостем.
— Вы эгоист, не способный на сострадание, — в отчаянии шепчет граф, и слёзы текут по щекам, что юноша не может остановить, и даже плевать, что прямо сейчас его выволокут из покоев падишаха, задушив тонким жгутом.
— Не суди обо мне так скоротечно, Чимин, — как-то обречённо шепчет повелитель, весь сникая и пряча взгляд. — Поймёшь ли ты меня? Сможешь ли узреть мою тоску и боль, коль сам не видел... не испытывал этого? Просто постарайся смириться. Ты мой, и будешь здесь столько, сколько я захочу.
Чимин молчит, тихо утирая слёзы. Ни гневаться, ни спорить он больше не хочет, но смириться — никогда. Он ушёл, оставив такого же поникшего духом и опечаленного падишаха, тихо пробираясь к своей комнате, а после обессиленно упал на постель.
Не думать о нём не получается — Юнги в его сердце и мыслях всё время, хотя, казалось, всё должно было забыться уже. Чимин помнит всё: первое «Люблю», когда мужчина пришёл к нему в шатёр после турнира; их поцелуй, «награда» для храброго рыцаря, и юноша улыбается с этих воспоминаний сквозь слёзы; их танцы и сплетение рук; взгляды, от которых сердце падало, и голос, что доводил до дрожи в коленях. Только к чему эти воспоминания, если надежда угасает с каждым днём, а судьба упорно разводит их друг от друга. Может падишах всё же прав, и нужно смириться с неизбежным — им не быть вместе. Только, как выбросить из сердца всю нежность, что дарил ему мужчина, как забыть его слова, что в жар бросали, как забыть взгляд, смотревший прямо в душу? Возможно ли позабыть рыцаря, положившего к его ногам цветочную корону, признавшего его господином своего сердца? О, как давно всё это было, словно в другой жизни, словно и не с ним совсем! Увидит ли он его когда-нибудь, сможет ли посмотреть ему в глаза? И что он прочтёт в его взгляде — отчуждение? равнодушие? Или всё же чувство, столь глубокое и трепетное, что перевернуло весь мир юноши?
Он так и заснул с мыслями о нём, шепча имя мужчины совсем тихо, да только сон ему приснился тревожный, будто Юнги в кандалах, на цепи, что пытается порвать в злобном отчаянии.
Чимин проснулся с тихим вскриком, тяжело дыша, а первым кого он увидел перед собой, был Тэхён, что сидел рядом, глаз с него не спуская.
— Плохой сон? — прозвучало слишком холодно и строго, а зелёные глаза смотрели пытливо. — Собирайся, выйдешь вместе со мной в город, будешь сопровождать меня. Тебя подготовят как надо.
— К чему? Я никуда не пойду. Хотите выставить меня заморской зверушкой на обозрение всем? Унизить?
— Нет. Лишь показать тебе, что обретёшь, если останешься здесь. Хочу, чтобы ты увидел свой новый дом.
— У меня есть дом... и родные люди. Ни того, ни другого я здесь не хочу.
Тэхён молча поднимается, а за ним уже стоит дюжина слуг со всеми принадлежностями наготове. Чимин выдыхает обречённо, понимая неизбежность своей участи — он диковинная игрушка всемогущего падишаха.
Снова день начинается с бассейна, где юноша всё также нерешительно купается. Затем неторопливое одевание в непривычные, но столь красивые одежды — длинную рубаху из мягкого хлопка со стоячим воротом и жемчужными пуговицами под горлом, струящийся шёлковый кафтан, вышитый самоцветами и жемчугами, стянутый широким поясом на талии. Вместо агатовой серёжки ему вдели длинную золотую нить с жемчужной каплей на кончике. На ноги обули мягкие кожаные башмаки с такими же самоцветами, а на голову — чалму с длинным шарфом, прикрывающим лицо. И всё это было нежнейшего небесно-голубого цвета. Чимин заметил, что большинство нарядов, присланных ему падишахом были именно такого цвета, что подчёркивали необычайно красивый цвет глаз самого юноши. Если бы не его положение пленника в роскошном дворце и его участи красивого дополнения к интерьеру, то Чимин с лёгкостью признался бы себе, что всё это ему невероятно нравится. А пока он смотрел на себя в огромное зеркало, где он отражался в полный рост, видя в нём совсем другого Пак Чимина — неизвестного, диковинного, но до рези в глазах восхитительного юношу.
Его привели на мраморную площадь, где стояли в ожидании повелителя осёдланные великолепной сбруей породистые скакуны и роскошные паланкины. Чимин стоял вместе с другими слугами, что вовсю рассматривали иноземного гостя, когда вышел Тэхён — весь в белом, усыпанный золотом и драгоценными камнями — истинный падишах. За ним, как всегда, шёл Гела, в тёмных одеждах, с неизменным мечом дамасской стали на поясе. Он окатил юношу холодным взглядом, говорящим о том, что в случае чего он с ним церемониться не будет.
— Надеюсь, что ты управляешься с лошадью лучше, чем плаваешь, — усмехается Тэхён, смотря на Чимина смеющимся взглядом. — Поедешь рядом со мной.
Чимин закатывает глаза раздражённо, и почему-то вспоминается, как Юнги подшучивал над ним: «Видимо, в твоём роду не было моряков», и улыбка неконтролируемо появляется на его губах, что не осталось не замеченным падишахом.
Он держался в седле уверенно, грациозно и смело управлял совсем незнакомым скакуном, но животное слушалось его, подчиняясь каждому движению всадника. Тэхён был доволен. Он с улыбкой взирал на юношу, и оба они смотрелись впечатляюще в белых и нежно-голубых одеждах. Впереди и позади них шла свита повелителя — отряды бостанджи{?}[Бостанджи́ — лейб-гвардия правителя мусульманской империи, охранявшая правителя и дворец, а также выполнявшая другие задания для двора] и разных прислужников.
Едва они выехали за ворота дворца, падишах указал на север, где виделись очертания огромного по величине здания.
— Начнём оттуда, откуда тебя привезли, — улыбается он хитро, но видя как бледнеет Чимин, добавляет, — нет, не с невольничьего рынка. С Тартуса, где находится мечеть Омейядов и старый город. Ты ведь помнишь рынок, где тебя выставили как драгоценный товар?
— Обязательно мне об этом напоминать? — огрызается Чимин, что словно ангел в небесно-голубых одеждах, но в глазах серые молнии.
Тэхён смеётся, ему нравится раззадоривать юношу.
— Ты прекрасен когда гневаешься, но не буду тебя больше смущать. Так вот, место, где построена мечеть, уже несколько тысяч лет является местом священного поклонения. Вначале здесь был храм Хадада — верховного бога арамеев{?}[Араме́и — семитские народы, населявшие до арабского завоевания территорию Сирии и Ирака.], а ровно тысячу лет назад римляне возвели его в храм, посвящённый Юпитеру. Но пятьсот лет назад халиф Валид приказал полностью перестроить здание, так появилась мечеть Омейядов — прекраснейшее из творений человечества.
У Чимина непроизвольно глаза округляются когда они выезжают на площадь перед храмом, видя его красоту. Ровные ряды беломраморных арок тянулись к главному входу, в котором явно прослеживались черты древнеримской архитектуры. Площадь перед ним полностью устлана белым мрамором, купола сияли на солнце, а невероятный ажур резьбы по камню делал мечеть воздушной и лёгкой. Повсюду столько зелени и цветов, что глаза разбегались, а люди, едва завидев свиту падишаха, падали ниц, склоняя головы. Но всё же, Тэхён замечает как глазеют на Чимина прохожие, рассматривая его словно диковинную жемчужину, откровенно восхищаясь им, кивая в его сторону, подзывая других людей, чтоб показать красивого юношу.
Он и сам им любуется, и не может смотреть без улыбки в его сияющие любопытством глаза. Чимин такой маленький, такой тонкий и гибкий, что кажется беззащитным ребёнком, но Тэхён чувствует его внутреннюю силу, его решимость и храбрость. А ещё безрассудство, раз отправился в абсолютную неизвестность для чего-то призрачного, неуловимого. Но всё же, именно это привело его к нему, и Тэхён рад этому. У падишаха не было родного человека, кроме его единственного друга Гелы, которого можно было бы оберегать, баловать, любить как младшего брата. И возможно Чимин станет именно таким человеком для падишаха, если смирится со своей судьбой, а Тэхён удержит его любой ценой.
Их прогулка по столице, что всё же была помпезным и пышным выездом великого падишаха со своей свитой, продолжалась, и Тэхён развлекал прекрасного юношу рассказами об удивительно красивом городе.
— Из города можно выехать через десять ворот, построенных ещё во времена римского господства, и носивших некогда имена небесных светил. На севере Фарадж, Фарадис, Салам и Тума, — увлечённо рассказывает падишах. — На юге Кисан и Сагир, а вон те ворота, мимо которых мы сейчас проедем, были построены в честь бога Меркурия, а теперь они называются Шарки.
— Так удивительно... так красиво. Такое невероятное сплетение культур, религий, языков.
— И всё это многообразие станет частью твоей жизни. Этот город будет открыт для тебя. Ты обретёшь здесь многое, но и сам станешь его украшением, Чимин.
Чимин молчит, но так и хочется закричать, что отдал бы всё это великолепие и богатство за один единственный день в Анжу, рядом со своим любимым, рядом с Юнги. А в это время они, под приветственные крики горожан, въезжают в восточный квартал, и каково же было изумление юноши, когда он увидел перед собой, среди пестроты восточного колорита, собор Святой Девы Марии, чей священный лик был изображён над витражными окнами храма. На вопрошающий взгляд юноши, падишах поясняет спокойно:
— Это христианский квартал. Здесь живут приверженцы вашей веры уже столетия, со своими семьями, мирно занимаясь делами. Чуть дальше будет греческий, или, как вы называете, византийский храм, что тоже был построен давно.
Чимин не знал, как удивляться всему, что он видел. Это поражало его воображение. Такого контраста он не видел нигде. Даже в Париже, в самом большом и старом городе Франции, не было такого тесного сосуществования стольких миров и культур.
Под всё те же изумлённые вздохи юноши, они въехали в еврейский квартал, что отличался особенностью построек и обилием красивейших лавок с разнообразными товарами, которые поразили Чимина. А Тэхён, под темнеющий взгляд Гелы, всё более восхищался юношей — его, какой-то детской впечатлительностью, его искренним восхищением и открытостью, но в то же время видел, как пытливо льдисто-голубые глаза всматриваются в каждую улочку, каждый переулок, ворота и дороги. Он понимает, что его прекрасный гость смотрит и запоминает, составляет в своей очаровательной голове план как сбежать от него, на что падишах лишь усмехается. Но пока молчит об этом, всё также увлекая его своими рассказами о красотах Дамаска.
Они подъехали к парадным вратам, в которых отчётливо прослеживались черты древнеримской постройки. Это были красивые арочные проёмы из невероятного голубого камня с белыми и серыми тонкими прожилками и белоснежными колоннами из мрамора.
— Это Фарадж — «Ворота радости», — как-то тихо шепчет Тэхён, — они возведёны вокруг арки в честь богини Венеры, богини красоты и любви. Этот камень — редчайший голубой мрамор, холодный на ощупь, но дарящий теплоту сердцу. Разве он не прекрасен?
— Он великолепен! Я такого нигде не видел, — так же тихо шепчет Чимин, во все глаза смотря на невероятное произведение рук человеческих.
Всё ещё находясь под впечатлением, Чимин и не заметил, как людская толпа всё больше окружает их, а некоторые идут следом, и всё чаще звучат слова «машалла́», «хелла зиннур». Он оглядывается вокруг, видя любопытные взгляды на себе, больше восторженные, чем подозрительные. Чимин и сам разглядывает жителей, темноволосых и черноглазых, в ярких, струящихся одеждах, шумных, голосистых, замечая, что большинство стремится рассмотреть юношу как можно ближе. В какой-то момент ему захотелось закрыть лицо краем чалмы, как у некоторых в свите падишаха, но лишь крепче сжал поводья, поднимая голову выше, вздёрнув подбородок — пусть любуются.
У фонтана с чистой и прохладной водой Чимин останавливает коня, спрыгивая грациозно, и под смеющийся взгляд Тэхёна, умывает лицо и руки, сняв чалму, пальцами проводя по светлым прядям. Грозный окрик Гелы никак не напугал его, и он лишь брызнул в его нахмуренное лицо прозрачные капли.
— Как ты смеешь, дерзкий щенок, без разрешения всемилостивейшего падишаха... задерживаешь его свиту, ведёшь себя как неблагодарный...
— Гела, смирись — тебе меня не устрашить, хоть весь день размахивай передо мной своим мечом. Единственный человек, перед которым я бы отступил, находится далеко, а ни перед кем другим я головы не склоню, — тихо шипит юноша подошедшему мужчине, что зажал его запястье в крепком захвате.
— Твоя дерзость переходит все границы, я накажу тебя.
— Попробуй! Сам окажешься поверженным.
— Хватит вам цапаться, — смеётся падишах, — но мне доставляет удовольствие смотреть на вас таких — горячих и готовых вцепиться друг другу в глотки.
Оба прекращают перепалку тут же, ибо Гела получил замечание от своего господина, а Чимин не намерен доставлять такого удовольствия падишаху.
У Аль-Хамидие Чимин увидел необычную статую из бронзы — это была фигура водоноса с двумя кувшинами на спине, из которых тонкими струями текли освежающие напитки — настоящий лимонный шербет и прохладный чай. И то и другое было диковинным для юноши, и он снова с широкой улыбкой спрыгивает с лошади, подходя к статуе, под ещё больший смех Тэхёна и обреченный стон Гелы, что рукой закрывает лицо.
Он впервые в жизни пробовал лимон, и от его очаровательно скривленного лица, засмеялись все вокруг, но горечь прохладного чая, заставила его выдохнуть ошеломлённо. Больше юноша к незнакомым напиткам не подходил, но был удивлён, когда Тэхён приказал остановиться перед необычной лавкой, где не было никаких товаров, а покупателей было много.
— Это Багдаш, — спокойно, но величественно говорит падишах. — Единственное место во всём царстве, где торгуют льдом.
У юноши глаза округляются при этих словах. Лёд — редкая вещь даже на севере Франции и Фландрии, а здесь — в жарком Айюбидском царстве — это диковинный товар.
Все покупатели тут же расходятся, почтительно кланяясь, пропуская повелителя и его стражников, а рядом с ним идет Чимин. Они спустились по каменной лестнице вниз, где был прохладный сумрак и действительно веяло холодом. Их усадили на мягкие подушки, поставив перед ними низкие столики.
— Сейчас ты попробуешь то, что, думаю, никогда не видел, — улыбается Тэхён, величественно восседая на подушках, жестом руки подзывая Гелу к себе и усаживая рядом.
— Мне хватило напитков, — бурчит юноша, вновь вызывая тихий смех у сидящих рядом.
— Такое стоит попробовать, — уговаривает падишах, — не понравится — больше не стану предлагать тебе.
Но Чимину уже нравится, когда перед ним на столик ставят маленькую чашку, где лежит белое и пахучее нечто, а притронувшись к ней — ощущается холод.
— Это иль-ама{?}[Иль-ама — мороженое.] — великолепная сладость, дающая свежесть и прохладу. Попробуй, — Тэхён сам пододвигает чашку ближе к юноше, заглядывая в глаза.
Чимин делает глоток, и улыбается довольно — тягучая и холодная, но невероятно нежная и сладкая, не похожая ни на что другое. А потом вкушает снова, смотря сияющими глазами на сидящих перед ним падишаха и его телохранителя.
— Вкусно... очень вкусно! Я такое никогда не пробовал.
— А хотел бы ещё? — осторожно спрашивает падишах.
— Конечно, — восторженно окликается тот, всё так же довольно смотря на Тэхёна.
— Тогда для тебя иль-ама будут доставлять во дворец, и ты сможешь наслаждаться им каждый день.
Гела насторожился, а Чимин замер, поставив чашку на столик.
— Не нужно. Не нужны мне Ваши сладости, обойдусь.
— Ах ты ж паршивец, дерзишь повелителю отказом... — начал было Гела, но Тэхён останавливает его жестом, ничего не говоря, лишь улыбаясь странно.
Обратный путь пролегал теперь через западную часть города, где всё также кипела жизнь, сиял красками Дамаск, а вновь оживший Чимин с жадностью всматривался в очертания улочек.
— Вижу, тебе понравился город, — довольным голосом обращается Тэхён к улыбающемуся юноше. — Дамаск не может не нравиться. Теперь ты знаешь о нём всё, или почти всё.
— Да, он необычайно прекрасен и удивителен, — широко улыбается Чимин весьма довольным всем вокруг.
— Видимо ты радуешься тому, что столь хорошо осмотрел город, узнал все дороги и кварталы, в которых можно укрыться в случае твоего побега, какие улочки ведут к караванам, а какие к выходам из города, — всё также мягко продолжает падишах, а у юноши улыбка гаснет и сердце тревожно начинает биться.
— Запомни, — чуть строже говорит Тэхён, всё также смотря на Чимина, — я не просто показал тебе город — я показал тебя городу. Все видели тебя, твоё лицо знают сотни людей, а тем кто не видел — перескажут в подробностях. Такой редкой красоты, как у тебя, нет ни у кого. И как только ты сбежишь, и о твоей пропаже объявят, ты не сможешь укрыться нигде, не сможешь скрыться от людей, что непременно тебя узнают и приведут обратно.
— Ты... жестокий... не видишь как, сердце моё рвётся за эти стены, думаешь, показал мне свои владения и я поведусь на богатство и роскошь? Знай же, каким бы красивым не был твой город и великолепным твоё царство, это место для меня всегда тюрьма!
— Оно станет для тебя самой глубокой темницей и местом твоей гибели, если скажешь ещё хоть слово! — у Гелы глаза почернели от гнева, и рука сжимает рукоять кинжала.
— Тогда уж давай сразу, сейчас убей!
— Умолкните оба! — Тэхён возводит руку к небу, хмуря красивое лицо. — Не будем более, хватит, — и теперь все молчат, потеряв всякий интерес ко всему, что их окружало, до самого дворца падишаха.
Чимин снова прячется в своей комнате, в отчаянной злобе снимая с себя роскошные голубые одежды и украшения, всхлипывая и понимая, что сейчас расплачется, а этого допустить нельзя. Он не будет опускать руки, не будет сдаваться, и обязательно придумает как выбраться из этого красивого плена. Юноша гонит от себя мысли о своей слабости и никчёмности, моля Господа даровать ему силы и терпения, ведь он гость у падишаха, что может свободно передвигаться по дворцу и саду, выходить в город, а лазейку он найдёт. Он мягко перебирает нарядные одежды, краем глаза замечая резные шкатулки с украшениями, подносы с благовониями, корзины с цветами, а после решительно зовёт слуг, приказывая вынести всё это из его покоев, и морщится от глухого звона колокольчиков.
— Передайте всемилостивейшему падишаху, что мне не нужны его подарки, пусть оставит их себе. И верните мне мои одежды, — высокомерно приказывает юноша, весь дрожа внутри.
— Их сожгли, господин, — смиренно отвечал ему слуга, а Чимин хмыкает, понимая, что голубой кафтан придётся оставить.
*
Вечером к нему пришёл Тэхён. Он смотрит на юношу каким-то отчаянным взглядом и тянет руку, чтобы взять его ладонь.
— Ты назвал меня жестоким... и эгоистичным, и всем своим видом даёшь понять, что ни моя доброта, ни моё богатство тебя не прельщают.
— Отпустите меня, повелитель. Я умоляю Вас сейчас... если Вы хоть раз любили и тосковали, Вы должны понять...
— Именно поэтому и не отпущу! Я всё сделаю, чтобы ты не смог покинуть меня, покинуть город. Я отдам тебя евнухам, ты будешь жить в роскошных покоях гарема, у тебя будет всё, что захочешь, но... ты больше никогда не сможешь покинуть дворец. Лучше прими это сам, смирись. И я всё ещё хочу узнать у тебя... о чёрном волке и рыжем лисе. Ты правда не знаешь об этих животных ничего?
— Ни за что! Я не смирюсь и не покорюсь Вам, всемилостивейший повелитель! — цедит злобно юноша, вырывая свою руку. — Какой лис?! Какой чёрный волк?! Что за сумасшествие и одержимость?! Мне жаль Вас! Вы сходите с ума!
— Да! Да, схожу и умираю! И похоже, что ты единственный, кто спасёт, хоть я сам не понимаю как!
— Вы себя сами слышите? Я никак не спаситель и не лекарь! Заклинаю тем, что Вы любите — отпустите меня!
— Прости меня, мой ясноглазый, но не отпущу... никогда. Заберите его, — за спиной повелителя стоят склонившиеся евнухи, что тут же подходят к пятящемуся назад юноше.
Никаких сил не хватит противостоять четырём огромным и высоким амбалам, что крепко держали отчаянно сопротивляющегося юношу, изрыгающего проклятия на голову падишаха, на его дворец, и на всё его царство. Чимин брыкает ногами, которые связывают поясом от кафтана, размахивает руками, в кровь царапая лица мужчин, но и их скручивают за спиной, пока рыдающего злыми слезами юношу выносят на руках из комнаты.
Тэхён смотрит ему вслед, в сотый раз теряясь в сомнениях, но оправдывая себя тут же — он делает это ради любимого. Ещё долго в ушах звучали крики и проклятия юноши, хоть он и находился в другом крыле дворца, и Тэхён плачет не сдерживая слёз от отчаяния, что пришлось сделать больно столь прекрасному юноше. Но готов сделать ещё больнее, если это спасёт его возлюбленного, спасёт Чонгука!
***
Константинополь. Византия. 1203 г.
Что чувствует человек, который стоит крепко сразу на двух континентах мира, и держит в своих руках судьбу тысячи людей, а одно его слово способно изменить облик древнего государства? Что чувствовал Намджун, смотря своими чёрными глазами на древний город, походивший больше на встревоженный муравейник, на который он наступил своим сапогом? Можно ли назвать это счастьем или же эйфорией от пронизывающего всё существо ощущения, что твоя цель перед тобой, что твоя мечта воплощается на твоих глазах? И как можно назвать чувство, когда сердце сжимается от того, что в этот момент твоя любовь рядом с тобой.
— Намджун? Ты ведь не разрушишь город? — тихо обращается к мужчине Сокджин, с беспокойством в нежных глазах.
— Нет. Он твой. Ни один камень не упадёт и ни один дом не сгорит в этом городе — жемчужине Средиземноморья, столице твоей новой империи, — и Сокджин улыбается мягко, веря каждому слову своего мужчины.
Белый рыцарь действительно отдал приказ не разрушать город, но о том, чтобы не убивать и не грабить жителей слова не было. И каждый из рыцарей, жаждущих наживы и крови, стоял с горящими глазами и обнажёнными клинками наготове.
То, с какой стремительностью высаживались крестоносцы на берег, тут же рассредотачиваясь, организовывая линию и переходя в наступление, впечатлило и серьёзно испугало византийцев, видавших много нападений, но которые впервые сталкивались с такой силой. Их было столь много, что европейский берег не мог вместить все галеры пилигримов, и часть из них пришвартовалась на азиатской части Босфора у небольшого княжества Скутари. Королевский двор Монферратского расположился именно там — на плодородных и цветущих берегах Малой Азии. К вечеру Константинополь был окружён двенадцатью тысячами крестоносцев, осадными орудиями, таранами, а тысячи костров пылали на всём побережье, страша защитников города. Византийцы предприняли попытку оказать сопротивление, выйдя за ворота большим отрядом, но бежали при первом же отпоре, больше вызывая смех у воинов-пилигримов.
Несмотря на величественность столицы и её богатства, внутри империи — разложение и упадок. Все знали каким путем Алексей III стал императором, да и особой любовью к своему народу правитель не пылал, а значит желания проливать кровь за него мало кто имел. Намджун это знал, как и знал о численности, оснащении, моральном духе защитников города. Его не пугает многочисленность населения — больше двухсот пятидесяти тысяч человек — больше, чем в любом другом городе мира. Эти торгаши и купцы будут трястись над своими богатствами, а не выходить с оружием в руках. Защитников тоже немало — сорок пять тысяч воинов, но вместо флота крестоносцы обнаружили гниющие судна.
Вид и величина города впечатляли. Намджун с восхищением взирал на него — столицу огромной империи, что, казалось, могла выдержать любую осаду. История подтверждала это: великая аваро-персидская осада, две грандиозные осады арабов, попытки болгар, русских и печенегов закончились крахом. Даже отсюда рыцарь видел купол храма Святой Софии, шпили Буколеона и Влахернского дворца. Только слепой не мог насладиться этой красотой, только безумный мог решиться на его осаду.
Намджун лучше всех знал, что делать — они атакуют город морем, через бухту Золотой Рог. Но пока он подождёт. Этот город должен быть взят мягко и нежно, как юная девственница в брачную ночь, вот только если возропщет, тогда и подход будет другой.
Послы прибыли поздно ночью, пышно разодетые, горделиво взирающие, но трясущиеся внутри. Их предводитель — ломбардец Никколо Росси — твёрдым голосом передал слова императора — что делают крестоносцы на его земле?
И получил ответ:
— Это не его земля, а прибыли мы по приглашению истинного хозяина — принца Алексея Ангела. И если город не будет передан во власть законного наследника, то считайте это объявлением войны, — Белый рыцарь сразу дал понять, что второй исход им более желанен.
Сам византийский принц, оказавшись столь близко к родному дому, пребывал в невероятном предвкушении. На какой-то момент показалось, что мечта совсем близко, что вот-вот он получит столь долго ожидаемое — свой трон, свою империю, но тщедушная душонка бывшего пленника чуяла большой подвох. И он был настороже, всё не отходил от предводителя, смотрел на каждое его действие, слушал каждое его слово, всё искал, за что зацепиться, порой осмеливаясь заглянуть прямо ему в глаза, находя лишь откровенную насмешку и презрение. Но ничего, скоро он отомстит, едва заполучит свой трон — всё войско крестоносцев будет отправлено восвояси, а их предводитель обманут своими надеждами — не получит он ни город, ни власть над ним.
Сокджин поддерживал опального принца мягкой улыбкой и добрым взглядом, понимая, что может испытывать Алексей, глядя на свой дом через всю бухту, видя столь близко Халкидон. Но он был немало удивлён, что никто из близких не пришёл к принцу поприветствовать его — ни мать, ни сёстры, которые могли спокойно покинуть город.
— Вы так близко к родным, к дому. Я счастлив за Вас, — король стоял рядом с Алексеем, на возвышенности, смотря на начинавшуюся осаду. — Барон всегда был сторонником справедливости, и он будет сражаться за воссоединение династии Ангелов.
— Мне никогда не отплатить за Вашу доброту, мой прекрасный король, но если Вы согласитесь быть моим гостем, в моём дворце, я буду самым счастливым человеком на земле.
— Непременно, и возможно надолго, — улыбка Сокджина всё такая же мягкая, но в глазах тревога, и он впервые стыдливо прячет глаза, отводя взгляд на Халкидон.
Совесть глухо скребётся в душе, шепча, что он обманщик, лицемерно дающий надежду этому несчастному человеку, что так искренне и восхищённо смотрел ему в глаза, но сердце, бьющееся именем одного лишь мужчины, заглушает её — Намджун знает как лучше, и он верит ему, больше, чем себе.
*
— Войско будет разбито на семь отрядов: фламандский авангард обеспечит высадку пилигримов с помощью большого количества находящихся в его рядах арбалетчиков и лучников, — речь Белого рыцаря была спокойной и размеренной, доходила до каждого, кто был на совете, а после произнесённых слов он пристально смотрит на графа Норфолка. — Граф Мин, от Вас будет зависеть многое. Цепи бухты должны быть порваны, а венецианские галеры пройти по ней беспрепятственно, — на что Юнги кивает, пытаясь не смотреть ему в лицо... лицо, которое он ненавидит всей душой. Чанёль стоит за его спиной, и рыцарь слышит его прерывистое дыхание, понимая, сколь велика и его ненависть.
— Отряд Генриха Фламандского, отряд Гуго Сен-Польского, отряд Людовика Блуасского, отряд шампанцев во главе с Мэтью Монморанси, отряд бургундцев во главе с Одо де Шамплитом, — также размеренно продолжал Намджун, обводя своим огненным взглядом каждого из названных рыцарей, — все вы атакуете стены крепости. Осаду возглавит Ким Чонин, — Намджун всё же не может скрыть теплоту в глазах, когда смотрит на своего названного сына, — я верю в вас, мои верные рыцари!
— Мой господин, солнце не успеет сесть над горизонтом, как город будет взят! — Вульф склоняется перед главнокомандующим, как и остальные вслед за ним.
— Арьергард ломбардцев, тосканцев, немцев, провансальцев под командованием лорда Лаута, Чон Хосока выдвинется к воротам, и они должны быть разбиты к тому времени, когда цепи бухты будут сняты.
— Мои галлогласы давно не разминали костей. Это будет славное начало перед битвой, — ирландец не может скрыть довольной улыбки, на что получает благодушный взгляд предводителя.
— Флотом буду руководить я. И на этом порешим все. Выступим же во имя справедливого возмездия, во имя Господа нашего, что взирает на нас с надеждою и упованием. Воссоединим крест христианский на века вечные. Аминь.
— Аминь, — эхом проносится по шатру, а дальше глухой звон доспехов, лязг мечей, гулкие шаги, ржание и топот коней вперемешку с людскими окриками, командами и целые людские реки, что хлынули к самим стенам города. И если море почернело от галер, то земля рябила от нашитых крестов на одеждах пилигримов.
Дерзости и смелости захватчикам не занимать — они атаковали город, перед лицом численно превосходящей армии.
Отряды под предводительством графа Мина, встречая на удивление слабое сопротивление, высадились около Галатской башни, охранявшей вход в бухту. Не прошло и половины дня, как башня пала, но лебёдка, удерживающая цепи, оказалась разрушенной, и тогда пилигримы распиливали огромные цепи, что с грохотом падали в воду, поднимая высокие соляные брызги.
Флот, под предводительством Намджуна, вошел в гавань. Византийцы укрылись за стенами, не предпринимая попыток сопротивления. Крестоносцы, руководимые Вульфом, тем временем, устанавливали на своих кораблях многочисленные баллисты и катапульты, а пехота, возглавляемая Хосоком, делала то же самое на суше. И когда начался штурм с земли и воды, дни Византийской империи были сочтены.
*
Стена гудела и содрогалась от топота пяти тысяч стражников, что рассредотачивались меж башен. Но даже такому количеству защитников приходилось перебрасывать отряды со стен на пристань бухты, что полностью была занята крестоносцами. И среди стражников, закованных в доспехи, мелькала тонкая фигура юноши, что тоже носился от одной башни к другой, в надежде увидеть родное лицо. Бэкхён знал, что Чанёль находится среди осаждающих стены крестоносцев, ибо ещё накануне заметил знамёна и гербы британского дивизиона, которым командовал его кузен — граф Мин Юнги, а значит и Чанёль рядом с ним.
— Не стоит молодому господину находиться здесь. Штурм уже начался, — всё же на молодого герцога обратил внимание один из командующих.
— Как мне выйти за стену? — от такого вопроса юноши у мужчины глаза полезли на лоб.
— Никак. Но можете срыгнуть, — усмехается командир, — или пролезть через дыру в ней, когда таран её разрушит. Но, уверяю Вас — ни то, ни другое невозможно. Высота стены двенадцать метров, ширина — пять, ни один таран её не пробьёт. И Вам нужно будет пройти все триста сторожевых башен на ней, чтобы выйти к бухте. Но лучше всё же уйдите, укройтесь в безопасном месте, хотя... если крестоносцы войдут в город... — мужчина умолк, скосив глаза за стену, где словно ежовые иглы торчали пики и лестницы, что вот-вот опустятся на стену, — они не оставят в живых никого.
Штурм начинался под оглушительный грохот колёс катапульт и камней для атаки,
— Господь не оставит нас, — Бэкхён тоже смотрит за стену. — Но всё же я попытаюсь покинуть город. Неужели нет ни одной лазейки? Я заплачу любые деньги...
— Ваши деньги Вам не помогут, не сегодня точно. Берегите себя, — и мужчина отходит, сразу же теряясь в суетящейся толпе.
Через минуту наступает необычайная тишина, и вся суета прекращается мгновенно. Застывшие у бойниц воины, словно ждали сигнала, а когда раздалось зычное «Лучники» — тысячи стрел устремились не вниз к крестоносцам, а вверх, на секунды перекрывая солнце и яркое, голубое небо. Сердце юноши падает в бездну, понимая, что внизу Чанёль, и десятки стрел могут попасть в него, но под ним земля грохочет, когда стена сотрясается от попавшего в неё огромного валуна. Бэкхён зажимает уши, боясь оглохнуть в этом вое битвы, а через секунды кто-то накрывает его щитом. Странный шипящий звук обрушился на них тысячами стрел крестоносцев, и скрежет железа и камня заставил юношу выглянуть из-под щита. Крюки лестниц с грохотом падали меж бойниц, а уже в следующее мгновение первый рыцарь-пилигрим прыгает на стену. И здесь уже Бэкхёну не до стены. Он устремляется в сторожевую башню, мгновенно взбираясь на винтовую лестницу ведущую на крышу, и там затаился, пока на стене шла кровопролитная битва. Отсюда юноше видно всё, как на ладони — стена кишела людьми, что лезли на неё нескончаемым потоком, а крики и лязг мечей заглушали собственное сердцебиение. Он устремляет свой взгляд на бухту Золотой Рог, куда невероятной величественной флотилией вплывали чёрные галеры с бордовыми парусами, а на берегу суетливо строились отряды византийцев.
Бэкхён своими глазами видел, как стремительно выскакивали крестоносцы из галер, сразу же переходя в ошеломляющее наступление, от напора которого византийцы теряются, отступая шаг за шагом, сдавая прибрежные земли и кварталы.
Снова сильное сотрясение и грохот отвлекают юношу, чей увлажнившийся от страха взгляд устремляется на осаждающуюся стену. Он видит знамёна крестоносцев, что обозначают взятые ими башни. Воспаленным сознанием Бэкхён успел насчитать двадцать пять захваченных пилигримами башен. Он кидается вниз по винтовой лестнице, совершенно забыв о смертельной опасности, надеясь лишь на то, что отсутствие доспехов и меча не позволит ему умереть в битве.
— Куда прёшь, щенок? Жить расхотелось? — широкоплечий мужчина без церемоний хватает тонкого юношу за шкирку туники, оттаскивая от бойницы, куда устремился тот. — Всем вниз! Закрыть проходы в башни!
Мужчина не отпускает Бэкхёна, свободной рукой отбиваясь мечом, отступая сам. Только вот юноше этого не надо совсем, и он отбивается, что есть силы.
— Отпустите... я останусь здесь. Мне нужно к бойницам!
— Ну и помирай, раз нужно, — Бэкхёна швыряют с силой, используя как таран, на приближающихся воинов с нашитыми крестами, и юноша падает, увлекая за собой крестоносцев.
Бэкхён начинает ползти по брусчатке стены, хватаясь за крюки лестницы, приставленной к ней. Он смотрит вниз, на скопление рыцарей, что стремительно рассредотачивались по периметру стены, уходя к северной части, и замечая знамёна британского дивизиона, понимает, что находится слишком далеко. И всё-таки он кричит... кричит, что есть силы, хоть в этом грохоте он сам себя не слышит.
Но его услышал тот, кого Бэкхён мог себе представить в последнюю очередь.
— Пресвятая Дева Мария и все небеса!.. Герцог Бён?! — Хосок не верит собственным глазам, увидев юношу на бойнице меж зубчатого частокола.
Ирландец сам устремляется на стену, горланя что есть силы имя юноши, а когда изумлённый Бэкхён замечает его, на радостях свешивается со стены.
— Пригнитесь, и ползите вниз... по лестнице, — Хосок кричит, что есть сил, жестами показывая, что надо делать, и сам ползёт навстречу.
Что за невероятные игры судьбы, раз Хосок столкнулся с полным подтверждением своей догадки, когда чуть более двух месяцев назад осмелился предположить такое — герцог Анжуйский в Константинополе! Бэкхён приплыл сюда ради чего-то, вернее кого-то. И этот кто-то почти рядом. Но вокруг битва, где смерть поджидает каждого, и неизвестно, что произойдёт через секунды.
Странное чувство охватывает обоих, когда наконец Бэкхён падает в объятия ирландца, словно он встретил родного человека после долгого расставания. Они смеются и обнимаются, а у Хосока матерные слова через раз, но слов восхищения больше.
— Божья матерь будет мне свидетелем... я знал, знал, что это были Вы. Я видел Ваш корабль... здесь в Мраморном море...
— Как?! Когда?! — Бэкхён цепляется за предплечья мужчины, изумлённо распахивая глаза.
— Мы разминулись. Я говорил Юнги, но не осмелился озвучить своё предположение, — Хосок широко улыбается, а у Бэкхёна сердце сжимается при имени кузена — он должен будет рассказать ему о потере Чимина, слово «смерть» он до сих пор не в силах произнести, даже в мыслях.
— Отведите меня к ним, не смогу и минуты более ждать! Я умираю от ожидания...
— Исключено. Граф Мин у северных башен, им будут противостоять варяжские отряды, и битва там будет кровавая. Я отправлю Вас через пролив, к королю Монферратскому...
— Исключено, — теперь Бэкхён категоричен, и даже жестом показывает свою решительность, поднимая ладонь в воздух. — Я столько ждал... я невыносимо ждал его, не для того, чтобы отступить ради какой-то опасности. Я доберусь до британского дивизиона с Вашей помощью или без нее.
Хосок лишь вздыхает, на мгновение окинув взглядом перевалившее за полдень солнце, а после — на дрожащего от волнения герцога.
— Судьба столкнула меня с Вами, значит это для чего-то. Я не могу оставить командование, но отправлю с Вами отряд... и буду молиться за Вас.
— Никогда не забуду того, что Вы для меня сделали, — Бэкхён чуть не плачет, снова обнимая мужчину, — и я буду молиться за Вас.
Не прошло и получаса, как две дюжины воинов-кавалеристов неслись быстрым галопом через всё побережье моря, окружив молодого герцога, которому выдали кожаные доспехи. Бэкхён на полном скаку замечает серые клубы дыма за спиной, и языки пламени на стене. Он испуганно смотрит на скачущего рядом воина, что поясняет не притормозив коня ни на секунду.
— Византийцы сами подожгли стену. Они отступают.
*
Меч Белого рыцаря залит кровью, а ноги воинов идущих за ним, ступают по кровавым ручейкам, что оставляет он сам. Намджун впереди всех, его не окружает личная гвардия, у него нет телохранителей, и он не прячется за спинами рыцарей — он ведёт их за собой.
Атака с моря увенчалась полным успехом, хоть в безуспешной попытке отбиться византийцы перебросили отряды с крепостной стены на прибрежье бухты, где стены тоньше и ниже. В устье Петриона{?}[Петрион — узкое место бухты, где был всего один пояс стен, высотой около 10 метров] галеры стояли ровными рядами, градом пуская тараны по стене, пока не появилась первая брешь, и крестоносцы лавиной не хлынули в город.
— Атакуем Халкидон, — голос предводителя гремит через весь ад битвы, вызывая возбуждённый оклик рыцарей, — убивать каждого, кто будет на пути. Пленных не брать, пощады не давать.
С мраморных ступеней Халкидона, что возвышались над всем городом, смотрел потемневшим взглядом сам император, в окружении стражей дворца. Алексей III — всесильный император, но отнюдь не храбрый воин; властитель огромной империи, но заботящийся только о своей личной власти; хозяин прекраснейшего города мира — древнего Константинополя, но не видящий дальше своего дворца. Последняя отчаянная попытка у него ещё есть — он собирает всю армию, отзывает защитников стены, отдаёт приказ призвать всех с оружием в руках для решающей битвы, и сам выступает во главе войска.
От безнадёжности отступающие защитники сами поджигают город, пытаясь тем самым остановить крестоносцев, и это срабатывает, но лишь на время, пока огонь, вылизав камень, затухает сам. Солнце темнеет за чёрным дымом, а камень — от копоти и гари, когда войско византийцев выступило за ворота. Корона императора пылала рубинами в лучах закатного солнца, и искры, как кровь — текли по его лицу. Он собственными глазами видит, как погибает его империя, как умирает Константинополь, но не готов умирать за неё сам. И всё же вышел на её защиту, слыша проклятия и оскорбления за своей спиной.
Шесть отрядов крестоносцев против шестидесяти отрядов византийцев! И Намджун одержал полную победу, применив смелую и невероятную тактику, выставив войска частоколом, так что у византийцев не было выбора, кроме как атаковать в лоб. Белый рыцарь никогда и никому не оставлял выбора!
Последний луч опустился за городом, словно предвестник его заката, а император всё также смотрел на грандиозную битву, где каждый крестоносец отчаянно сражался, не отступая ни на шаг. Он смотрел долго, не отдавая приказов, не вынимая меч, а после лишь развернул коня, отзывая личную гвардию и отряды защитников Халкидона.
В полночь, прихватив с собой триста килограммов золота — все, что нашлось под рукой — «трусливейший из людей» бежал, бросив жену и детей, и на корабле отплыл в Бургас{?}[Бургас — расположен на западном берегу Бургасского залива Чёрного моря], где заранее подготовил себе убежище.
Слова, что были брошены Вульфом в пылу азарта, сбылись — солнце не успело сесть за горизонт, как величайший город мира был взят крестоносцами. Тот день был последним днём империи, что непоколебимо стояла тысячу лет, не подчинившись ни одному противнику, теперь же она в полной власти одного германского воина, чьё имя — Белый рыцарь!
Намджун стоял на ступенях Халкидона, под оглушительные крики и приветствия своих воинов, под алеющие от последних отблесков заката клинки мечей поднятых вверх, под колышущиеся знамёна, но взглядом он упирается через Босфор, где также на возвышенности стоит тот, для кого всё это — все эти жертвы, вся эта кровь, весь этот мир!
*
Юнги не верит собственным глазам, кровь застилает их, может поэтому и видение такое — скачущий на полном скаку Бэкхён, что прижавшись к холке коня, несётся через всё побережье. Граф выкрикивает команду своему подчинённому, и разворачивает коня сам, несясь навстречу другу, а сердце ничего не слышит и не видит от невозможной и шальной мысли, что Чимин может быть где-то рядом. Если только такое возможно... Если только... Но мужчина гонит от себя эти мысли, не давая себе надежд, чтобы не собирать вдребезги разбитое сердце своими руками.
Юнги спрыгивает с седла почти на ходу, видя как быстро бежит к нему Бэкхён, тяжело дыша от бешеной скорости.
— Юнги! Юнги!
— Бэк! Матерь Божья, Бэк!
Оба врезаются друг в друга, почти до боли стукаясь грудью, но обхватывая крепко руками.
— Я нашёл вас! Я нашёл... Юнги. О, как долго я вас ждал! Где он, умоляю? Где Чанёль?
— Как?.. Как ты здесь?.. Я не понимаю...
— Я прибыл в Константинополь более двух месяцев назад, с надеждой встретить вас по пути в Иерусалим, а тут такое...
У Юнги дыхание сбивается и руки дрожат, когда слова сами собой вылетают из уст:
— Ты здесь... один?..
— Один, — Бэкхён затихает. Он не готов озвучить это своему другу.
— Чимин? — и юноша видит, как дрожь заметно прошлась по телу мужчины, как он прикрыл глаза от волнения. — Как он? Скажи мне что-нибудь о нём, умоляю.
— Не сейчас, Юнги, чуть позже... я всё расскажу, только не сейчас, прошу тебя. Я должен найти Чанёля.
— Одно слово, Бэк, заклинаю скажи. Что он... обо мне... хоть слово, Бэки.
Юноша выдыхает ощутимо тяжело, крепче сжимая руки Юнги.
— Он помнил и думал о тебе всё это время, — шепчет юноша, и слёзы наворачиваются на глаза — волнение выдаёт его с головой. — Чимин тосковал по тебе, Юнги.
Юноша готов поклясться, что мужчина пошатнулся словно от головокружения, и улыбка ломается на его лице, когда пальцы больно сжимают его руку в ответ. Долгие секунды проходят в молчании и тишине, хоть вокруг шум битвы не утихает, а крики лезущих на стену и срывающихся вниз крестоносцев никак не делают момент романтичным. И всё же Бэкхён корит себя, что рассказал Юнги о любви Чимина — не он должен был это озвучить, а сам Чимин... который не сможет сказать этого больше никогда.
— Юнги, где Чанёль? У меня сейчас сердце разорвётся...
— Я велю подать знак, чтобы привлечь его внимание. Уверен, он заметит тебя. Скачи прямо по кромке побережья и ты увидишь его, Бэк. Я зайду к вам после... всего этого, — а Бэкхён его уже не слышит, седлая предоставленного ему коня, ещё раз взглянув на друга, мчится к морю.
Развивающееся знамя дивизиона привлекает внимание всех рыцарей, чуть замерших в ожидании сигнала приказа, но его не поступает, только мчавшийся всадник одиноко выделяется на фоне темнеющего моря и заката. Бэкхён приближается к отряду штурмующему северную стену, притормозив своего скакуна на несколько долгих секунд, но и их хватило, чтобы увидеть его, увидеть Чанёля. Его исполинский рост и широкие плечи под кольчужными доспехами не заметить невозможно. Конь под ним дыбится от непонятного волнения, и сам мужчина забывает как дышать, увидя очертания юноши, столь похожего на его возлюбленного. Но Чанёль не успел подумать о разыгравшемся воображении посреди поля боя, как юноша вновь скачет ближе, и теперь закатное солнце блестит в рыжеватых прядях, и черты лица, столь родного и любимого, узнаются сразу же. Мужчина ошеломлён этим, но не задаёт себе вопросов — откуда и почему, лишь резво разворачивает коня под собой, устремляясь наперерез юноше. Бэкхён не останавливается, скачет по кромке моря, уводит мужчину за собой, и улыбка сияет на красивом лице, когда видит, как Чанёль догонят его.
Они ускакали как можно дальше от осады и битвы, пока шум сражения не заглушил счастливый смех юноши, пока лишь влажный песок Мраморного моря да закатное солнце не стали их единственными свидетелями.
Бэкхён спрыгивает первым, несётся по рыхлому песку, моча ноги в прибрежной воде моря, и бежит навстречу, крича имя любимого. Чанёль молчит, но бежит так же взволнованно, всё ещё не веря собственным глазам, молясь всем богам, чтобы образ юноши не рассыпался предзакатным призраком, и всё это не было плодом его воспалённого сознания.
— Чанёльи, любимый мой!.. — удар грудью вполне ощутим, а руки юноши, блуждающие по его лицу, тёплые и нежные. — Чанёль, — горячим дыханием по скулам и губы жаром по коже проходят, оттого Чанёль вздрагивает ощутимо.
— Ты не снишься мне? — на это Бэкхён смеётся тихо и счастливо, прижимаясь сильнее.
— Я нашёл тебя, Ёль-и... нашёл!
— Бэки?! Как?.. Хотя не важно! Бэк, ангел мой, — поцелуй заставляет умолкнуть все вокруг — шум прибоя, шелест солёного ветра, отголоски далёкой битвы, лишь биению двух сердец не умолкнуть, грохоча на всю Вселенную.
Как не уверовать в силу любви, что заставила столь хрупкого юношу пройти через кровавые битвы, смотря смерти прямо в лицо мимо мечей и копий. Как объяснить силу этого чувства, заставившего Бэкхёна проплыть всё Средиземноморье, жить чужаком в огромном городе, и несмотря на боль потери друга, ждать и надеяться.
— Чанёли... — как в бреду шепчут губы, а ноги обоих уже не держат, и вместе падают на песок, всё также прижимаясь крепко.
Губы саднят от нетерпеливых поцелуев, и дыхание сбивается от невозможного счастья и трепета. Кольчуга так мешает, и меч упирается в бедро — Чанёль снимает и то, и другое, оставляя на влажном песке. Руки, подрагивая, снимают всю одежду с дрожащего юноши, и сам же стаскивает через голову пропитанную потом и чужой кровью, рубаху.
Они целуются бесконечно, когда Чанёль заносит на руках своего возлюбленного в море, что золотом сверкает в лучах закатного солнца, трогают и ласкают друг друга, в тысячный раз признаваясь в любви.
— Мы уедем отсюда, Чанёли, — нетерпеливо шепчет юноша, — я развёлся с супругой и надо мной больше не висит топором треклятая корона. Я свободен, мой любимый. Ничто и никто не помешает нашей любви, нашему счастью. Уедем, — Бэкхён снова целует, ногами обвивая поясницу мужчины под водой.
— Уедем, — соглашается Чанёль охрипшим голосом, целуя влажные плечи любимого, чуть солёные от морской воды. — Когда закончится весь этот ад — уедем.
Солнце уже скрылось за горизонтом, а город пал под мечами крестоносцев, когда Бэкхён, со своим любимым и небольшим отрядом, выделенным Юнги, отправились на пароме через пролив, в Скутарию, и он предстал перед изумлённым, но невероятно счастливым королём Монферратским. Бэкхён и сам был счастлив от встречи вновь со столь прекрасным и великодушным человеком. Им было о чём вспомнить, поговорить, поделиться неким сокровенным, но позднее. А сейчас обоих раздирало необъятное чувство встречи со своими мужчинами, и они разошлись, пожелав встретиться в скором времени.
*
Уже в сумраке шатра, Бэкхён слышит шум и голоса, возвещающие о том, что часть рыцарей, переплыв пролив Босфора, возвращается в Скутарию. Юноша понимает, что среди них будет Юнги, умирающий в нетерпении узнать о своём возлюбленном, и бедное сердечко герцога испуганно трепещет, а медовые глаза уже наливаются слезами — у него нет выбора, он должен рассказать правду.
Чанёль вернулся и с графом Мином, и лордом Лаутом, что смеялся и улыбался столь широко, что Бэкхён сжимается ещё сильнее — как он может рассказать о гибели Чимина глядя в лицо этим людям?
Юнги тоже улыбался, снова расцеловывая в щёки кузена, а юноша прямо кожей чувствовал нетерпение мужчины. Он ничего не спрашивал вслух, лишь смотрел огненными глазами, сжимая кулаки, замерев в ожидании, когда Бэкхён сам заговорит.
— Я до сих пор не верю в то, что вижу, — Хосок не унимался, запросто похлопывая юношу по плечу, и смеясь счастливо. — Как так получилось, что Вы — герцог Бён — пересекли огромное море на галере, один!
— Я не был один, — и Бэкхён чувствует как странно замер граф. — Юнги, — он обращается к своему другу, смотря ему прямо в глаза, и понимает что дрожит перед ним, — Чимин был со мной, когда мы отплыли из Марселя.
Тишина вокруг такая стоит, что Бэкхён отступает на шаг, словно ожидая удара. Юнги молчит, хотя зачем слова, когда глаза мужчины столь красноречивы. Даже Хосок замер изваянием, понимая, что дальше последует что-то страшное.
Чанёль обнимает юношу со спины, давая знать, что он рядом и поддержит, да только сердце мужчины подсказывает, что придётся протягивать руку и своему другу.
— Мы плыли на разных кораблях, — голос уже дрожит, а слеза катится по щеке, выдавая юношу с головой. — Я так распорядился. Я во всём виноват. Прости меня, Юнги!
Юнги не дрогнул, не закричал, лишь перестал дышать, чувствуя, как по телу растекается невероятный холод, морозя позвоночник, поднимая дыбом волоски на затылке.
Все молчат, никто не решается произнести и слово, ждут чего-то.
— Где он? — всё же мужчина хрипит, едва разлепив губы, делая глубокий вздох, разрывающий лёгкие.
— Той ночью был сильный шторм. Корабли относило течением. Нам пришлось рубить канаты, — Бэкхён открыто плачет и шепчет лишь тихо, — Прости меня, Юнги. Прости...
Снова молчание. Хосок делает осторожный шаг к Юнги, Чанёль крепче стискивает юношу.
— Второй корабль ушёл на дно... вместе с ним. Я потерял его... Я не смог вернуться, не смог спасти. Я во всём виноват!
Юнги поворачивает голову к выходу из шатра, хоть всё ещё стоит каменным изваянием. Хосок делает к нему ещё один шаг и протягивает руку к плечу. Чанёль прижимает к груди рыдающего юношу, глазами умоляя друга сжалиться.
— Юнги? — осторожный голос Хосока полон неподдельного беспокойства.
Тот сразу же решительно направляется к выходу, но замирает у порога, повернув голову через плечо, и хрипит одними губами:
— Это не ты виноват, — а после стремительно скрывается.
Хосок задержался на несколько секунд, в нерешительности, не зная, кинуться вслед за другом или утешить рыдающего герцога. Чанёль лишь зыркнул глазами на выход, шепнув тихо:
— Удержи его, — и Хосок выбегает из шатра.
Как утешить безудержно рыдающего возлюбленного, когда сердце разрывается между ним и единственным близким другом? Он и представить себе не может, что сейчас переживает Юнги, и боится, что тот от отчаяния и боли сорвётся. Чанёль знает к кому пошёл его друг и кого он винит в смерти возлюбленного. И скорее всего Юнги будет прав — не будь барона на пути его друга, всё могло быть по-другому.
Хосок не успел на какую-то долю минуты. Паром уже отплывал под громкие окрики рулевого, а его друг стоял глыбой в свете факелов. Ирландец и сам догадался куда, вернее, к кому направляется Юнги — к Белому рыцарю. Пока он нашёл галеру и пустился следом за паромом прошло достаточно времени, но обещание о вознаграждении заставило гребцов налегать с удвоенной силой.
*
Город тонул в бесчинстве и крови — Намджун отдал столицу своим воинам на два дня, обещая им всё, что они могут унести с собой. Крики и плач стояли над стенами, кровь всех, без разбора — оставшихся защитников и мирных людей — лилась рекой. Грабили богатые дворцы и дома, не оставляя храмы и церкви, снимая золотые и серебряные оклады икон, выковыривая драгоценные камни и жемчуга, потроша кошельки торгашей и банкиров, остервенело насилуя и убивая.
В эту ночь вакханалии и бесчинства, город захватили не крестоносцы, а убийцы и грабители, душегубы и предатели собственных идеалов и веры. И главным среди них был их предводитель, их царь и бог — Ким Намджун.
Он стоял, взирая на ночной город, что освещался лишь факелами да кострами побережья, слушая крики и плач, горящими глазами смотря, как величественный город раздирается на части. Рядом с ним — принц Алексей, что хмуро опустил голову, пряча гневный взгляд, не в силах смотреть на то, как квартал за кварталом зажигаются огни крестоносцев, оповещающих о том, что бесчинства начались повсеместно.
Вокруг них стояли и другие предводители, вальяжно расположившись в царских покоях мраморной террасы Буколеона, распивая дорогие вина и вкушая редкостную еду. Их смех и крики приветствий оглушали принца, что вынужден был терпеть всё это в собственном дворце, отдав свою столицу на разорение. Вот только страшная мысль, что это вовсе не его дворец, не его город и царство, холодило серце так, что колени тряслись. Алексей ждал своей участи, но храбрился, как мог.
В пылу пьянства и эйфории собственного всесилия никто и не заметил, как ко дворцу стремительно приблизился всадник, а после — ворвался во дворец. Лицо его страшно: перекошено гневом и болью, рот искривлён, а глаза красные, как огонь. И лишь потом стали замечать обнажённый меч у него в руке. Он волочил его по белому мрамору, остриём высекая искры, дыханием и рыком своим заглушая смех и пьяные возгласы, а после оглушил своим криком:
— Ты!.. Ты убил его!
В мгновение ока Юнги пересекает террасу. Никто опомниться не успел, как меч его занёсся над их предводителем, и Юнги перерубил бы Намджуна пополам, если бы не выпад Вульфа, что спас его.
— Убийца!.. — слюна брызжет с побелевших губ, а меч замахивается снова, но теперь опомнившийся Белый рыцарь сам выхватывает меч и даёт отпор.
Но разъярённый мужчина становится в разы сильнее, наваливаясь на Намджуна, сбивая с ног, вновь замахиваясь, высекая искры ударами об мрамор.
Вмиг протрезвевшие рыцари, вскакивают пытаясь остановить графа, но мужчина обезумел. Горе от потери любимого и неутолимая жажда мести делают его непоколебимым, никто и близко не может к нему подойти.
— Убью... собственными руками! Ты не имеешь права жить! Ты не имеешь права ходить по земле! Я вырву твоё поганое сердце! — удары сыплются градом, и Намджун еле их отбивает, не понимая ярости графа.
В момент, когда Хосок с дюжиной своих галлогласов ворвался на террасу, Вульф ударил Юнги древком копья в затылок, чуть дезориентируя его, а после и сам наваливается, сбивая с ног. Ярость придаёт Юнги невероятных сил, рывком отпихивая Вульфа от себя, с рыком кидаясь на встающего с колен Намджуна. Но теперь на него набрасываются и другие рыцари, накидывая сорванные со стен гобелены на голову, оглушая рукоятями и ударами ногой.
— Прекратить! Граф Мин не в себе! Разве вам не видно?! — Хосок расталкивает рыцарей, обхватывая крепкой хваткой своего брыкающегося и орущего проклятия друга. Его галлогласы оттесняют всех, пока Намджун в изодранном плаще, изрезанными пальцами и скулой левой щеки, судорожно дышит, смотря на содрогающееся тело графа, будто в него бес вселился.
— Повесить... немедля, — прохрипел мужчина, дрожащей рукой убирая белые пряди со лба. — Приступить сейчас же.
— Вы не имеете права! Вы не посмеете! — Хосок ощетинивается против своего кумира, понимая, что только что он перестал им быть. — Граф Норфолк лицо, представляющее интересы английской короны. Только посмейте тронуть его, и я пойду на вас войной.
Намджун замирает, непонимающе смотря на переставшего дёргаться Юнги, видя его абсолютно пустые глаза и дрожь в руках.
— Что случилось? — голос Белого рыцаря стал более спокойным, и взгляд более осмысленным.
Хосок подходит к нему ближе, оставляя друга в окружении своих воинов, и смотрит в глаза своему бывшему идолу, которому он только что перестал поклоняться.
— Граф Блуа, Пак Чимин, погиб в море, сгинул в пучине шторма, когда плыл сюда. Видимо тоска и отчаяние толкнули несчастного юношу выйти в столь опасное путешествие, — а после ирландец снижает голос до проникновенного шёпота, — Юнги потерял любимого, и, согласитесь — Ваша вина в этом есть, барон Тироли.
Намджун замер, жестом требуя умолкнуть разнуздавшихся пьяных рыцарей, что действительно затихают сразу же. Обдумать услышанное время ещё есть, а представлять себя на месте графа он не может, и не хочет. Но он услышал главное — граф не в себе, поэтому решение тоже нужно принять.
— В темницу его. Заковать в кандалы. Лишить должности командующего дивизионом. Через день я приму решение, что с ним делать.
Всё исполняется немедля — вмиг обмякшего Юнги поднимают, руки связывают куском его же плаща, ведут вниз по ступеням. Хосок уходит вслед за ним, до самых темниц, не даёт заковать друга в кандалы, сам бережно опуская его на расстеленный собственный плащ, и сидит у железных прутьев. Он смотрит на притихшего, полностью ушедшего в себя мужчину, и даже думать не хочет о том, что творится в сердце и в душе его друга.
— Скажи что-нибудь, Юнги. Поговори со мной, — Хосок умоляет его словами и взглядом, что горит в свете тусклого факела безумным волнением. — Не молчи, прошу.
Юнги не реагирует никак — не слышит и не видит, и не хочет слышать ничего, но Хосок не унимается.
— Юнги, не молчи. Хочешь поплачь, хочешь — завой волком, но не молчи!
Тяжёлое долгое дыхание запертого в темнице мужчины, проносится в тишине и мраке каменных сводов, но даже этому Хосок рад. Он снова зовёт его, протягивает руку через зазоры прутьев. Мужчина не знает как утешить друга, и возможно ли вообще такое; не знает, что такое любовь, что это за чувство, выворачивающее тебя изнутри, ломающее настолько, что становишься неузнаваемым. Возможно, Хосок и не испытывал этого, но глядя сейчас на друга в сотый раз убеждается — не нужно ему любви, не нужно трепета сердца, он не хочет быть пленником судьбы. Уж лучше быть пленником своих собственных заблуждений, но никогда не испытывать этой боли... этой смерти души, что переживает сейчас его друг.
— Я не хочу ничего говорить...
— И не говори ничего, но можешь сказать об этом, — Хосок не хочет жалеть друга, он хочет помочь пережить, хотя какая у него будет жизнь после смерти столь любимого человека. — Юнги? Сейчас нужно быть осторожным... нельзя так, этим ты ничего не добьёшься. Ты поступил опрометчиво, кинувшись на него с мечом, надо было по-другому... У тебя есть сын. Ты не можешь оставить его, живи ради него, Юнги.
— Я убью его, Хосок! — хрипит Юнги, а Хосок и этому рад. — Убью с удовольствием, с наслаждением, с невероятной радостью, вонзив в его чёрное сердце клинок.
— Убьёшь, но молю, не горячись, обожди ещё, и твоя месть будет исполнена. Господь этого так не оставит, он всё видит, а Белый рыцарь давно покинул Бога, возомнив себя вершителем судеб. Божья кара настигнет и его...
— Его настигнет моя кара! Я стану его наказанием! И он умрёт от моего меча!
— Кричи, Юнги! Проклинай его, проклинай всех, но выплесни из себя эту боль! — Хосок кричит сам, крепче хватаясь за прутья решётки, с больной улыбкой смотря как раскачивается в темноте сгорбленная фигура его друга, чей голос всё громче, а проклятия вперемешку с завываниями срываются с губ.
Юнги мечется, ломает руки, срывает голос, и слёзы льются из глаз, и всё же он сдаётся этой дикой боли, этому отчаянию, сжимающему его сердце. О, уж лучше бы оно было разбито несбыточными надеждами, забвением, чужим отчуждением, но не умерло бы вместе с гибелью любимого. Лучше бы Чимин разлюбил его, позабыл о нём не вспомнив никогда, растоптал бы любовь мужчины равнодушием, но жил бы! Жил, дышал, сиял, был бы счастлив, пусть и не с ним! Он хрипит имя юноши, прося у него прощения, захлёбываясь в признаниях своей вины, а Хосок лишь смотрит и шепчет уверения, что на всё Божья воля.
Первые рассветные лучи коснулись земли, хоть в темнице столь же сумрачно, хоть при луне, хоть при солнце. Чанёль спешил и волновался невообразимо, но покинул любимого лишь когда тот уснул, обессиленный рыданиями. Сердце рыцаря разрывается между возлюбленным и другом, за которого переживал не меньше. Он нашёл его столь же опустошённым и обмякшим, согнувшимся у решётки в три погибели, а рядом сидел бледный как смерть Хосок, холодными пальцами вцепившийся в предплечье друга. Чанёль опустился рядом с ними, молча переводя горящий взгляд с одного на другого, да и что тут говорить, когда всем существом чувствует — никакие слова не помогут, не спасут от гибели души, от смерти сердца. Остаётся только смотреть на агонию любви, что рассыпается призраком, как рассыпается его друг на осколки. Нет больше Юнги! Нет больше графа Норфолка, есть призрак без души и чувств. Мин Юнги умер вместе с Пак Чимином!
***
Снова рассвет встаёт над Константинополем, да только солнце скорее прячется за тучи — оно не желает смотреть на то, что творится под ним, не хочет освещать своими лучами бесчеловечность и ужас, происходящий вокруг. Всю ночь, а после и весь день продолжались грабёж, насилие и убийства. Смерть от мечей крестоносцев скосила почти половину населения. Пилигримы захватывали богатые дома и дворцы, вырезая семьи, живущие в них, объявляя себя новыми хозяевами роскошных палат. Их жадность не знала предела, срывая золото с мёртвых тел мужчин и женщин, высыпая сундуки с драгоценностями, но ни одно здание не пострадало от разрушений и пожаров.
К вечеру начался дождь, что прохладными потоками смыл кровь с площадей и улиц, остужая пыл самих захватчиков, что словно насытившиеся волки выглядывали из своих новых домов и дворцов. А после — все потянулись к императорскому дворцу — их призвал вожак!
Намджун снова перед сотнями воинов возвышается скалой, и странная улыбка играет на его бледных губах. Он знает — любое его слово закон и догма, не подлежащие сомнению. Это даёт невероятное, пьянящее сознание чувство всесильности, что полностью подчинило себе Белого рыцаря. «Царь и бог» будет диктовать новую волю, и её примут беспрекословно. Как кусок жирного мяса он кинул своим оголодавшим и жадным волкам этот город, накормив их досыта, и в умах каждого теперь «хозяин» будет кормить их до конца их дней, только нужно вновь выполнить его повеление, вновь преклонить колени и голову, подчинить свою волю ему — Белому рыцарю.
Не все замечают стоявшего в тени Намджуна принца Алексея. Он стоит опустив плечи, но с надеждой в глазах, что на его голову наденут императорскую корону, сменив корону принца. Он ждёт этого невероятно, да только тщедушная душонка бывшего пленника всё чувствует, всё понимает... и знает. Он вздрагивает от первых слов беловолосого, и сердце прыгает от испуга, словно он не ожидал услышать этот голос.
— Мои храбрые войны достойны Рая, достойны Царствия Небесного, достойны благодати! — крики тысячи голосов возносятся в темнеющее небо и мечи блестят холодным серебром в сумраке дождливого дня. — Так где, если не здесь — в этом священном месте, в этом великом городе, сотворённом самими богами, и есть благодать, и есть Рай? Мы дошли до него силой своего меча, храбростью своего сердца завоевали его. Разве вы недостойны этого Царствия Небесного? Разве вы — мои храбрые воины — не истинные хозяева этого города? — в ответ лишь утвердительные крики и гул одобрения, а у рыцаря улыбка ещё шире и словно пьяная. — Это наше царство! Наш город! И воля здесь должна быть только нашей! Отныне, Константинополь — вотчина крестоносцев, столица новой империи, что мы нарекаем Латинской! И править им должен истинный король, а не чужак, прибившийся к стае. Мы выберем нового императора. Того, кто направлял нас, того, кто заботился о душе каждого из нас, призвав в этот поход, и благодаря которому мы достигли этого Царствия!
Алексей начинает пятиться назад понимая, что это конец — он один среди стаи волков, что раздерут его на части прямо на этих ступенях. Он видит белозубый оскал Намджуна, что ласково шепчет: «Вы боитесь? Нет, не так — мало... мало боитесь!», а тот лишь мотает головой, отходя всё дальше и дальше.
Словно рык приказ Белого рыцаря — «Схватить. В кандалы... и в самые глубокие темницы!». Принц не сопротивляется — к чему? Последние силы покинули его, и несчастного глупца просто волокут по мрамору в столь знакомые ему «покои», в которые он был изначально заточён. Смех вырывается из горла, истерия накрывает мужчину, что смеётся над самим собой, над своей невероятной глупостью, над своей несчастной надеждой. Он смеётся во всё горло, откинув голову, с которой словно призрак скатилась корона, отстукивая по белому мрамору. И сквозь абсолютную невменяемость, Алексей слышит имя, от которого больные глаза распахиваются ошеломлённо.
— Да здравствует Император Латинской империи! Да здравствует Император Ким Сокджин! Господь, благослови Императора Сокджина!
Да здравствует новый Император!