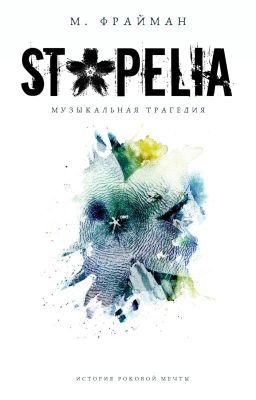EP 1. Удар
«Бойся света, бойся сделать вдох, всегда бойся чего-то другого» [1]
Что это за место? Почему мне надо быть здесь? Тут тревожно, еще пиликает что-то. Впереди есть свет, узкая полоса света стоит столбом, а за ней проплывают белые силуэты. Вот бы посмотреть, куда они идут. Хочется уйти отсюда, но я не чувствую руку. Ее словно накачали водой, и если уколоть кожу иглой – прыснет, как из продырявленного шланга. Да в этой руке уже много дырок и синяки на сгибах! Или нет, никакая она не рука?
Какое тяжелое ватное тело завалялось посреди комнаты. Тело мне не принадлежит, кто-то просто забыл его убрать. Или я должна была сделать это? Почему тогда просто смотрю на него? А если не смотреть, то становится так легко, словно я невесомое облако.
Ох, а с другой стороны еще одна рука. Кто-то оставил? Может, если взять ее, то я смогу уйти? Могу ли я одолжить ее? Вроде тут нет никого, кто мог быть против, только это ватное тело. Рука хорошая. На ней, правда, тоже синяки, но ее не кусают змеи, не прыскают под кожу бесцветный яд. Подумаю об этом позже. Мне еще надо найти ноги, без них я не смогу поменяться руками.
Какая я невнимательная. Вон там, в сторонке еще один. Еще одно тело. Наверно, это его рука. Не будет ли он против, если я одолжу ее? Какое-то отверстие разинулось в самом верху меня, и странное гудение вырвалось наружу. Что это было?
О, он заметил. Как-то суетливо затрясся, вытянулся темной тенью и исчез в полоске света. Вошел прямо в сияющий столб, на секунду сделав его шире. Куда он? Мне нужна помощь! Может, его напугало то гудение? Оно и правда звучало жутко. Надо хорошенько оглядеться, может я пропустила еще тела, и одно из них мне точно поможет.
Сияющий столб снова расширился и через него просочились белые силуэты. Их привело то тело? Они окружили меня и что-то невнятно бормотали. Им удалось освободить мою руку из змеиного плена: просто вытащили ее длинный блестящий клык из-под кожи. Выглядело легко, почему я сама не догадалась? О, нет! Что они делают? Подносят ко мне новую змею, которая от голода прыснула вверх слюной, и теперь ее клык снова под моей кожей. Разве эти изверги не видят, что рука скоро лопнет от натуги и забрызгает их белые силуэты?
Становится страшно. Я не понимаю где я, что происходит. Кто вокруг меня, и что за бурлящее бормотание исходит от них?
♪ Её имя♪
Девушка с перебинтованной головой только открыла глаза, как сощурилась от ослепительной чистоты ледяных сталагмитов, за которые приняла медицинские халаты врачей, выстроившихся вокруг больничной койки. Целый консилиум слетелся к тяжелому пациенту, пришедшему в сознание спустя сутки после серьезной операции, и под общее неразборчивое бормотание разбрызгивал по палате яркий солнечный свет. Он то и щипал до слез глаза, привыкшие к сумраку наркозного сна.
Она попыталась осмотреться снова, найти себя в незнакомом месте среди бормочущих незнакомцев, но каменная усталость от легкого движения головой буквально вдавила её в постель. Кто-то из врачей тут же оживился: проявил особое внимание к пациентке, от которого та пугливо зажмурилась. За его вниманием не последовало ничего плохого. Только появилось странное ощущение на подушечках пальцев, будто влажная теплота скользнула по ним и слегка прикусила. Оно оказалось таким приятным, что невольно заставило девушку посмотреть на свою руку. Врач сжимал длинные, тонкие пальцы, наверно выражая невербальную поддержку, и долго не отпускал. На что получил ответ. Очень слабый, как прикосновение к ладони первого луча весеннего солнца, вмиг скрывшегося за рассеянными облаками. Для такого простого действия понадобилось много сил: все, какими располагала девушка по пробуждении. Потому - сразу после, она уснула и не увидела, как врачи единогласно и удовлетворенно кивнули головами.
Сколько времени прошло после первого осознания себя в незнакомом месте, она не могла сосчитать. Следующие пробуждения стали такими же внезапными и тяжелыми. Один незнакомец в ослепительно белом приходил регулярно и долго-долго массировал каждый сантиметр залежавшегося андрогинного тела, отчего девушка обычно и просыпалась. Она устало бодрствовала то дольше, то меньше. Ее кормили с ложки чем-то теплым, скользким. Достаточно было глотать, а то и вовсе просто дать питательной жиже стекать по пищеводу. Периодически она мучилась от головокружения и ощущения свободного падения, когда ее садили на каталку и увозили в помещение, состоявшее, как казалось, из маленьких квадратиков. Там девушка чувствовала стекающую свежесть, пробивающую до бодрящей дрожи.
Каждый приходящий следовал определенной программе, выполнял прописанную роль, соблюдая очередность, которую она вскоре смогла запомнить, даже дала свое уникальное название. Но все посетители, как по сговору, неустанно бормотали. Был даже один незнакомец в ослепительно белом, который приходил только для этого – бормотать, пристально глядя пациентке в глаза, явно желая, чтобы та забормотала в ответ.
Слух девушки не мог зацепиться ни за одно слово, если они вообще были, и вместо понимания она сталкивалась с еще более странными, загадочными образами. Разговоры врачей не просто звучали какой-то мелодией. В ее голове они становились целыми мюзиклами на незнакомом языке, сюжеты которых виделись весьма чудаковатыми.
По отдельности голоса, как музыкальные инструменты, приносили с собой разную игру образов. Один был с медным оттенком духовых и представлялся подпрыгивающей крышкой на кастрюле с кипящей водой. Другой – с дребезжащим гонором струнных походил на заевшую молнию олимпийки. Третий отыгрывал низкую трель клавишных и выглядел, как зачесавшаяся вислоухая собака, тарабанящая лапой по полу. Когда же врачи собирались вместе вокруг больничной койки, тогда образы их голосов сплетались между собой, и девушка видела музыкальное представление, тонущее в сюре, которому не хватало субтитров. Вислоухая собака в олимпийке грызет заевшую молнию и случайно бьет лапой по кастрюле с кипятком. Ей не хватало текста, чтобы разобрать: хорошую она видит песню о себе или плохую. То, что песня именно о ней – не было никаких сомнений. В мелодию часто прорывались две лишние ноты, укалывающие слух диссонансом. Две ноты, которые были ее именем.
«Я родилась без сердца, в холоде, в темноте» [2]
Эйприл "Стапелия" Мэй. Имя, которое я взяла себе сама. Зловонный цветок, рожденный между апрелем и маем, когда снег млеет под лучами солнца, но еще недостаточно тепло для взрыва почек на деревьях. Другого имени у меня не было.
Но я вру.
Было еще одно, подобранное для неотложного пациента сердобольной медсестрой, посчитавшей, что младенцу оставаться без имени – дурная примета. Ее выбор не звучал по канцелярски избито, несмотря на обстоятельства не был на скорую руку сляпан из имен знаменитостей или коллег, первых пришедших в голову. Она подошла очень лично к заполнению первых пунктов стандартного бланка.
Нелюбимое Имя Неизвестно
2500 грамм, 50 сантиметров.
Умеренная гипотермия.
То имя, наверно, единственное проявление любви ко мне за всю жизнь. Только я все равно его ненавижу. Оно всегда значило для меня лишь одно - я выжила, и это основная причина всех бед.
Но вот я здесь. В комнате ожидания, в которую не смогла попасть в младенчестве. Верующей я точно никогда не была, но на этой стороне и правда есть ангелы. Они сложили белые крылья на плечах и стали обычными людьми в шинелях. Или, скорее, в халатах. Один часто стоит у изголовья с какими-то бумагами в руках. Апостол Петр, читающий записи моей жизни и решающий пропустить ли через врата? У него должны быть крылья?
Хочется спросить его: почему я? Все то, что он видит в тех записях - за что мне досталось с самого рождения? Наверно, скажет: «Таков замысел божий». Мое мнение на этот счет (и вряд ли Петру оно интересно), что замысел касается лишь тех, кто может как-то повлиять на людей. Я же оставалась всю жизнь незамеченной ими. Как, думаю, и богом. Он просто проглядел мое рождение, и теперь один из его пернатых не может найти мое имя. На лице у апостола застыла растерянность: нет такого человека в книге учета душ.
♪ Забытый голос♪
Перина подушки от влаги сбилась в верблюжий горб и болезненно упиралась между лопатками. Спина Эйприл немела без движений, а тянущая боль соблазняла свернуть себе шею и услышать спасительный хруст позвонков. В ватном теле все еще мало сил, ноги не слушались, – хоть им уделялось очень много внимания со стороны врачей, одна из них оставалась парализована – а сидящая у койки медсестра сейчас плохой союзник. В эту самую минуту главная обязанность женщины в ослепительном белом – запихнуть в тощую девушку всю плошку овощного пюре, орудуя неподвижной рукой пациентки с зажатой в ней ложкой. Роль же последней была до унизительного проста: не оказывая сопротивления, открывать рот навстречу неопознанной летящей конечности и глотать. Это то немногое, что ей оставалось по силам.
В тарелке растекалось страданий еще на половину порции питательной жижи, когда в палату явился тучный мужчина, сверкая залысиной. Он тоже был в ослепительно белом халате, накинутом на плечи поверх полосатого костюма. Прежде среди постоянно мельтешащих лиц врачей он не появлялся. Не был тем, кто щупал ее тело, купал, крутил руки, заставлял стоять на бесчувственных ногах. Абсолютно свежая внешность, свежая мелодия голоса и человек без имени. Девушка воспользовалась вмешательством внезапного посетителя в трапезу и отвернулась от неопознанной конечности с ложкой, в руках заботливой медсестры.
− Эйприл, − огорчительно присвистнула та знакомые диссонансные ноты, отставив тарелку с недоеденным обедом на специальную тележку.
− Эй-прил, − обрывисто повторил толстяк, вынудив девушку посмотреть на него.
Его слова приветствия (наверняка за именем последовали они, иначе чем еще сопроводить первый пристальный взгляд друг другу в глаза) потонули в ужасной какофонии. Посетитель звучал грузно, медленно и с отдышкой толстяка, отчебучившего твист. Непонятно отчего язык Эйприл словно обожгло теплым бренди. Привиделось, будто сухой осенью желтые резиновые сапоги нагреваются от яркого солнца, и на носках засыхает не пойми откуда взявшаяся грязь. Слушать его было тяжело. Аккомпанемент незнакомца продолжился, к нему добавилась свиристель медсестры, отбивающей ритм стальной ложкой по тарелке. Ее голос был тем лживым признаком весны, когда сырая от осенних дождей земля пахнет молодыми побегами под гниющими листьями.
Эйприл передернуло от взгляда на питательную жижу, а губы едва разомкнулись, выпуская звучный вздох, и толстяку это странным образом понравилось. Он согнал со стула у койки женщину-кормилицу в ослепительно белом, опустился на него и потянулся к пациентке переменившимся лицом. Если по приходу оно выражало усталость человека, явившегося на каторгу, то теперь сияло фанатичным интересом. Жестикулируя руками, мужчина спародировал вздох. Девушка хмуро встретила запах жухлой листвы изо рта незнакомца. Она сделала жалкую попытку отодвинуться от него, насколько позволяли неподвижные ноги и вялое тело, но толстяк подпрыгнув вместе со стулом, придвинулся ближе и еще раз пародийно вздохнул.
Кисть его руки описывала в воздухе круги, изображая зацикленность. Он снова завел свою неблагозвучную мелодию с выраженной вопросительной интонацией и указал на тарелку с недоеденным обедом. Эйприл не отреагировала. Тогда он поднял невзрачное блюдо с тележки, помешал содержимое и протянул пациентке, словно предлагая доесть. Девушка отвернулась от него.
Мужчина не сдавался и легонько коснулся ее мочки уха, но уже молча. Та рассердилась и резко посмотрела на него. Он прижимал к губам палец и только отрицательно кивал головой. Он дал этому действию название. Короткое, в одну ноту. И повторял его несколько раз. Эйприл запомнила это слово, только не могла произнести вслух. Толстяк добродушно сжал кисть неопознанной конечности и ушел в сопровождении какофонии собственного голоса, завершившейся двумя знакомыми диссонансными нотами. Наверняка перед ее именем следовали слова прощания – очевидный ритуал перед завершением столь внезапного явления.
Он приходил еще и еще. Всегда после обеда, а уходил так скоро, что с губ Эйприл не успевал сойти вкус больничной пищи. Толстяк словно опасался утомить ее присутствием, хотя она уставала, только завидев тучную фигуру в дверях палаты. Ведь мужчина всегда приходил с неизменной какофонией голоса, от которого уши буквально вяли, и неизменным видением желтых резиновых сапог, испачканных грязью.
Он оказался врачом, ответственным за то, чтобы вернуть ей возможность говорить. Приносил с собой карточки с какими-то картинками, закорючками, некоторые из которых выглядели знакомыми, но с уст толстяка звучали не так, как в голове Эйприл. Иногда она хотела поправить его, продемонстрировать, как на самом деле называются те или иные закорючки, но не могла. Словно забыла, как заставить себя звучать.
«Замолчать навсегда, испепеляя своё сердце» [3]
В этой комнате ожидания запахло цветами. Кто-то неизвестный принес букет, пока я спала. Развел могильник посреди обители спасения!
Ждать очень утомительно. Самый главный из пернатых не может разобраться в своих бумагах. Каждый раз приходит, делает какие-то пометки, мелодично напевая невнятную трель, а после уходит.
За ним приходят другие, те что попроще. Начинают лапать меня, ворочать из стороны в сторону. Наверно по его указке ищут метки и подсказки, по которым Петр сможет отыскать информацию обо мне. Только так у меня есть шанс получить билет на поезд. А куда я еду? За этими бюрократическими проволочками я совсем забыла о пункте назначения.
Дважды меня протирают влажной холодной губкой. Наверно стирают изученный слой, на котором ничего не нашли. Потом снова приходит Петр, делает пометку – что-нибудь из разряда «не обнаружено» – и все начинается заново.
Сколько уже времени прошло? В клетке за стеной комнаты ожидания бьется огненный шар. Несколько раз он гаснул, а потом разгорался с новой силой. Надо пересчитать: оранжевый, Д, Тыква, Черепаха... Сколько вышло? Надо разделить и помножить на усталость.
Оставьте меня в покое! Что вы хотите от меня?
Я беспомощно лежу в комнате ожидания, пропахшей цветами, прицепленная проводами к звуковой карте – ох, эти родные регуляторы, кнопочки, лампочки. Так и манит покрутить и настроить. На маленьком экране отображается трек, что застрял у меня под грудной клеткой. Выглядит рвано, много лишних шумов издает искалеченное сердце. Причесать бы его, вылизать, добавить еще инструментальных дорожек и вышла бы песня.
Тут исполняют последние желания? Мне нужны мощные мониторы для работы. Хочу снова услышать свой голос. Подключите микрофон напрямую к голове, засадите "джек" поглубже в ухо, и я спою вам музыкальную трагедию. Если вспомню слова...
И хороший сабвуфер, чтобы задушить дробью басов какофонию Голосопеда.
♪ Порванная нить♪
Ослепительно белые халаты потеряли авторитет после девятого дня от первого пробуждения. Безымянные лица угнетали Эйприл, и она перестала реагировать на их появление. Она притворялась спящей и не открывала глаза, даже когда чужие руки вновь принимались трогать ее беспомощное тело. Если кому-то из врачей удавалось застать ее неприкрыто бодрствующей, то стоило только в палате зазвучать неразборчивому бормотанию, как она тут же опускала веки.
Единственный букет, принесенный неизвестным, увял, как и тяга к воле, без которой девушка оставалась лежачим камнем на постели. Чувствуя, что срастается с простынями, она рассчитывала однажды полностью слиться с ними и быть вынесенной из палаты вместе с грязным бельем. Словно последний весенний снег, Эйприл тихо таяла, стекая слезами на подушку. Очень скоро, она верила, ей удастся обхитрить незнакомцев в ослепительно белом, ускользнуть водой между пальцев их дотошных рук, и все для нее наконец закончится.
Она оставила попытки заговорить, как того ждал Голосопед. Ему удалось добиться от девушки нескольких отдельных слогов, но она быстро сдалась, когда не смогла сказать ни одного цельного слова из тех, что роились в ее поврежденном мозгу. Тогда взгляд Эйприл совсем потух.
Как снова зажечь в нем пламя? У врачей имелся ответ, но они все равно оставались беспомощными. С точки зрения медицины незнакомцы в ослепительно белом сделали многое: спасли жизнь и теперь старались вернуть пациента к самостоятельной жизни. Большинство утерянных способностей, в том числе и речь, можно вернуть в первые полгода после травмы. Но без желания и активного участия самого пациента прогресс будет незначительным или вообще отсутствовать. Тут помогла бы прививка от одиночества: человеку попавшему в тяжелую жизненную ситуацию важна поддержка близких. К сожалению, про родных Эйприл медики ничего не знали, в ее карте не было никакой информации о родителях, о муже, а в ее 32 года она не имела детей. Единственная ниточка, за которую они могли потянуть, вела к человеку, оказавшемуся рядом с девушкой, когда ее жизнь раскололась надвое. Он лишь раз прибыл в больницу, чтобы узнать о ее самочувствии и перспективах на восстановление, а после ниточка оборвалась. Он больше не появлялся в больнице.
Телефона при Эйприл бригада скорой помощи тогда не нашла.
«Ты снова совсем одна у самого начала?» [4]
Букет сбрасывал засохшие лепестки. Пернатые несколько раз порывались вынести его из комнаты ожидания, но я не разрешала. Мне нравился этот увядающий веник. Он стал символом того, что кто-то заметил мое отсутствие, или... просто заметил меня. Он источал внимание. Увядающее, но внимание.
Его вынесли, пока я спала. Просувшись я устроила мычаще-ревущую истерику, не обнаружив цветы на привычном месте. Больницу подняли на уши. В конце концов их вернули, благо не успели отправить отходы на утилизацию. Теперь этот букет стал символом меня - цветка, вернувшегося с помойки. Стапелии.
Это неправда, что мой мозг повредился, только когда какой-то слабый сосуд надорвался и стал наполнять кровью черепную чашу. Он повредился давно, когда женщина, потугами которой я появилась на свет, завернула меня в полиэтиленовый пакет и вынесла из дома, как мусор. Это определило мою жизнь.
В воспитательных целях или просто из циничной неприязни мне рассказали об этом факте. Местный психолог, такой уж он был специалист, показал личное дело, где короткой заметкой фигурировали обстоятельства появления в приюте. Конечно, об этом быстро узнали все сироты. Я стала мусором, помойной крысой, вонючкой, всем тем, что ставят в дальний угол или на заднем дворе, чтобы не забыть донести до урны. Одним словом - изгоем. Я перестала быть человеком.
От невыносимой жизни и плохого отношения ко мне со стороны других детей я сбегала дважды. Первый раз лет в девять. Каким-то чудом мне удалось улизнуть из детского дома незамеченной. Хотя, догадываюсь каким: впервые мое главное проклятье − быть никем, игнорируемой всеми − сыграло мне на руку. Я сбежала. По той же причине мне удалось прожить на улице целых восемь месяцев, ночуя на чердаках и питаясь краденной на рынке едой. Те восемь месяцев я ощущала себя куда счастливее, чем в том доме, полном озлобленных брошенок. Потом все же меня поймали. Вернули в старый ад.
Второй раз я решилась сбежать только через несколько лет, когда мне исполнилось пятнадцать. И, правда, всего на пару дней, но они полностью изменили меня.
В тот роковой (хех!) день Грымза читала мне нотации. Она тот самый детский психолог, чьими стараниями я стала изгоем. Наши беседы всегда шли по одному сценарию: она отчитывала меня за то, чего я не делала, и вдавливала мысль о том, что все издевательства надо мной происходят исключительно по моей вине. Ее мобильный телефон зазвонил в самый разгар моего угнетения. Она с гордостью и чувством превосходства над сиротой – явно стремилась вызвать у меня зависть – достала пиликающую диковинку из сумки. Ответила и вышла из кабинета. Видимо, на другом конце линии поднялась интимная тема, и ей не хотелось греть подробностями чужие уши.
Я осталась наедине с приоткрытой сумочкой. Разговаривала Грымза негромко, но с чутким слухом, коим обладала видимо с рождения, я бы сразу услышала, как закончится телефонная беседа. Из преступного любопытства я покинула «стул позора» и пошуршала содержимым. Духи, косметичка, красный портмоне, золотое обручальное кольцо: базовый набор любой нормальной женщины.
Я вынула из кошелька пару купюр, планируя уже сегодня покинуть стены чертового приюта. Сразу после дневного отбоя, я пересекла границы детдома и укатила в ближайший город на попутке.
Украденных денег оказалось не так много, чтобы разгуляться на полную катушку. Но их хватило мне на первую дозу...
Что бы я сделала, если знала, что подсяду с первого раза? Хех, прихватила бы еще и кольцо.
♪Язык печали♪
Прячась от врачей и внешнего мира, Эйприл с головой куталась в одеяло. Ее не волновали стремительно закачивающийся запас кислорода и удушающее тепло. Лишь темнота и ограниченное пространство имели значение. Сомнительная защищенность. Но одной по-детски наивной уверенности – если ей никого не видно, то не видно и ее саму – хватало, чтобы на время сбежать от реальности. Убежать по-настоящему с парализованной ногой девушка не могла.
Незнакомцы в ослепительно белом не оставляли попыток поговорить с Эйприл, и она принимала их чуть ли не за врагов, которые появляются только для того, чтобы продемонстрировать свою полноценность поломанному человеку. Под тяжелое шерстяное одеяло их голоса проникали притупленными, но чуткий слух девушки выхватывал образы выученных мелодий, и в воображении тут же рисовались лица, которым они принадлежали. Все равно, что вести одностороннюю беседу, с глазу на глаз с утомительным посетителем. Оставалось только спать или притворяться. С некоторыми срабатывало: обнаружив пациентку спящей, врачи покидали палату. Голосопед действовал настойчивее. Даже когда приходилось иметь дело с вздыбленным одеялом, он уверенно продолжал говорить. Эйприл радовало одно – встречи с ним длились недолго.
Совсем скоро о ней должны забыть. Так всегда происходило, и впервые ей этого хотелось. Девушка слишком долго ждала внимания к себе, что получить его сполна, будто с ней расплачивались за долги, скопившиеся за годы одиночества, оказалось болезненным. Толпа незнакомцев, собравшаяся у койки, ждет от Эйприл каких-то действий. Ждет, чтобы она сделала шаг навстречу, сжала руками какой-то предмет или назвала объект, изображенный на карточке. В конце они поаплодируют и забудут. Забудут все ее песни. Песни?
Шаркающая поступь послышалась за дверью. Тучный Голосопед снова приближался к палате, и одна мысль о нем вгоняла Эйприл в сон. Она спряталась под одеялом. Одной рукой схватилась за край койки и изо всех сил подтянула тощее тело, чтобы перевернуться на бок. Глаза тут же устало закрылись.
Вошли двое, шепотом переговариваясь.
Под одеялом разгорелась знакомая сухая осень, посреди которой желтые резиновые сапоги с грязью на носках сверкали в лучах яркого солнца. Голосопед раньше времени принес с собой запах жухлых листьев и ощущение прилипшей к руке гнильцы. Но вот под листвой, звеня шипящим хвостом, извивается «белоухий» уж. Он ползет под крыльцо, прячется в сырой тени и прикусывает кончик языка яблочной кислинкой. С врачом пришел кто-то еще, его голос Эйприл раньше не слышала в стенах палаты.
Незнакомец подошел к койке, шурша одеждами, и осторожно прикоснулся к неопознанной конечности, которая безвольно выступала за край постели, оказавшись зажатой под телом. Голосопед отчебучил короткую какофонию, и некто второй коснулся одеяла в том месте, где предположительно находилось плечо другой конечности.
Эйприл на секунду высунулась из-под шерстяного укрытия. Перед ней стоял тощий парень со светлыми патлами в странном прикиде. Мешковатую футболку он для чего-то натянул прямо поверх темной водолазки. Но когда девушка пригляделась, то заметила, что его руки и шею полностью покрывали хаотичные рисунки. Какая-то лампочка зажглась в сознании, и она узнала посетителя. Девушка нерешительно и неловко попыталась приподняться, чтобы рассмотреть его получше, но ничего не вышло. Помог Голосопед, усадив ее на постели и подложив под спину подушку.
Имя посетителя вертелось на языке, но произнести его вслух не удалось: губы Эйприл беззвучно приоткрылись. Парень улыбнулся, кажется, вздохнул с облегчением, сжав ее бесчувственную руку. Уселся рядом. Пару минут он обсуждал что-то с врачом. Голос его лился чешуйчатой мелодией, словно парень говорил шепотом со звенящими шипящими. Вскоре тучный Голосопед покинул палату, оставив их наедине.
Новый посетитель натянуто улыбался и остерегался долго смотреть в глаза Эйприл. Он явно чувствовал себя некомфортно, не зная, как подступиться. Наверняка, прежде, чем прийти сюда, врачи рассказали ему о всех проблемах девушки: о безвольных ногах, неопознанной руке, замершем голосе, забытых словах и воспоминаниях, утерянной самостоятельности.
Через пару минут молчаливых переглядов нога парня задергалась, словно держала ритм какой-то песни. Или отсчитывала секунды? Он явно предпочел бы уйти прямо сейчас, но что-то его задерживало. Он провел рукой по губам и подбородку, стирая с них сковывающую нерешительность, и начал свой рассказ.
Его предложения разбивались на слова, слова – на буквы, буквы – на ноты, из которых строилась единая мелодия без внятного смысла. Эйприл пристально смотрела, как менялась мимика на лице парня, на оживленную жестикуляцию. Она буквально заглядывала ему в рот, словно язык мог описать звуки текстом из знакомых ей закорючек, тем самым позволив нащупать понимание сказанного. Но в услышанном она видела только странные образы «белоухого» ужа с маракасом на хвосте и узнавала две диссонансные ноты. Парень часто называл ее по имени.
Девушка не знала, сколько времени прошло, прежде, чем парень засобирался. Ей показалось, что слишком мало. Пришла медсестра с тележкой больничной пищи и предложила посетителю то ли отпробовать желтую жижу, то ли покормить Эйприл с ложки. Он решительно отказался, стараясь сохранить на лице достоинство. Однако губы и лоб едва сморщились от брезгливости, а от наигранно вежливой интонации его голоса погремушка на хвосте змеюки сбивчиво потрещала. Девушка сделала вывод, что она знакома с парнем, но они не были достаточно близки. Хотя ее удивило бы обратное.
Его появление оживило больничную жизнь Эйприл. Он приходил через день-два, где-то на час. В этот час она много улыбалась. Иногда, правда натянуто – зная, что скоро он уйдет, а когда придет в следующий раз - неизвестно. Девушка вернулась к реабилитационным занятиям, участвовала в них активнее, научилась уверенно стоять без посторонней помощи. Голосопед задерживался дольше – пациентка сама не отпускала его, явно намереваясь скорее вернуть голос или хотя бы понимание чужой речи. Но видимых успехов не было.
Однажды патлатый парень принес и установил в палате телевизор, чтобы Эйприл вечерами могла пассивно слушать живую речь. Он сразу включил музыкальный канал, где с экрана мельтешили клиповые сюжеты с кучей незнакомых лиц и звучными ритмами.
Голоса и мелодии захватили внимание Эйприл в плен. Она не успевала следить за сменой образов, которыми являлись каждые песни. Если бы она знала о картинах Босха, то наверняка сравнила видимое с ними. Не всё смотрелось гармонично, скорее сюрреалистично, но пробивало до мурашек. Девушка замирала перед телевизором, как жертва перед хищником, очарованная его мерцающим глазом: целый рок фестиваль для нее одной! Ну, и еще одного случайного зрителя.
Укоризненным намеком на отдых от буйствующих образов головная боль укалывала виски, но Эйприл не поддавалась. Она вдруг поверила, что если долго не отрываться от музыкального ящика – очень скоро удастся разгадать шифр загадочных видений.
Когда очередная бойкая песня сменилась новой, дерзкой, то ленту беспорядочных образов будто отрезало невидимыми ножницами. На экране Эйприл увидела своего посетителя с непроизносимым именем. Она перевела на него удивленный взгляд, словно патлатый парень нарушал все законы мироздания, находясь в двух местах одновременно. В клипе его пальцы скользили по гитарному грифу, проигрывая вступительную мелодию, которую девушка непроизвольно замычала, повторяя каждую ноту – настолько та была ей знакома. То был клип, снятый на песню, написанную когда-то ею самой. На следующем кадре она увидела себя, пританцовывающую у микрофона. Хотя танцем те телодвижения до жути тощей, угловатой Эйприл в черных джинсах и майке с рокерским принтом назвать было трудно, даже если бы язык повернулся. От второго удивления она погладила пальцами губы, те же самые, которые на видео зашевелились, выпуская на волю голос. Ее голос.
− С..ст..апелия, − тихо и хрипло вдруг сказала она первое слово, и парень задергался.
Он выбежал из палаты и вернулся уже с Голосопедом. Долго о чем-то говорил ей, и на лицах обоих замерло ожидание. Чего-то они хотели от нее. И Эйприл наугад повторила:
− Ст-апелия.
Врач довольно закивал головой, сделал новые пометки в медицинской карте. А парень с того времени начал атаку воспоминаниями. Он показывал архивные записи, на которых их музыкальная группа выступала в небольших клубах, какие-то видеозаметки дорожных поездок по городам. Эйприл смотрела всё заподряд, невнятно подмурлыкивая знакомым до боли мелодиям.
Из-за случившегося с девушкой группа приостановила концертный тур, но в социальных сетях поддерживала видимость тихой деятельности. Мол, пишется новый альбом, ждите, следите за новостями. Эйприл ничего не понимала из этого, кроме того, что ей больше не суждено вернуться к музыке. Она не понимала людей, не говорила, плохо ходила и вообще не могла обойтись без посторонней помощи в элементарных вещах. А еще ее этот странный голос – пустой, в котором она не слышала никаких картин.
Но активная страничка на сайте поддерживала иллюзию жизни «Стапелии» (группа звалась вторым именем Эйприл, которое она взяла себе сама). И поклонники их творчества нередко оставляли подбадривающие или нетерпеливые комментарии. Кто-то записывал небольшие ролики с увлеченным разбором - чего стоит ждать и какие были намеки на будущий материал. К сожалению, девушка все еще не понимала ни слова. Только временами волнительно задыхалась от дружеских интонаций, которые звучали в тех записях. Однажды даже не сдержалась и заплакала, отталкивая руку парня, сжимавшую телефон. Тот растерялся, поторопился отключить бормочущие видео, но вместо этого – пролистал плейлист далеко вперед, и телефон заглючило, сенсор экрана перестал реагировать на прикосновения. Он сердито бросил мобильник на одеяло и занялся Эйприл, стараясь ободрить ее и успокоить. Она прятала заплаканное лицо в ладонях, игнорируя змеиное шептание больничного гостя.
Спустя пару минут телефон наконец вышел из оцепенения и начал проигрывать случайное видео. Чужой голос разразился в палате, отчего парень вздрогнул и метнулся за телефоном, чтобы отключить звук. Эйприл резко его остановила, вслушиваясь в то, что говорят. Она понимала. Впервые понимала каждое слово и широко заулыбалась. Парень то смотрел на нее ошарашено, то переводил взгляд на мобильник. Он лично не понимал ни слова, так как ролик был записан на другом языке. На языке Страны печали.
«Никто тебя не понимает, но не унывай, ведь музыка с тобой» [5]
Больничный звукорежиссер, Голосопед, заметил одну забавную вещь: термины, касающиеся музыки – названия инструментов, имена групп, жанры – запоминались мной быстрее, чем имена людей, времена года, названия животных и городов. Я даже произносила их лучше и четче, а остальное - сминала в невнятную кашу.
Винил он во всем телевизор, который сутки напролет вещал для меня музыкальный канал. Музыка из него играла всегда. По двум причинам.
Первая. Клиповые сюжеты казались мне простыми: мне по силам было уследить за трехминутным развитием событий. Поврежденный мозг долгое время оставался неспособен понимать полнометражные фильмы.
Вторая причина: музыка помогала чувствовать себя живой. Она мотивировала меня не сдаваться сильнее, чем толпа специалистов.
Я просыпалась с музыкой и с ней засыпала. Телевизор вещал без перерыва. Спустя какое-то время пернатые запретили оставлять его на ночь включенным – мой сон из-за тяжелой музыки, которая часто сменяла собой попсовые мелодии, постоянно прерывался. Я просыпалась и чувствовала себя потеряно. А днем клевала носом на процедурах.
Преобразовательница с печали (языка, который я понимала) однажды появилась в моей жизни и торчала в палате практически постоянно. Она часто переключала каналы, когда думала, что я сплю, и смотрела какие-то мелодрамы. Я не любила их. В них все далеко от правды. Реальность не такая, по крайней мере, моя.
Другой пернатый, я звала его Чернодуркой из-за схожести с таким красивым животным. Да, он был красив, но я не понимала, что он вообще за специалист. Так вот, он заметил, что музыкальный канал положительно влияет на мое эмоциональное состояние, в то время как просмотр фильмов, которые могли помочь быстрее восстановить речевые функции, действовали на меня угнетающе. В итоге пернатые пришли к мнению, что полдня, на радость Преобразовательницы, телевизор будет вещать фильмы, а до отбоя – проигрывать музыку. На ночь запретили его вовсе включать.
Я не сдавалась так легко. Вечерами, оставаясь без присмотра, мне приходилось самостоятельно подниматься с постели и включать заветную плазму. Так что первое, чему я заново научилась - переключать каналы, чтобы в палате музыка играла гораздо чаще.
Чернодурка что-то знал о моих успехах, хоть и не говорил об этом прямо. Но если между делом наши беседы затрагивали эту тему, он загадочно улыбался.
♪Связка мыльных пузырей♪
Когда выяснилось, что пациентка родом из Страны печали и начисто забыла иностранный язык, врачи озадачились поиском специалиста, которого она сможет понимать. Так среди лиц в ослепительно белом появилось еще одно. Оно принадлежало женщине средних лет с необычайно низким, бархатным голосом, похожим на душистое мыло, пушисто пенящееся между влажными ладонями.
Женщину привел Чернодурка в разгар встречи с Голосопедом. Последнего так воодушевили ее игривые кудри, что вспыхнувшая желтизна сапог его какофонии больно ужалила глаза Эйприл. Она зажмурилась и до слез растерла веки пальцами одной руки, а когда снова смогла видеть, то уткнулась взглядом в одну из карточек с закорючками, протянутую врачом. На ней были изображены две противоположности – кукла с крутыми локонами и кукла с прямыми волосами. Толстяк с довольной физиономией указывал пальцем то на нового специалиста, то на пациентку, что-то бормотал и махал перед носом девушки учебной карточкой, как каким-то документом, удостоверяющим личность.
− Он считает, что мы очень похожи на них, − заговорила женщина с теплой улыбкой на лице.
Эйприл слегка вздрогнула, будто физически ощутила понимание каждого слова. Женщина стала для нее чем-то вроде звукоснимателя: благодаря ей неразборчивое бормотание врачей преобразовывалось в совершенно новый сигнал. Сигнал проходил небольшую обработку. Медицинские термины обрезались, убирались и шумы из слов, которые Эйприл не могла пока вспомнить даже на родном языке. Только после этого уста переводчицы покидала уже упрощенная суть.
Девушка наконец узнала, что пережила какой-то тяжелый "удар", с последствиями которого можно и нужно бороться, главное – скорее вступить в новый бой, чтобы наверстать время, потерянное из-за языкового барьера. Помимо нарушенной координации и парализованных ноги и руки, были повреждены участки мозга, отвечающие за речь, чтение и память.
Понимание происходящего внесло ясность и стало положительным моментом. Но принесло и новую проблему. Эйприл замкнулась от ужаса осознания сколько навыков и умений потеряно и что шанс вернуться в прежнюю жизнь невообразимо мал.
Для поднятия духа Гибсон пел ей песни. Гибсон, да. Эйприл смогла произнести имя патлатого парня спустя три недели после его первого появления. Это произошло случайно. Он пришел с гитарой, чтобы сыграть и спеть кое-что из старого репертуара «Стапелии». Как вокалист он был ужасен, звучал противнее Голосопеда, к тому же по-девчачьи нежно. Девушка морщилась от фальши, но заряжалась мелодией и подпевала. Только вместо слов выходило гудящее мычание. Переводчице, которую парень ласково звал Кёрлис, его музыкальные данные, кажется, нравились больше, из чего Эйприл сделала вывод, что у той врожденная тугоухость.
Гибсон стал заходить чаще и задерживался дольше обычного, что радовало пациентку. Правда иногда девушке казалось, что он приходит вовсе не к ней.
Стоило между ними установиться взаимопониманию, пусть и через посредника, парень посчитал важным напомнить Эйприл об одном судьбоносном дне, который изменил их жизни.
− Ты помнишь нашу первую встречу? − Гибсон вдруг засмеялся, видимо в красках вспомнив какие-то детали.
Девушка неуверенно наклонила голову к плечу неопознанной конечности. В голове крутились какие-то сэмплы воспоминаний, но всё не склеивались в единую композицию. Как с полнометражными фильмами, Эйприл не могла соединить между собой отдельные фрагменты, не видя между ними связи.
Гибсон взял восстановление хронологии событий на себя. Он развернулся всем телом к переводчице, рассказывая историю в первую очередь ей, чтобы она уже пересказала ее для Эйприл на доступном языке.
− Эта такая популярная детская мечта – стать звездами рок-н-ролла. Она не обошла нас стороной, поработила от пяток до кончиков пальцев, на которых болели мозоли от каждодневных многочасовых попыток освоить музыкальный инструмент. Мы с парнями – я, басист, барабанщик – быстро нашли друг друга, словно жили в одном дворе и по щелчку засевшей в голове идеи вдруг организовались, собрались и вот уже таскаемся по гаражам, подвалам, репетиционным базам. Тарабаним что-то, пытаясь записать приличную демку. А вот вокалиста искали очень долго, больше года. Прослушали человек семь, но все было не то. Или голос, или характер, амбиции. Один прямо горел сценой, но выглядел не благонадежной капризной барышней. Чуть что не по нему – сразу истерика и саботаж. Кто-то готов был собираться только по выходным и не грезил славой. Для него музыка оказалась простым хобби, которым он разбавлял напряженные учебные будни.
Кёрлис переводила достаточно подробно, почти слово в слово. Только когда Эйприл хмурилась, не разбирая отдельных слов, тогда женщина перекраивала историю, упрощая до короткой сути. Гибсон рассказывал задорно, активно жестикулируя и даже отыгрывая роли кандидатов в вокалисты. По его пантомимам стало ясно, что «капризная барышня» был импозантным пухляшом с бородой, который отжигал по полной, когда демонстрировал мощь и сочность своего голоса, а другой кандидат – типичный хорошист и пай-мальчик в очках и брюках на подтяжках сладко пел балладные мотивы.
Кёрлис хохотала над историей и тем, как парень украшал рассказ короткими миниатюрами. В этих звонких нотках девушка-без-голоса видела связку мыльных пузырей, похожую на букет из воздушных шаров, медленно приближающуюся к носу и разом лопающуюся, из-за чего глаза щипало до слез. Может это иллюзия? И Эйприл на самом деле до горечи обидно из-за взаимопонимания двоих, где она - мешающий свидетель.
− Как-то прибегает на репетицию барабанщик, − Гибсон продолжил повествование, изображая одного из членов группы нервным сорвиголовой. – Трясет перед нашими носами телефоном, в котором просидел всю ночь, ползая по разным сайтам. Он был так перевозбужден, и я подумал, что это были порно сайты. Но он открывает один из них, там объявление о поиске группы с прикрепленной демкой вокала. Мы послушали, звучало многообещающе. Списались с автором, договорились о встрече. В назначенный день сидим, значит, с парнями в условленном месте. Ждем. Тут к нам подходит тощая девчушка без признаков взросления, − он поводил рукой вдоль торса, намекая на плоскую грудь Эйприл; Кёрлис заулыбалась, но перевела его слова без этой обидной детали. − Я тогда еще подумал: «Какого хрена пустили школьницу в бар?». Подошла, значит, к нам и что-то шепчет еле слышно. Никто ничего не понял. Переспросили ее, мол чё надо, говори громче. А эта малявка как-то вся сжалась, напряглась, отвечает сипло так и еще тише: «Я по объявлению. Договаривались с вами встретиться, и я вокалист, которого вы ищете». Мы очумели от такого заявления. Ты вообще слышала, как она поет?
Последний вопрос Гибсон задал уже переводчице, и та покачала головой. Он достал телефон, нашел одну из композиций «Стапелии»: на фоне чисто роковой мелодии мужским вокалом исполнялась грубая, экспрессивная песня.
− На демке голос звучал точно так же, − парень заглушил песню, когда получил желаемый эффект: Кёрлис пораженно смотрела то на мобильный, откуда надрывался суровый голос, то на хрупкую девушку. − Мы серьезно ждали мужика. Какого-нибудь прокуренного сорокалетнего торчка. Да, кого угодно, короче, но не школьницу.
Он засмеялся, и Эйприл инерционно заулыбалась ему, слушая пересказ в переводе. Сама же история казалась ей чужой. Как она могла когда-то петь не своим голосом, когда сейчас вообще не способна говорить?
− Все выглядело, как дурная шутка, − на этом Гибсон закончил.
− Шутка школьника! − подхватила Кёрлис на чужом языке, потом перевела для Эйприл.
− В точку, − парень снова посмеялся, прищелкнув пальцами. − Так и хотелось сказать: «Позови брата или папу, мы тут для серьезного дела собрались». Правда, потом она спела. Вернее, мне сначала показалось, что какой-то накуренный мужик орал на нас матом. Но когда понял, что эта девочка - источник необычного голоса, то А-Ч-У-М-Е-Л. Мы все очумели. Сомнений больше не было. Так появилась «Стапелия».
− Почему «Стапелия»? – с искренним интересом спросила Кёрлис.
− Эйприл знает, − парень пожал плечами.
Вдвоем они одновременно посмотрели на девушку. Она виновато опустила взгляд, потому как не могла рассказать им.
− Эй, Эйприл, − позвал ее Гибсон и взял за неопознанную конечность. − Ты уже сделала это однажды. Научилась писать музыку, научила себя звучать. Ты сделаешь это снова. Повторять - это же не делать с нуля. Верно?
Он говорил красиво, думала девушка. Но делать придется именно с нуля. Словно только родился: учиться ходить, говорить, писать, заново осваивать программу для звукозаписи, вновь искать голос...
Слезы побежали по впалым щекам. Она хотела бы заразиться верой Гибсона, но некоторые нотки в его словах звучали слабо: он сам не убедил себя до конца, что восстановление Эйприл возможно. Девушка глубоко вздохнула и задержала дыхание, тем самым намереваясь задушить в себе сомнения. После чего кивнула.
− Вот и славно, − парень похлопал ее по плечу неопознанной конечности.
«Найди ритм во всем, что видишь, он прямо перед тобой» [6]
Музыканты, должно быть, самые настоящие торговцы вдохновением. Откуда в них самих разгоралась творческая эйфория, тогда я еще не знала: может слушали гладкое легато ветра, колкое пиццикато дождя или рондо крови по венам. Но их мелодии пронзали меня электрическим импульсом, вызывая привыкание. Мне нужна была новая доза.
Рок музыка клешнями вырвала меня из реальности в тот второй побег из приюта и унесла в параллельный мир, где я стою на сцене большого клуба... Нет! Стадиона! А десятки тысяч голосов поют вместе со мной. Мурашки бегали по коже от одной только мысли об этом. Я представляла так ярко, так живо. Безумно хотелось попасть в ту иную жизнь.
Когда музыкальной дозы стало не хватать, я решила стать «курьером».
Прежде, чем покинуть стены приюта, я узнала адреса местных учебных заведений и отправилась за будущим своей мечты. Я планировала стать дилером вдохновения: хотела заниматься музыкой, хотела делать ее, петь, выступать, как группы, поразившие меня звучанием.
В одном из высших учебных заведений нашлась подходящая специальность и для поступления не требовалось музыкальное образование. Так я воспользовалась сиротским правом на бесплатное обучение и выбрала направление звукорежиссуры.
Днем я пропадала на учебе, а вечерами подрабатывала музыкальным «курьером»: волонтёрила в ночном клубе за билеты и могла бесплатно посещать несколько концертов в год. Как-то раз попала на выступление одной зарубежной группы и влюбилась в звучание чужого языка. Их музыка стала для меня Королевской! Голос вокалиста мелодично лился даже в самой жесткой манере исполнения. Так на мой слух должна звучать настоящая музыка, пробивающая до мурашек!
♪Уж на сковородке♪
С появлением переводчицы реабилитация наконец стала давать заметные результаты.
Под руководством Голосопеда пациентка понемногу начинала говорить. Конечно, врач больше не выступал на первых ролях, так как говорил на забытом языке, но он активно консультировал Кёрлис. Она в свою очередь работала с девушкой напрямую, и спустя пару месяцев плотной работы с афазией та уже строила простые предложения и даже отвечала на некоторые вопросы не только «да» или «нет», а еще и отдельными словами «хочу», «буду», «знаю».
Ранее парализованная рука больше не воспринималась, как неопознанная конечность. Эйприл признала ее своей и теперь могла шевелить пальцами, каждодневно работая над моторикой. Успех настиг и в восстановлении навыка ходьбы. Девушка давно научилась сохранять равновесие в положении стоя и перешла к упражнениям на передвижение. Пока только со смущающими ходунками.
Но больше всего Эйприл обожала игровую комнату, где уделялось внимание повседневной деятельности, занятиям на тренировку памяти и усваиванию новой информации. Внутри этой комнаты царило беззаботное детство, которого у девушки никогда не было. Вместе с врачами и переводчицей, а иногда и Гибсоном, она играла в лото и домино. Собирала паззлы и мозаики. Лепила фигурки из пластилина, рисовала яркими восковыми карандашами и цветными мелками.
Еще в той комнате имелся уголок с тренировочной квартирой, где девушка вспоминала, как готовить, стирать, убираться и работать с компьютером. Спустя больше тридцати лет жизни ее наконец обучали тому, чему не обучили в приюте. «Лучше поздно, чем никогда»: думала Эйприл.
За это время Гибсон и Кёрлис стали отличной командой. Парень приходил вечерами, когда все реабилитационные занятия оставались позади, и развлекал уставших за день подруг пустой болтовней и песнями. Часто втроем они смотрели по телевизору какое-нибудь кино, за которым, правда, забывалось присутствие Эйприл. Фильм всегда шел на забытом языке, переводчица первые минут пятнадцать пересказывала выдержки из сюжета, а потом так увлекалась, что хохотала и обсуждала забавные моменты с парнем, будто они остались наедине.
Со стороны кому-нибудь на первый взгляд могло показаться, что они дружная семья. Но Гибсон и Кёрлис настолько сблизились, что скорее походили на папочку и мамочку, которые передумали усыновлять проблемного ребенка с особенностями развития, но пока опасаются открыто признаться ему в этом.
− Не говори Эйприл, что я сейчас скажу, − одним из вечеров вдруг заявил парень, отрываясь от телефона, неустанно вибрирующего от частых уведомлений. − Можешь минут через десять выйти, будто по делам?
− В чем дело? – Кёрлис бросила обеспокоенный взгляд на девушку, который та не успела заметить: ее внимание привлекли две знакомые диссонансные ноты, и она пристально смотрела на губы Гибсона.
− Наш басист решил навестить ее. У него язык без костей. Будет нести всякую грубую хрень. Еще заденет ее каким-нибудь словечком.
Эйприл терпеливо ожидала перевода, наблюдая за их мимикой. Губы парня растянулись в глупой улыбке, а глаза слегка сощурились. Он заметно напрягался, чтобы выглядеть непринужденно. Кёрлис же хмурилась, как если бы ей что-то не нравилось.
− Я должна быть здесь постоянно до отбоя. Попробую как-нибудь смягчить его грубость в переводе.
− Тебе придется полностью переиначивать его слова. Кёрлис, пожалуйста. Иначе все зря.
− Ш-то...? – напомнила о себе Эйприл.
Несколько секунд молчания переводчицы длились напряженно долго. Она смотрела на Гибсона сурово, парень на нее – уже с мольбой.
− Он просил тебе не говорить, − женщина наконец заговорила на понятном языке, − но я честно скажу: он с чего-то вдруг решил, что может позвать меня на свидание.
Девушка потупила взгляд, услышав, как душистое мыло заскрипело в сухих руках.
− Па...а-йдешь?
− Разумеется нет, − Кёрлис старалась врать уверенно, все еще буравя парня сердитым взглядом. – Я пришла сюда ради тебя, а не к нему в компанию. И его наглость меня злит! Извини, я выйду ненадолго, надо остыть.
Женщина соскочила с места и выключила телевизор, бросив пульт на койку. После схватила сумочку, оставленную по приходу на подоконнике, и покинула палату.
Гибсон что-то сказал после ее ухода. Одно какое-то слово, знакомое. Похожее на «прости», но Эйприл не была уверена, к кому оно было обращено. После него – только молчание. Наедине без переводчицы, которая была связующим звеном в их общении, говорить было бессмысленно, и каждый занялся своим делом. Парень с виноватым видом уткнулся в телефон и активно тыкал пальцем в экран. Эйприл тем временем достала из-под подушки учебную карточку, украденную из колоды, которую вечно таскал с собой Голосопед. Ту самую, с изображением двух антонимов, которая ознаменовала первый день знакомства с Кёрлис.
Капающие звуки электронной клавиатуры в телефоне затихли, и Гибсон прошептал что-то на своем змеином.
«Сейчас вернется преобразовательница»: предположительно перевела для себя девушка, с тоской изучая изображение кукол с разными прическами.
Кёрлис действительно походила на симпатичную куклу с картинки. Привлекательная, обаятельная, с необычным голосом. Тогда как Эйприл... Было неприятно додумывать эту мысль до конца, и девушка непроизвольно начала выцарапывать ногтем изображение второй куклы.
Когда дверь в палату резко распахнулась, она преступно перевернула учебную карточку изображением вниз и спрятала ее под ладонями, ожидая увидеть на пороге переводчицу. Но там стоял высокий парень в черных очках, со смолистыми, будто влажными космами и легкой небритостью на лице. Вместо белого халата на нем болталась распахнутая кожаная куртка, которую он отказался сдать в местный гардероб. Она подчеркивала его небрежный вид рокера, сбежавшего с музыкального канала.
− О, парнишка, здорóво! − поприветствовал он громко, широко улыбаясь Эйприл. – Давно не виделись. Как сам-то?
Он по-хозяйски упал всем телом поперек койки и похлопал ноги девушки, укрытые плотным одеялом.
В ответ она неуверенно, едва заметно закивала, не понимая ни слова. Резкость нового голоса обжигала слух, как горячее масло кожу, но сочные нотки искренней страсти манили прислушиваться. Эйприл перевела взгляд на Гибсона, словно на его лице возникнет перевод, раз уж Кёрлис оставила свой каждодневный пост по его вине.
− Она не понимает тебя, − доложил он, поняв ее взгляд по-своему.
− Чего? – незваный посетитель резко сел и, приподняв черные очки, ошарашено посмотрел на парня. − Это какое-то временное явление?
Его громкий голос насторожил девушку, она поморщилась.
− Все будет зависеть от реабилитации, − Гибсон говорил сдавленным полушепотом: присутствие старого знакомого его явно напрягало и тревожило. – Какие последствия ты ожидал увидеть после кровоизлияния в мозг? Поврежден участок, отвечающий за речь. Она вообще не понимает наш язык.
− Ты шутишь надо мной? Это какой-то бред. Эй, Эйприл, парнишка! Это же я, самый дикий и безбашенный басист, − он изобразил, как играет на невидимом инструменте.
Девушка улыбнулась, вспомнив, что видела незваного посетителя в клипах и концертных хрониках «Стапелии», а заодно и его имя:
− Фер...нандес, прив.
− Что-то она помнит, − язвительно отметил парень, поражаясь, с каким трудом ей дались два слова. − Она серьезно не понимает? Ее можно послать милым голосом, а она будет добродушно вилять хвостом, как собака?
− Не перегибай, − спокойно попросил Гибсон все с той же глупой улыбкой. Просил не напористо, чтобы для девушки их разговор не послышался конфликтным. – Но в целом, ты прав. Обычно мы общаемся с ней через переводчика, только у той сейчас перерыв. Без нее Эйприл может только реагировать на интонацию.
− Ты шутишь надо мной? – негодующе повторил Фернандес.
Не дожидаясь ответа, он потянулся к девушке, чтобы дружественно накрыть рукой ее руки, прятавшие учебную карточку с антонимами, и со светлой улыбкой во все зубы обратился уже к ней:
− Парнишка, ты ведь в курсе, что нахрен никому не сдался? Никто не будет подтирать твои слюни и возиться с тобой. А этот утырок тут только потому, что серьезно налажал.
Эйприл слушала внимательно, как Фернандес напрягает связки, чтобы звучать по-доброму. Когда он закончил говорить, она кивнула в ответ, будто поблагодарив за слова поддержки.
− Обалдеть, − басист выпрямился и повернулся к приятелю: – Ты, кусок говна, даже не попытался заткнуть меня.
− Я же сказал, она не понимает, − Гибсон, не выражая никаких эмоций, потянулся за пультом от телевизора, чтобы включить для Эйприл любимый музыкальный канал.
Она притворилась, что увлеклась происходящим на экране, а сама, вычленив из буйства образов только два нужных, продолжила следить за интонациями в разговоре двух посетителей.
− Чувак, да она же почти овощ, − приняв фишку с тоном голоса и улыбками на вооружение, Фернандес говорил теперь непривычно спокойно. − Так какого хрена ты тут забыл? С ней и группой покончено.
− Врачи обещают, что она может еще вернуться в строй.
− Ты сам сказал, что мозги у нее набекрень. Ей придется всему заново учиться. Собрался ждать, пока песок из штанов не посыплется?
− Ты видишь другое решение?
− Да навалом. И одно из кучи - собираемся, ищем вокалиста и в тур.
− И с каким материалом?
− Со старым. Ей же все равно.
− Она не умерла.
− Как вокалистка умерла.
− Попробуй доказать это ее представителям. У нее все права на название группы и песни.
− Мы должны кучу бабла лейблу. Они держат нас всех за яйца. Они и музыку заказывают.
Гибсон посмотрел на Эйприл, как она пристально следила за топом самых горячих клипов дня.
− Фанам нужна она. Не мы. Без нее наши усилия не покроют долг. Парни из лейбла, думаю, это прекрасно понимают, а ты? Врачи обещают через год, может чуть больше, вернуть ее к самостоятельности.
− Ну, удачи, чувак. Только вот уже без меня. Хотите – ждите. Я уматываю с этого тонущего корабля. Пока, парнишка, − он улыбнулся Эйприл, помахал рукой на прощание.
Она улыбнулась в ответ, повторив жест рукой.
В дверях Фернандес столкнулся с Кёрлис, которую заела совесть и она решила вернуться в палату.
− О, вы должно быть та самая, − он окинул ее взглядом с ног до головы. – Передайте Эйприл, что ее группа развалилась.
Он чуть-чуть отодвинулся, пропуская женщину внутрь, но сам не торопился уходить. Ждал, когда исполнят его просьбу.
Эйприл услышав две знакомые диссонансные ноты, посмотрела сначала на басиста, а потом на Кёрлис. Та кивнула парню и в чрезмерно вольной интерпретации перевела его слова:
− Он пожелал тебе скорейшего восстановления и жаждет вернуться к совместной работе.
− У-ууу, ребятки, − завыл Фернандес, скорчив осуждающую мину, когда увидел довольную улыбку Эйприл, − ну и мутки тут у вас, удачи.
Его спину проводили молча, и никто не заметил, как Эйприл смяла спрятанную под руками учебную карточку.
«Когда ложь наполняет твои вены, ты единственная, кто виновата» [7]
Многие уверены, что могут контролировать себя, свои эмоции, поведение, что умеют искусно врать. Это не так. Мне неизвестна природа этого явления, но я читаю мысли людей.
Только вот я вру. Снова. Я не владею этим, как его... телекинезом?
После пережитого удара я начала видеть музыку как картины. Когда ноты собираются в мелодию, в голове рисуется некий образ. Объект. Животное или предмет, пейзаж или блюдо, что угодно. Он всегда очень плотный, со своим цветом и вкусом.
Голос – та же мелодия. У каждого человека уникальный образ, своя мизансцена. Когда кто-то лукавит, врет, нервничает, испытывает радость, грусть или злость – детали образа меняются. Меняются цвета, положение объекта, иногда искажается вкус, и правда пестрым поплавком всплывает на поверхность.
Не разбирая ни слова, я понимала чувства по интонациям. Чутко улавливала тончайшую ноту, с которой налажали. Видела и слышала все, что люди на самом деле думали обо мне, как бы они не прятались за улыбающейся маской.
Голос Фернандеса всегда звучал, как скворчащий на сковородке жир, куда попало несколько капель воды. Перед самым своим уходом, когда он наклонился ко мне и дружелюбно улыбнулся, то заговорил тише, мягче, будто сковородку, плюющуюся жиром, накрыли крышкой. Он пытался казаться добродушнее, но в его голосе проступала горечь подгоревшего масла.
А под крышкой юлил и извивался «красноухий» уж с притихшим маракасом на хвосте.
♪Подростковая драма♪
С каждым днем доверие к переводчице угасало. Гибсон и Кёрлис отлично спелись, судя по голосам, которые Эйприл не только слышала, но и видела. Только песня их звучала для нее неприятно. Будто они что-то не договаривали. Не стесняясь присутствия девушки, открыто шушукались между собой. Все равно она не понимала их язык. Конечно, со временем Эйприл запоминала отдельные слова, звучащие в речи чаще, даже могла их с горем пополам произнести. Но слепить из них картинку заговора пока не представлялось возможным. Это как сочинять музыку на щербатом рояле, у которого осталось только несколько черных клавиш.
Может, заговора никакого и не было. Просто двое нашли друг друга и не могли прекратить любовное щебетание даже на тот короткий час, когда парень появлялся в больнице. Беседы их пестрили нежностью друг к другу и изредка прерывались натянутой добротой к девушке.
Зачем парень вообще приходил? Гибсон и Кёрлис могли свободно встречаться в другом месте, проводить совместные вечера и ночи, наслаждаясь полноценной жизнью. Но какое-то дело приводило гитариста. Может долг по старой дружбе и общему делу? Какая-то миссия? Вопросы оставались без ответа.
Недоверие к Кёрлис медленно перерастало в раздражение и злость. Учебная карточка с антонимом, которую потерял из своей колоды Голосопед, но никоим образом не унывал, используя вместо нее различия дам в палате, потеряла прежний вид. Теперь это не учебная карточка, а тест Роршаха, и куда больше заинтересовала бы Чернодурку, если бы он нашел ее, заглянув под подушку. Как-то в игровой комнате Эйприл взяла шариковую ручку и долго выводила грубые линии по изображению куклы с прямыми волосами, пока та вовсе не скрылась за чернилами. Тогда из-под пера вышли не все эмоции. Только какая-то капля, которой хватило, чтобы закрасить треть картонки, размером с игральную карту. Остальное вылилось, когда чаша терпение переполнилась от очередной подростковой драмы по телевизору.
В светлый час дня, когда по настоянию врачей было запрещено смотреть музыкальный канал, Кёрлис включила сериал про девушку-изгоя. Большая часть сюжета прошла мимо понимания Эйприл, даже несмотря на то, что переводчица озвучивала почти каждую реплику. Единственные моменты, которые болезненно укололи сознание девушки: издевательства одноклассников над главной героиней и эпизод, когда симпатичный парень пригласил ее на школьный бал, где готовилась очередная жестокая, унизительная шутка.
− Вы-кчи, − с трудом произнесла Эйприл, не желая дальше наблюдать за драмой.
− Повтори, пожалуйста? – вежливо переспросила Кёрлис, не отрываясь от экрана.
− Вык-лючи, − приложила максимум усилий ради одного слова.
− Сейчас, да. Немного осталось до конца серии.
Эйприл взяла со столика стакан с водой и бросила его в телевизор. Он угодил в стену, расплескав в полете накопившиеся эмоции, и со звоном разбился.
− Ты чего? – перепуганная Кёрлис соскочила с места и выключила телевизор.
Опасливо поглядывая на девушку, она ретировалась из палаты. На короткое время оставшись одна, Эйприл сползла с кровати, поднялась на ноги и нащупала ими равновесие, чтобы как можно увереннее стоять. Сердито схватила тарелку с недоеденным обедом, повалив остатки на пол, и поковыляла к телевизору. Жгучая злость подговаривала ее разбить черный экран. Медсестра вбежала в палату, когда девушка уже замахнулась посудиной, но не решалась нанести удар. Без этой техники она потеряет возможность слушать любимый музыкальный канал.
За медсестрой в палату вернулась переводчица. Она же привела за собой и Чернодурку. Эйприл встретила его холодно.
− Намана всё, − буркнула она на чужом языке и поковыляла обратно к постели.
Врач хотел помочь, но она грубо оттолкнула его руку помощи:
− Сама!
Добравшись до постели, Эйприл тяжело рухнула.
− Хочешь поговорить об этом? – за добрым голосом Чернодурки запенилось душистое мыло, принеся на себе перевод его слов.
Девушка качнула головой и бросила хмурый взгляд на Кёрлис, проклиная за то, что привела этого болтуна.
− Оставите нас наедине? – мужчина обратился к переводчице и медсестре.
Обе женщины хотели возразить ему. Одна, потому что без нее Эйприл не поймет и слова, а другая – потому что успела собрать только осколки разбитого стакана, но не убрала с пола остатки обеда.
− Мы справимся, спасибо, − ответил он первой, а второй: − Это пока подождет.
Эйприл и Чернодурку оставили в палате одних. Девушка свернулась калачиком и натянула одеяло на голову, протестуя против беседы с врачом. Только ее оппонента это никоим образом не смутило. Мужчина зашуршал ослепительно белым халатом, вынимая из кармана телефон. Он запустил приложение – запрещенный врачами онлайн переводчик, который свяжет их взаимопониманием.
− Расскажи, что тебя беспокоит, – электронный сухой голос вырвался из слабого динамика телефона. – Я постараюсь помочь.
В конце послышался гудок: Чернодурка зажал кнопку, чтобы записать ответ и перевести его на свой язык.
− Я не хочет... слушать этот... речь теперь.
Переводчик не помог. Эйприл заговорила на чужом для себя языке, слепив ответ из слов, которые смогла вспомнить. Жирную точку в разговоре она поставила, накинув на голову подушку, тем самым ограждаясь от любых посторонних звуков, но случайно открыла взору врача смятую, исчерканную чернилами учебную карточку. Чернодурка осторожно рассмотрел ее и, кажется, понял внезапный протест.
− Твоя злость связана с переводчицей? Вы не ладите? – снова заговорил электронный сухой голос.
Эйприл выскочила из-под одеяла и сердито махнула в сторону мужчины. Сиди он чуть ближе, она выбила бы из его рук телефон.
− Не хочет!
Он долго смотрел ей прямо в глаза, словно мог найти в них причину гнева. Информации было совсем мало, но с этим ему придется что-то поделать. Найти верное решение. Он начал печатать новое обращение, зная, что сильнее разозлит Эйприл. Она, увидев его действия, тут же завернулась обратно в одеяло.
− Мы пока плохо понимаем друг друга. Надеюсь, это временно. Мне понадобится твоя помощь, все силы, какие у тебя есть. Скорее всего будет тяжело, но я знаю – ты справишься.
С последним словом, произнесенным электронным сухим голосом, Чернодурка оставил ее.
«Иди вперед, дай себе волю, забудь, что было раньше» [8]
Я опасалась, что с уходом преобразовательницы, Гибсон исчезнет из моей жизни. Так и произошло. Нет, он не исчез сразу навсегда. Изредка заходил. Может раз в неделю, потом через две. Партия его голоса в моей музыкальной трагедии постепенно затухала, и совсем скоро я останусь в полной тишине.
Его миссией было прийти и показать мне прошлую жизнь, где я успешный фронтмен рок-группы, а сейчас - бесполезный мусор, которому большого труда стоит связать пару слов во внятное предложение. Или он отыгрывал роль благородного принца, который не оставит без внимания старую знакомую, оказавшуюся в тяжелой жизненной ситуации, лишь для того, чтобы впечатлить даму своего сердца.
Гибсон прекрасно понимал, глядя на меня, что для "Стапелии" это смерть. По крайней мере, для той прежней, какой она успела расцвести. Особенно сейчас, когда я отказалась от языка печали, который приносил с собой много плохих воспоминаний. Его звучание не просто резало слух, оно возвращало меня в то место, где всегда невыносимо больно.
Благо мне не отказали в капризе. Чернодурка как-то уговорил Голосопеда изменить апелляционную пр...ммм, как ее? В общем программу по моему камбэку. Как только тот не упирался, доказывая, что для меня лучше сначала уверенно овладеть речью на родном языке, а потом изучить иностранный, но под натиском пернатого красавца сдался. Больничный звукорежиссер предупредил меня о неприятных последствиях такого подхода к восстановлению, только я хотела лишь одного – навсегда забыть все, что связывало меня со Страной печали, какой бы ни была цена.
♪Гребаный день♪
Прошло почти восемь месяцев, как девушка очнулась после пережитого удара. Гибсон редко навещал ее. Порой не появлялся неделями.
Однажды Эйприл потеряли и не могли найти всей больницей. День был дождливым. Нутро реабилитационного центра кишело пациентами и белыми халатами. А одна из палат пустовала. Девушка исчезла.
Медсестра, которую закрепили за пациенткой, перевернула вверх дном каждый больничный угол, кроме одного, но так и не смогла найти подопечную. В последний угол, кабинет Чернодурки, она заглянула с лучиком надежды, который, впрочем, сразу потух. Эйприл не оказалось и там. Выяснив обстоятельства такого неожиданного визита, врач присоединился к поискам. Вместе они еще раз обошли медицинское учреждение, убежденные в том, что без вещей и одежды пациентка уйти не могла.
Впоследствии Чернодурка все же разочарованно посмотрел в окно, за которым шуршала ливнем весенняя непогода, и пришел к выводу, что в порыве эмоций девушка могла сделать все, что велит разочарованное жизнью сердце. И тут, за акварельными разводами серого ненастья на окне он заметил маленькое белое пятнышко. Врач резким порывом распахнул створки, чтобы воочию убедиться в страшной догадке. Да, Эйприл сидела во дворе больницы на последней металлической ступеньке пожарной лестницы, игнорируя холодные тычки неугомонного дождя по всему телу. Он рванул к ней, по пути заскочив в свой кабинет за курткой. Медсестра бежала следом, обнимая руками толстую связку сухих полотенец.
Девушка не отреагировала на железный лязг распахнувшейся двери запасного входа. Она словно окоченела, застыв бледной, мраморной статуей.
− Эйприл! – воскликнула медсестра с порога, не решаясь выйти под дождь. – Что ты там делаешь? Вернись срочно в палату!
Пациентка не обернулась на знакомый голос.
− Может позвать санитаров? – уже шепотом медсестра обратилась к врачу.
− У нас не психиатрическая лечебница, − напомнил он.
− И не детский сад. Вы поговорите с ней и уйдете спокойно домой, а мне потом возиться с ее пневмонией.
Чернодурка посмотрел на коллегу с осуждением и ступил под дождь. Он лился с неба не сильно, но капли все равно быстро проникали под одежду. Девушка в легкой пижаме давно промокла насквозь и промерзла до костей, но, кажется, это волновало ее меньше всего. Эйприл с ожидающей тоской смотрела в сторону калитки, за которой заканчивалась территория больницы и начиналась свободная городская жизнь. Там машины рассекали лужи будто катера, а прохожие походили на оливки, нанизанные на разноцветные коктейльные зонтики.
− Я был уверен, что тебе нравятся занятия в игровой комнате, − Чернодурка накинул куртку девушке на плечи, – и не поверил, когда мне сказали, что ты прогуливаешь. Да и для прогулок сегодня дурная погода. Хмурое начало мая.
− Уже мэй? – слабым голосом промямлила девушка, все еще неважно изъясняясь на чужом языке. − Что за день сегод-я?
− Вторник, третье мая.
Эйприл сжала кулак и пальцем другой руки пересчитала побелевшие костяшки. Потом еще раз и еще.
− Три-цать или три-цать один?
− Сколько в месяце дней? В мае тридцать один, а в апреле тридцать, − Чернодурка тщетно пытался понять, что беспокоило пациентку.
Она разжала кулак, перевернула обе руки ладонями кверху и стала пересчитывать фаланги, большим пальцем прикасаясь к каждой дважды. Процесс занял у нее какое-то время, а в конце она разочарованно спрятала лицо в ладонях.
− Я пересчиталась... гребаный день...
− Пойдем внутрь, Эйприл, пожалуйста. Беспокоюсь, как бы ты не простыла.
− Хех, − встретила его заботу скептически, но встала со скамьи и пошлепала босыми ногами по лужам. – Вам плевать, как всех.
Походка выдавала ее неуверенность в твердости земли под ногами, ей все еще не давалась ходьба без дополнительной опоры. Чернодурка поддерживал ее за руку, ведя к служебному входу, где суетилась медсестра, чуть ли не встречая их, развернув полотенца, как флаги.
− Это неправда, − врач спокойно отреагировал на обвинение Эйприл в его безразличии.
− Сейчас нет правды, − упрямо твердила она.
Девушку вернули в палату, и медсестра тут же затащила ее в ванную, где помогла отогреться и отмыться. Чернодурка проводил их с тревожными мыслями. Его занимал «гребаный день» и то, как пациентка сидела в парке, ожидая чего-то. Или кого-то. Увиденное напоминало ему поведение ребенка, ждущего в детском саду задержавшихся родителей. Он узнал, что последний раз посетитель у пациентки был пару недель назад и с тех пор не появлялся. Возможно, именно это в очередной раз подкосило ее эмоциональное состояние.
− Покиньте палату, − услышал за спиной требовательный голос медсестры. – Нам надо переодеться.
− Да, конечно.
Вернулся он уже после обеда. В свое обычное время по расписанию – сразу после Голосопеда. Встретился с ним в дверях, и тот, скорчив недовольную мину, дал знать, что пациентка сегодня «трудная». Кивком поблагодарив коллегу за предупреждение, Чернодурка закрыл дверь, когда тот вышел из палаты.
− Как твое самочувствие?
Эйприл кивнула, усаживаясь за небольшой столик, который специально поместили в палате, чтобы обучаться письму. Неуклюже взявшись за карандаш, она несколько раз перекладывала его между пальцами – искала положение, в котором сможет уверенно вести линию. Но в любом положении он лежал, как необъятное полено. Эйприл сдавливала пальцами деревянную основу почти у самого кончика, словно собиралась выводить буквы маленького размера, и такой захват прибавил бы ювелирной точности. Мышцы руки окаменели от напряжения, а результат выходил все равно кривым, как если бы девушку били током каждый раз, когда грифель касался листа бумаги. Она сопела, молча пылая от злости.
− У тебя пропал аппетит? − Чернодурка заметил нетронутый остывающий обед на тележке. – Удели мне немного времени, пожалуйста, давай поговорим. Я правда беспокоюсь.
Эйприл отвлеклась от прописей и взглянула на врача, словно у нее мало свободного времени, но так уж и быть – готова выделить минуту. У мужчины оказалось в распоряжении только 60 секунд, чтобы выбрать один единственный вопрос, который разговорит девушку. В противном случае, его выпроводят за дверь, и он будет вынужден наблюдать со стороны, как его пациент утопает в собственных тревогах.
60-59-58... Что такое «гребаный день»? 47-46-45... Что она делала на улице? 34-33-32... Повздорили с посетителем? 21-20-19... Или стоит отвлеченно поговорить о музыке? 8-7-6... Нужно сделать выбор. 3-2-1.
− Меня расстроили твои слова о том, будто ты считаешь, что безразлична мне. Это не так. Я хочу быть тебе другом.
Он заметил по хмурому взгляду, как она рассердилась.
− Период навещания вечером, – Эйприл не тратила сил на правильный подбор слов для ответа, и употребила те, что первыми приходили на ум. – В конце работы. Друзья приходить в личное время. А вам читать там.
Она указала на больничную карточку, висевшую на спинке кровати, поставив точку в разговоре, и вернулась к прописям.
Чернодурка провалил задание. Перед уходом взял упомянутую карточку, где поставил отметку о своем посещении, и на секунду задержал взгляд на первых пунктах.
«Эйприл Мэй... 32 полных лет... 30 апреля».
Резко поднял голову, когда в лампочку осознания поступил ток, и она защебетала раскаленной вольфрамовой нитью. Чернодурка стоял посреди обычной палаты: тумбочка для личных вещей пациента, кресла для посетителей, столик, кровать и телевизор. Медицинское оборудование для оказания срочной помощи на случай повторного «удара», который вполне мог произойти. Еще засохший, запылившийся букет на подоконнике – предмет ненависти медсестер, мечтающих избавиться от него вот уже почти восемь месяцев.
И больше ничего. Ничего, говорившего о том, что несколько дней назад Эйприл исполнилось тридцать три.
«Гребаный день».
«Я не верю, что смогу освободиться от этого ада, который живет внутри меня» [9]
В детском доме мало пеклись об индивидуальности. Ты родился в апреле? Тебя нашли в апреле? Ты вообще непонятно кто и откуда! Но давайте похлопаем всем апрельским именинникам.
Я завидовала пареньку, оказавшемуся в те года единственным, у кого день рождения выпал на февраль. Как его поздравляли! Он был в центре всеобщей любви и тепла, насколько это вообще возможно в приюте.
Стоит ли говорить, что в массе весенних детишек меня словно и не было? Меня не существовало в обычные дни, ничего не менялось и по весне в, казалось бы, самый важный день для каждого человека. Я мечтала выйти из приюта и иметь свой особенный день. Когда красная рамочка обведет его на календаре, то я услышу море поздравлений, люди будут называть мое имя, желать счастья и хлопать по плечу, может даже вручат подарок. Тогда я бы знала, что действительно родилась и живу, а не являюсь фантомной болью несуществующей жизни в голове младенца, брошенного умирать.
Но меня отвадили от этой мечты. Буквально выбили ее из меня.
Во время застолий – праздничных чаепитий, когда несколько огромных тортов разрезали в честь именинников и делили между всеми детдомовцами – я сидела на особой безуглеводной диете. Вернее, меня насильно на нее посадили сверстники. Моя порция торта съедалась еще до того, как я подходила к столу, а вместо нее на блюде из года в год возвышалась горка из объедков. Главная заводила всех издевательств с насмешкой говорила, что для меня в такой особенный день специально приготовили уникальный деликатес, который соответствовал всем стандартам того места, где меня нашли. Удивительное внимание к деталям.
Первые несколько лет было до горечи обидно. Потом я перестала ходить на чаепития. Пропускала все праздничные мероприятия, отсиживаясь в излюбленном укрытии под лестницей. К отбою возвращалась в спальню, где уникальный деликатес теперь дожидался меня прямо на постели. Кучи мусора и объедков – все с фанатичной страстью размазывалось по подушке, одеялу и простыни.
Я возненавидела весну, хоть и взяла ее имя. «Обратила ненависть к весне в ненависть к себе»: что-нибудь такое сказал бы мне Чернодурка.
В тот день в больнице он выглядел по-настоящему обеспокоенным. Кто-то видимо сказал ему, что я пропала. Мне правда хотелось пропасть, уйти, исчезнуть из-за роящихся в голове мухслей. Их было так много, они жужжали, скребли лапками. И все одно да потому.
Чернодурка кажется понимал, из каких личинок они вылупились. Потому как не спрашивал о беспокоящих меня вещах, не вынуждал говорить о них вслух. Вместо этого назвал себя моим другом. Смешно. У меня нет друзей и никогда не было.
Я прогнала его. Раз он друг, то пусть приходит после рабочей смены. Потратит личное время, как делает это со своими настоящими друзьями. И он ушел.
А потом вернулся. Тем же вечером.
♪Самурай и стапелия♪
Вечером того же дня, как Эйприл вывели из-под дождя и вернули в палату, она все же побывала в игровой комнате, занятия в которой очень любила. Но нынче просидела там без удовольствия: безынициативно смотрела в стену, будто путешествовала призраком в потустороннем мире, куда чувствовала сильное желание упорхнуть. Гребаный день довлел над ней, хоть давно прошел и без неприятных инцидентов наподобие тех, что происходили с ней в приюте. Только тревога сдавливала горло. Что мешало старым издевкам нагнать ее сейчас, раз уж девушка обсчиталась и приняла сегодняшний день за тот самый?
После занятий, закончившихся чуть раньше обычного из-за ее рассеянности, Эйприл возвращалась в палату. Стук трости, на которую она опиралась при ходьбе, шел не в ритм с больничной жизнью, готовившейся к ужину. Эта музыкальная разрозненность прибавляла тревожности моменту, когда девушке чудилось, что мир вокруг враждебно настроен и приближается невидимая опасность. Сердце беспричинно бахало в груди, кровь в венах бежала студеная, обжигая конечности ледяным пламенем, и окружение двигалось будто в слоумоушене. Снова захотелось убежать, спрятаться под какой-нибудь лестницей и в этот раз так, чтобы никто не смог ее найти.
Она резко остановилась, когда до палаты оставалась пара десятков метров. Кто-то слонялся напротив двери, явно ожидая ее возвращения. Эйприл вначале приняла посетителя за Гибсона, давно не заходившего, но когда разглядела лицо, то собралась развернуться и пойти прочь. Но ее заметили раньше и приветливо махнули рукой. Чернодурка. Она не признала его без ослепительно белого халата.
− Опоздали на работе, док? – сухо спросила Эйприл, подходя ближе.
− Нет, я не задержался на работе, – он повторил ее вопрос в качестве ответа, чтобы исправить неверную формулировку. – Я к тебе.
Он приподнял руку, в которой держал два пакета: яркий бумажный и обычный, как из продуктового магазина.
– Ты наверно сыта по горло больничной едой? Я решил заглянуть с чем-нибудь повкуснее, если ты не против.
− Сыта по горло? – она не поняла, о чем речь, и ответила невпопад: – Еще не ела.
− Я имел ввиду...
− Намана все, док, − перебила его, уверенная, что мужчина пришел только потому, что днем Эйприл не стала говорить с ним. – Вечерняя... помощь от вас не нужно.
− Мне нужна помощь, − вдруг признался Чернодурка и вяло улыбнулся. – У меня был трудный рабочий день, я устал и очень голоден. Составь мне компанию.
Голос его звучал искренне, и она неуверенно кивнула, позволив войти в палату. Почти сразу за ними забренчала тележка с больничным ужином. Медсестра вкатила ее, бормоча под нос, что пациентка уже может ходить самостоятельно и пора бы перебираться в общую столовую. Она удивленно глянула на коллегу, обнаружив его в такой час в стенах больницы, но ей никто ничего не пояснил, не поддержал негодование, и она удалилась, продолжая ворчать себе под нос.
− Не люблю людские места, − для чего-то оправдалась Эйприл, когда за медсестрой закрылась дверь.
Она вдруг растерялась, не находя себе места. В этот час дня девушка еще не оставалась наедине с Чернодуркой, и ее преследовала иррациональная тревога. Мужчина же своими действиями подсказал, что надо делать. Когда он опустил пакеты у одного из кресел, который стоял ближе к письменному столу, то возникло сильное желание навести порядок, и Эйприл бросилась расчищать рабочую поверхность от бумаг и карандашей.
− Не любишь людные места? – он снова повторил за ней, акцентируя интонацией правильное употребление слов. – Ты же выступала на сцене перед публикой.
Складируя принадлежности для письма в дальнем углу стола, она задумалась о прошлом.
− Похоже на сон, − Эйприл пожала плечом. − Другой человек...
Она оборвалась на полуслове, стесняясь формулировать мысли на чужом языке, так как все еще выходило очень плохо. Девушка боялась выглядеть нелепо и смешно, особенно рядом с человеком, свободно говорившим все, что угодно.
− Музыка тебя преображает, − мужчина относился к ее проблеме с пониманием, как бы вовсе не замечая. − Как ты относишься к морепродуктам? – он зашуршал одним из пакетов. – С голоду зашел в первый попавшийся ресторан и не подумал, что эта кухня не всем по душе.
Она неуверенно покачала головой, больше из-за непонимания. Мужчина разложил перед ней пластиковые контейнеры с квадратиками риса и рыбными добавками, рядом с которыми красовался цветок с сердцевиной из зеленой пасты и розовыми лепестками. Эйприл не представляла, как это есть.
− После больничной еды это наверно выглядит для тебя слишком экзотично, − Чернодурка глянул на невзрачный ужин на тележке. − Хотел принести вино, но тогда меня бы не пустили на порог. Выпьем как-нибудь потом, ладно?
Эйприл натянуто улыбнулась. Хоть его голос не пестрил ложью или наигранной вежливостью, она все равно не верила, что в ее жизни возможно такое развитие событий.
Орудуя деревянными палочками, напомнившими девушке карандаши без грифеля, мужчина загрузился первым рисовым квадратиком. Эйприл даже не успела проследить за его действиями. Только пару месяцев назад она наконец научилась заново использовать ложку и вилку, а теперь снова ощутила себя беспомощной, столкнувшись с непривычным столовым прибором.
− Ммм, − Чернодурка заметил ее растерянность и замычал, не успев дожевать, − ща помоху.
Он взял второй набор деревянных палочек, подцепил ими маленькую долю зеленой пасты и поместил на верхушку рисового квадратика. Потом накрыл розовым лепестком и обмакнул это все в черный соус.
− Так, готовься, − стряхнув излишки соуса, он приподнял готовое к употреблению блюдо, чтобы Эйприл удобнее было захватить.
Неуверенно наклонившись, она приоткрыла рот навстречу неопознанной летающей еде. Состыковка вышла неудачной. Рисовый квадратик в последний момент выскользнул из палочек и полетел вниз. Эйприл сконфузилась от собственной неповоротливости и ожидала, что сейчас услышит смех или осуждение.
− Ох, блин, − вместо ожидаемой от него реакции Чернодурка сам виновато смутился и поспешил достать побольше салфеток, чтобы скрыть следы гастрономической катастрофы. − Извини. Надо было брать вилку. Хотел покрасоваться, какой я ловкий самурай, хотя сам ни черта не умею пользоваться этими палками.
Он бросил непривычный столовый прибор обратно в пакет и с пачкой салфеток полез под стол за сбежавшим рисовым квадратиком. Оттуда услышал, как смеется Эйприл. Когда мужчина вылез, она резко замолчала и прикрыла губы рукой, продолжая улыбаться. Чернодурка приятно удивился ее реакции: восемь месяцев ему не удавалось застать такой искренней эмоции.
Решив воспользоваться больничным инструментом, он взял с тележки вилку и завис над остывшим блюдом. Чтобы медсестра не заметила, что к ужину никто не притрагивался, мужчина преступно сдвинул гарнир на одну половину тарелки.
− Я в детстве часто использовал этот прием, − пояснил он свои действия, − когда не хотел есть склизкую кашу, а меня принуждали съесть хотя бы половину. Это работало.
Девушка интенсивно закивала: такое проделывали дети в приюте, но некоторые, бывало, просто сваливали всю порцию в ее тарелку.
Вооружившись вилкой, мужчина проделал с новым рисовым квадратиком те же кулинарные манипуляции, что и раньше, но теперь более уверенно пилотировал неопознанное блюдо по направлению к Эйприл. Она с осторожностью приняла его, и когда начала разжевывать, то зашлась слезами. В этот раз не от нахлынувших эмоций, а от жуткой остроты, прожегшей носоглотку. Тяжело выдохнув, она замахала руками у лица, надеясь таким образом остудиться.
Чернодурка торопливо зашуршал пакетом, выуживая оттуда бутылку с газированной водой. Отвинтил крышку до щелчка и протянул девушке. Она сделала несколько жадных глотков, пока не потушила внутренний пожар, распространившийся, казалось, до самого мозга.
Эйприл невольно взглянула на тележку с больничным ужином, как если бы над ней вдруг распустился конус света. Надоевшая своим однообразием еда теперь стала желанной.
− Я окончательно испоганил вечер, − с разочарованием подытожил Чернодурка, закрывая пластиковые контейнеры с недоеденными рисовыми квадратиками.
Тут же Эйприл хлопнула его по рукам, вынуждая одернуть их. Она почувствовала вину, что не смогла должным образом оценить старания мужчины, и предприняла последнюю попытку распробовать неопознанное блюдо. Отодвинув в сторону розово-зеленый цветок, девушка взяла один рисовый квадратик прямо пальцами, как какой-то троглодит, и закинула его в рот. Теперь незнакомая кухня пришлась ей по вкусу, о чем она дала знать довольным мычанием.
− Действительно, к чему этот столовый этикет? − завороженный кулинарным варварством, Чернодурка последовал примеру, и вот они уже вдвоем поочередно макали рисовые квадратики в черный соус, стараясь совсем уж не погружаться в него пальцами. – Кштати, де-то щитал, фто фкуснее, когда ешь руками. Теперь я знаю, фто это правда.
Таким образом они довольно быстро опустошили пластиковые контейнеры, насытившись до распирающей тяжести в животах.
− Я хотел извиниться перед тобой, − неожиданно сказал Чернодурка, пряча остатки ресторанного ужина в пластиковый пакет.
Эйприл разом помрачнела.
− А, уже пора идти? Всего доброго, − попрощалась с ним, даже не выслушав до конца.
В голове зародилась мысль, что она наивно поддалась его широкому жесту. Пришел, вечером, как она и велела. Притворившись будто друг, а на деле просто задержался на работе, чтобы довыяснить то, что не смог выяснить днем.
− Погоди прогонять меня, − растерялся мужчина. – Я вовсе не это хотел сказать.
Поднял пакет из плотной бумаги и протянул Эйприл. Она напряглась, ожидая от такого жеста чего-то нехорошего. Он напоминал неприятный розыгрыш из прошлого.
− Что это? – нахлынула новая волна тревоги, и девушка недоверчиво уставилась на Чернодурку.
− Посмотри! − он добродушно улыбался, а глаза заблестели от нетерпения.
С особой осторожностью она развернула пакет и заглянула внутрь. Знакомые зубчатые стебли тянулись навстречу ей - молодая стапелия в горшке.
− Я знаю, что так называется твоя группа. Подумал, цветок окажется символичным подарком. Извини, что забыл о твоем дне.
− Первый... знающий, − аккуратно достала подарок из пакета и поставила на колени. – ...за весь время – первый...
− За всё время? – переспросил он и вдруг замолчал, не решаясь уточнить, отмечала ли она этот день раньше.
Эйприл обняла горшок ладонями, любуясь пучком зубчатых стеблей.
− Дня не существует. Ни другим, ни мне. Он выдуманный, чтобы быть... нормальной, как все. Я произведена в апреле без точного...номера? Плюс-минус день, как писали белые халаты. Хех, новое рождение опять встречаю с белыми халатами. Скоро заново вернут в дом для забывшихся детей?.. Для задолголетившихся детей есть такие дома? Спасибо за куст.
Она легко улыбнулась, но взгляд остался затуманен печалью.
− Трудносопротивляемое желание удалить себя... – она задумалась, силясь вспомнить правильное выражение, − удавиться в гребаный день. Благодаря ему вспоминаю о дне без календаря.
− Желание правда столь непреодолимое? Тебе исполнилось тридцать три, − Чернодурка не пытался уличить Эйприл во лжи или в чрезмерной драматичности рассказа, просто хотел подвести беседу к тому, что есть вещи, ради которых она готова задержаться на земле.
− Мне мешали. Альбомы, концерты... Сегодня - ты.
− Ты много лет выступала на сцене с одной группой. Разве никто...
− Они не знают. Спрашивали раз, а я им: «долго еще». И забыли. Не спрашивали после. Им надо я поющая. Сейчас говорю с трудностью. Никому не нужна.
− Если это действительно так, то в этом их большая ошибка, − мужчина не стал развеивать ее опасения.
Невозможно игнорировать тот факт, что девушку редко навещали, как и убеждать в былой востребованности. Но кое-что ему было под силу – заставить Эйприл снова поверить в себя.
− Как-то я увидел ваш клип по телевизору. Музыка настолько зацепила меня, что не заметил, как оказался в плену социальных сетей, прыгал по новостям о группе, читал интервью, с головой погрузился в твое творчество. Ты – единственный создатель и вдохновитель «Стапелии». Удар, каким бы сильным он ни был, не зацепил творческое зерно в тебе, не лишил способности чувствовать музыку. Он украл у тебя только некоторые механические навыки и умения, которые ты постепенно возвращаешь себе обратно. Твой путь труден, но когда ты дойдешь до конца, то снова поведешь музыку туда, куда чувствует сердце. Фанаты «Стапелии», и я в их числе, очень ждем твоего возвращения. А если остальные участники группы вдруг решили, что Эйприл Мэй им больше не нужна, то очень скоро, помяни мое слово, они поймут, что остались в огромном проигрыше.
Эти слова подействовали на девушку, хоть она и пропустила из-за незнания некоторые из них, но посыл остался ясен. Чернодурка прав. Музыка все еще с ней. И теперь она видит ее куда четче, чем раньше.
«Моё будущее словно копия прошлого, ты остался со мной, не оставив выбора» [10]
Я неплохо стала говорить на чужом языке. Он буквально стал родным мне. Правда я продолжала допускать речевые ошибки, употреблять неправильные по смыслу слова, изредка коверкать окончания, называть вещи чужими именами. Такая оказалась плата за нетерпение, о которой предупреждал Голосопед.
Последние три месяца Чернодурка приходил каждый будний вечер, а все выходные сидел со мной от рассвета до заката. Пару раз он выводил меня за территорию больницы, прогуляться по городу и поужинать в люксовой столовой. Когда он впервые предложил такой досуг, то я оказалась не готова к столь внезапному возвращению к людям, будто вросла в стены комнаты ожидания и не мыслила своего существования за ее пределами. Тревожило еще и другое. Вдруг кто-нибудь узнал бы меня. Спросил бы что-нибудь невинное, а я бы ответила какую-нибудь глупую дичь. Но Чернодурка успокаивал меня, убеждал, что мой иностранный заметно окреп и в разговоре нет и тени давних проблем.
Он вел себя так, словно у него совсем не было личной жизни. Я стала его личной жизнью. Его единственным другом.
Хотя, конечно все не так. Как раз наоборот. Его жизнь была связана со мной лишь тем, что он тратил на меня слишком много времени. И его настоящая, забольничная жизнь медленно разрушалась. Это стало заметно по его взгляду, вымотанному виду, когда он порой будто вовсе не замечал меня. Мухсли Чернодурки витали где-то за пределами моей комнаты ожидания.
Как-то быстро пришло осознание, что все это фарс. Хотя я всегда это знала, но мне нравилось думать иначе. Существовать в иной вселенной, обманываясь, что кому-то вдруг стала интересна, кто-то захотел делить со мной вечера. На деле же Чернодурка просто всегда отключал мобильник, чтобы не соблазняться желанием ответить и посвятить себя действительно личным и важным вещам.
Наверно он искренне верил в свой подход. Фанатичный профессионализм. Думал ли он о моих чувствах и что произойдет, когда я выйду из больницы? Видимо, цель состояла только в том, чтобы я скорее ушла из этой комнаты ожидания, тогда его совесть очистится. А уже там, вне зоны его ответственности, мне придется жить в мире, который воспринимает меня, как обузу или вовсе не замечает.
Когда это стало очевидно и в его голосе, я покинула больницу.
♪Другой голос♪
Чернодурка появился с легкой улыбкой на лице, но что-то в его взгляде говорило, что эта улыбка дается ему с трудом. Он только зашел в палату и коротко поздоровался. Застыл, как вкопанный, у двери и отстукивал пальцами по бедру. Эйприл узнавала этот ритм, он отлично ложился на слова: «Я ненадолго, и ты не уговоришь меня задержаться». Но она все же попыталась.
− П-посмотри, я правильно написала? − она нетерпеливо ринулась к столу и взяла заполненные прописи. – Ждала тебя, чтобы показать.
Чернодурке надо было уйти, но долг вынуждал его остаться. В конце концов, он поддался желанию девушки, понимая, насколько ей важна сейчас поддержка. Он небрежно развалился в кресле у стола, чтобы его вечернее присутствие выглядело обычным. Получилось грузно, да и во время короткого падения он потерял непринужденную улыбку. Эйприл заприметила пропажу и услышала, как в кармане у мужчины беззвучно завибрировал мобильный телефон.
Вместо того, чтобы ответить на звонок, Чернодурка взял из рук девушки прописи и изучил содержимое.
Она старательно выполняла все упражнения. Выходило по разному. Угловатые буквы получались слишком круглыми, круглые же норовили вытянуться в линию, ломанную не там, где положено. Многие из них «покрывались» рябью, выдавая неуверенное движение руки, а какие-то намеревались сбежать за границу отведенной строки. И лишь единицы выглядели идеальными, точно, как в примере. Эйприл с удовольствием обводила их в кружок чернилами зеленого цвета и в дальнейшем ровнялась уже на них. Ряды с буквами «М», «С» и «Э» заканчивались ее именем:
«Май Эприл Стапелийя»
Девушка написала его, проговаривая вслух буквы и подсматривая в пример, чтобы правильно вывести нужные закорючки. Смотрелось до жути криво, но она собой гордилась и теперь ждала мнения Чернодурки.
− Почти, − заговорил мужчина в сухой преподавательской манере и взял ручку с красными чернилами, чтобы наглядно исправить ошибки. – Здесь ты букву пропустила. И Мэй пишется через «э». В Стапелии всего восемь букв, ты расщедрилась, разложив последнюю на звуки – тут «я», а не «йа».
Эйприл озадаченно промычала, внимательно следя за движением ручки. Чернодурка записал ее имя в три строки в самом краю чистого листа и предложил повторить. Она взяла карандаш и стала выводить буквы, одну за другой. Все это время мобильный телефон вибрировал у мужчины в кармане, прерываясь на недолгие секунды молчания, а его продолжали игнорировать. Когда девушка закончила, то разгладила мозоль на среднем пальце, успевшую образоваться от излишних стараний.
− Хорошо получилось, − с той же преподавательской сухостью похвалил мужчина. – До идеала далековато, но ты не так давно этим занимаешься.
Девушка посмотрела на него. Он не смеялся над ней, улыбался, будто искренне гордился. Его выдавал только голос. Сегодня голос стал другим, не таким, как последние месяцы.
− У тебя телефон звонит, − Эйприл решила обратить его внимание на неугомонное урчание из кармана.
− Ничего срочного, − неуверенно отмахнулся Чернодурка, делая вид, что больше заинтересовался листом бумаги, на котором стал выводить новые буквы. − Напишешь мое имя?
Он в две строки написал два слова, такие же короткие, как имя девушки, и очень похожие друг на друга. Эйприл склонилась над листом и только теперь поняла, что впервые узнала, как зовут мужчину.
− Вот теперь я волнуюсь, − смутилась она, взявшись за карандаш. – Боюсь, как бы не вышло криво.
− Обязательно так выйдет, − посмеялся он.
Его смех смутил Эйприл, и она напряглась. Возможно, его слова должны были быть доброй шуткой, но с тем настроением, с которым пришел Чернодурка сегодня, они прозвучали, как едкая издевка. Едкая издевка из далекого прошлого.
− Почему люди смеются надо мной? – грустно спросила она, сдавливая пальцами карандаш.
− Никто не смеется над тобой, − он сначала растерялся, а когда понял, что оказался неосторожен в выражениях, то попытался оправдаться. – Я так сказал, чтобы ты расслабилась и не беспокоилась о конечном результате.
− Сначала врут, а потом смеются над тем, как я доверчиво принимаю их доброту за правду, − девушка пропустила его слова мимо ушей. − Я вижу это в голосах.
− Ты слышишь в голосах? – аккуратно поправил слово, которое посчитал, что она использовала неправильно.
− Вижу, − в этот раз исправила она, надавив интонацией на слово, − вижу каждую ложь в голосе. Все. Каждый, кто входит в эту палату, постоянно обманывает меня. Даже вы, док. Но вам это простительно, наверно. Это ваша работа играть роль друга, родителя, возлюбленного, кого потребуется, для пациента, который никому не нужен. Только это бесполезно, как мокрому полотенце.
Чернодурка не осмелился поправить речевую ошибку. Ему оставалось только слушать, слушать все, что ему скажут.
– Ваши слова проникают сюда, в самое сердце. Вселяют надежду. А потом вы выходите за дверь, и ваш голос меняется. Бах.
Эйприл выставила кулак, изображая удар под дых. В груди закололо, будто сломалось одно из ребер, и осколки опасно уперлись в нежную ткань легкого и сердца. Девушка сдавленно выдохнула, безвольно опустив руку.
− Больно, − она украдкой глянула на него и заметила тревогу на лице. – Хех, забудьте, док. Мне тридцать три, а я продолжаю верить, будто у меня могут быть друзья. Казалось бы, люди не знают кто я и откуда, что тогда их может отталкивать? Видимо, я не могу отмыться от прошлого, как бы не молчала о нем, куда бы не бежала. Такая, видимо, моя природа. Настоящая стапелия. Хотя даже ее цветки привлекают мух.
− Эйприл, − Чернодурка обеспокоенно выпрямился, − поговори со мной.
− Разве сейчас я говорила недостаточно откровенно? − в голосе прозвучала искренняя озадаченность, после чего она странно посмеялась. – Или я заговорила на другом языке? Похоже на срочный звонок, док. Вы сегодня забыли его выключить?
Мужчина торопливо выудил из кармана жужжащий телефон и пару секунд смотрел на имя абонента и количество пропущенных. На лице мелькнула легкая озабоченность, но он уверенно сбросил вызов.
От обиды Эйприл тяжело дышалось, но она умело скрыла нахлынувшие эмоции. Все же когда-то она выступала на сцене, перед публикой, где не место слабости и личным проблемам. На концерте ты обязан только улыбаться и зажигать, отдаваясь без остатка незнакомцам, которые заплатили за шоу.
Чернодурка посмотрел на нее с врачебной жалостью. У него было такое же лицо, как у белых халатов, собравшихся вокруг койки, когда Эйприл впервые очнулась после удара.
− Я хотела у вас узнать, док. Могу ли уже вернуться домой? Я здесь почти год. Думаю, я готова заботиться о себе сама. Я хочу домой.
Он ничего не сказал в ответ, восприняв ее слова, как нежелание продолжать беседу. Молча покинул палату, как-то даже быстро, словно давно ждал разрешения, сжимая в руке запиликавший телефон.
«Я бы проползла по битому стеклу, чтобы быть той, кто смеется последней» [11]
В подростковом возрасте, как раз в тот период, когда я во второй раз сбежала из приюта, у сирот, девушек и юношей, закипала кровь, и жизнь после отбоя тоже начинала кипеть.
Ребята пробирались в комнаты девочек через балконы и окна. Преступно крались по коридорам детдома, прикрытые полуночными тенями.
О сне в такие ночи можно было забыть. Я сидела на кровати и украдкой поглядывала, как мои сверстники в другом конце комнаты выстраивались в круг и почти интимно развлекались. Сироты вырывали из тетради листок бумаги, несколько раз складывали его пополам, отрывали лишнее по проглаженным линиям, оставляя только небольшой квадратик. Они прикладывали этот бумажный огрызок к губам, присасывая дыханием, и передавали друг другу без помощи рук. Игра – проявитель симпатии: случайно ли, намеренно ли, но листок мог упасть, и тогда губы соседствующих игроков соприкасались в невинном поцелуе.
Звонкий смех и ликующие вопли сотрясали тихие ночи, но, кажется, не долетали до ушей воспитателей.
Мне тоже хотелось оказаться в этом кругу. Стоять рядом с мальчиком, с которым однажды познакомилась в изоляторе, но наша дружба в дальнейшем не сложилась. Даже зная его отношение ко мне (он поддерживал остальных в групповой травле меня), я все равно мечтала стоять рядом с ним. Я влюбилась в мечту о том, что в другой жизни, будь я другим человеком, то была бы сейчас там, с остальными. В моем воображении мы целовались много-много раз. И никто не мог лишить меня этого мнимого удовольствия.
Сирот бесило, что я подглядываю за их весельем. Тогда они отвлекались от игр и заводили любимую забаву, для которой у меня была отдельная, главная роль. Сколько чести!
– Че пялишься, вонючка? – говорила мне та, которая стала любовным интересом мальчика из изолятора. Он обожал перебирать ее дикие кудри. Как уж она их крутила, понятия не имею.
– Вы – раздражители моих слуховых рецепторов, – довольно смело для изгоя отвечала я.
– Что ты там мямлишь? – огрызнулся кто-то другой из круга, даже лица его не помню. – Вонючка!
– Мусор! – подхватили все остальные.
– Сиди тихо и не воняй, – скомандовала та кудряшка.
– Вам бы стоило быть тише, – я не сдавалась. – Грымза прибежит на ваши вопли и задаст всем по первое число. Мы все для нее одинаковый мусор.
– Тебя, между прочим, на помойке нашли, – та самая смаковала каждое слово моего старого унижения, будто она его только вчера узнала.
– Это детали. Предки от тебя тоже избавились и торчишь здесь не меньше моего. Я уже лет пятнадцать, благодаря вам, знаю, кто я, а тебе только предстоит узнать. Выйдешь отсюда через пару лет и во всех красках узнаешь, каково это быть мной, когда весь мир повернется к тебе спиной. А я стану мусором, которому будут аплодировать!
Я прям так и сказала!
В своем воображении.
На деле, после требования заткнуться, я поступила как самая настоящая помойная крыса: встала и вышла из общей спальни, бросив перед уходом угрозу, что расскажу Грымзе, чем тут остальные занимаются после отбоя.
До нее я так и не дошла. Даже не планировала. Просто нашла повод покинуть место, кишащее мерзкими мухами. Я спряталась под главной лестницей и наблюдала, как по стене, куда из окна падала полоска света, мельтешили тени разбегающихся по комнатам сирот. И мечтала. Мечтала.
Я стану той, кому будут аплодировать!
[1] TOOL - Fear Inoculum
[2] Fit For Rivals - Novocain
[3] Rashamba - Тишина
[4] Dream on Dreamer - Don't Lose Your Heart
[5] Korn - Twisted Transistor
[6] In Flames - The Chase
[7] Cult To Follow - Lies
[8] Asking Alexandria - Run Free
[9] Like A Storm - The Devil Inside
[10] Slipknot - Duality
[11] Downplay - The One Who Laughs Last