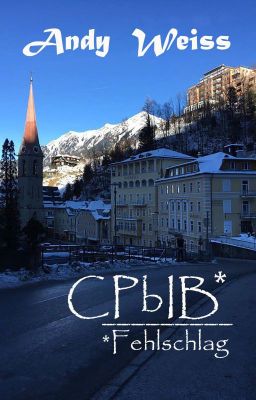3. H
Я знал Герберта Олли пятнадцать лет. Когда я, студент, пришел на учебную практику в прокуратуру, Олли практиковал уже лет десять. Ему было неважно, получит ли он гонорар. Ему было важно только одно: виновен человек или нет. Это в нем меня и покорило: он защищал даже тех, кто не мог заплатить ему ни цента. Одинаково качественно он защищал банкира, которого пыталась надуть его собственная жена при разводе – и бездомного, которого обвиняли в краже велосипеда. Студента-иностранца, которому пытались приписать убийство вместо самозащиты – и достопочтенного владельца ресторана, который не уследил за использованием просроченных продуктов. Олли было все равно, какого социального статуса его подзащитный, он плевал на деньги: если он верил, что его клиент невиновен – он сворачивал горы. Даже если против его клиента был весь мир, Олли вставал против этого мира, и сражался до последнего патрона. Но если была хоть капля сомнения – Олли отказывался сразу. Он просто изначально не брал такое дело, по-честному. Исключение составляли только те случаи, когда виновность выяснялась уже в процессе его работы... бросить дело на полпути адвокат не имел права. Но честно говорил своему клиенту: дорогой, я попробую уменьшить твой срок. Вытаскивать тебя любым путем – уволь. Ни за что.
К слову сказать, по-настоящему виновных попадалось мало – Олли действительно умел видеть человека насквозь, и, лучше всякого детектора лжи, определять, правду ему говорит клиент, или нет.
И сейчас, выходит, он усомнился во мне? Во мне, которого знал пятнадцать лет? Будучи крестным отцом моего сына? Боже, неужели мои дела НАСТОЛЬКО плохи, что даже Олли поверил, что я мог притащить в номер несовершеннолетнего мальчика, накачать его наркотиками и уложить в постель?...
Мне принесли, наконец, одежду и мобильный телефон. Я увидел несколько пропущенных звонков: сын. Сердце сделало скачок и забилось, как отбойный молоток. Что должно было случиться, чтобы тринадцатилетний пацан названивал мне весь прошлый день, хотя до этого забывал звонить даже раз в неделю?
- Макс, это папа. Что случилось?
- Папа! Папа, у тебя все хорошо? Папа! – голос мальчика срывался и звенел, словно он вот-вот расплачется.
- Я в больнице, но у меня все уже в порядке, - покривил я душой, - а в чем дело?
- Тут... по телевизору... и в газетах... - ребенок не выдержал и засопел, и я понял, что он пытается сдержать слезы.
Вдоль позвоночника прошел мороз. Значит, то, что произошло со мной здесь – это еще цветочки. Первая часть, так сказать, этой оперы. И есть что-то еще, о чем я пока не знаю, валяясь в наркотическом сне и оправдываясь за незнакомых мне мальчиков.
- Макс, я не знаю, что там у вас в газетах и по телевизору, но я разберусь, обещаю тебе.
- Папа, тебя посадят в тюрьму?
Трубка чуть не выпала у меня из рук: что там, черт возьми, такого показывают?...
- С чего ты взял?
- Сказали, что... там были наркотики. А за наркотики ведь сажают в тюрьму, правда?
Я пытался собраться с мыслями: газеты и телевидение разнюхали эту историю и обсуждают ее? Вполне ожидаемо, впрочем. Слава богу, ничего нового. Как только выяснится правда, они заткнутся. Хотя, и не сразу. Общее впечатление о моей персоне будет основательно подпорчено.
- Нет, малыш, полиция уже разобралась, что никаких наркотиков не было. Просто об этом еще не знают на телевидении. Или просто не хотят рассказывать. Ты же знаешь, они любят сенсации. Мы говорили об этом, помнишь?
- А этот парень? Он теперь будет жить с тобой? Надо мной смеются в школе, потому что везде эти фотографии, и ты там голый, папа...
Я опустился на стул, потому что у меня внезапно отказали ноги. Значит, есть еще какие-то фотографии. И на них я голый. Меня не просто накачали наркотой, меня еще и сфотографировали... Отлично. Отлично, господин Штубер, бывший прокурор. Теперь уже однозначно бывший, потому что после такого позора меня не то, что на вышестоящую должность не пустят – меня даже в собственном-то кресле не оставят. Да и в прокуратуре вообще.
- Малыш, инспектор сейчас разбирается с этим. Я думаю, это монтаж. Ты знаешь, что такое монтаж?...
- Знаю.
- Мы все выясним. Так и говори тем, кто над тобой смеется.
Объяснение давалось мне с трудом. Я действительно не знал, что говорить – я не видел этих фотографий, не знал, что со мной случилось, и не понимал, что теперь делать. Остается только надеяться, что Олли докопается до истины. Однако со своей службой мне точно придется попрощаться.
- Макс... а что говорит мама?
- Мама говорит, что всегда считала тебя способным на такое. Я ей тоже расскажу про монтаж, хорошо?
- Конечно.
Я сидел, прикрыв глаза. Даже моя жена... ладно, бывшая, но жена! Мы прожили с ней вместе почти 12 лет. Неужели она действительно не усомнилась во мне даже на минуту? Или это просто месть? Если газетчики спросят ее обо всем этом, она выплеснет всю свою злость. И станет еще хуже...
Я попрощался с Максом и сидел, бессильно опустив руки на колени. Снова начала накатывать волнами слабость. Хотелось что-то срочно делать, как-то защищаться, доказывать свою правоту – но в голове не было ни одной мысли, а тело было безвольным и вялым, как желе.
«Когда благородный муж сделал, что мог, ему остается только полагаться на судьбу», - пришла мне в голову вычитанная когда-то умная фраза из кодекса самураев Бусидо. Наверное, это было как раз вот про такие ситуации: ты ничего не можешь сделать просто потому, что не понимаешь, что именно нужно делать. Действовать наугад – опасно, можно только навредить. Поэтому – просто выдохни. То, что случилось – уже случилось. Прими, и иди дальше.
Я всегда этого боялся: что меня ославят на весь свет какой-то грязной тайной, подстерегут, подсмотрят, перетряхнут на людях грязное белье. Именно поэтому я старался не держать грязного белья вообще. Не иметь тайн. Жить максимально прозрачно. Единственной моей тайной была интрижка с балетной танцовщицей – и эта интрижка привела к разводу. То есть, по большому счету, даже эта интрижка мне не удалась и тайной не стала, по крайней мере, от жены. А теперь мое грязное белье полощется-таки на ветру, а я об этой обнародованной тайне ничегошеньки не помню...
А что, если я действительно это сделал? Мне дали какой-то препарат, который отключил мой мозг, но не отключил остальные части моего тела. Что, если я... нет. Не могу себе такого представить.