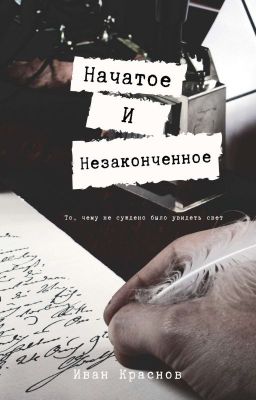Убивающая любовь и искалеченная нервной болезнью молодость
С непривычки я злился, когда приходилось испытывать на себе его частые смены настроений, сопровождавшиеся отчаянными метаниями от одного мнения к другому, от одной безумной идеи к другой такой же, но доведенной уже до крайности, гиперболизированной в своей сущности. Мне это выражение глубоко и тяжело переживаемой духовной коллизии, о которой он мне долго ничего не мог сказать конкретного, казалось неумело поставленным спектаклем, разыгрывавшемся ради того, чтобы придать размеренному ходу нашей совместной жизни немножечко чувственных потрясений. Потрясения эти ему приносили одновременно и удовольствие, создававшееся по большей части из наблюдения за произведённым на меня эффектом, и большие страдания, которые подрывали его и без того шаткое здоровье. Он мучился в своей жестокой радости и радовался в своих мучениях, целиком и полностью вверя себя зарождавшейся нервной болезни. Он мог соединять во мгновениях такие несоответствия и противоположности, что иные разы мне приходилось только в отчаянии падать на колени перед ним и умолять объясниться. Бывало, он выходил откуда-нибудь из-за угла, пред этим в стороне ожидая моего прихода, и без предисловий набрасывался на меня с безумными обвинениями во всех преступлениях, в которых только можно было бы уличить самого безнравственного человека. Перекрикивая мои слабые возгласы, рассказывал, испытывая свои ораторские способности и отчасти даже моё терпение, о том, что я - подлейший из всех знакомых и незнакомых ему людей, что я - мошенник, каких свет ещё не видывал, и надо было бы по-хорошему меня сдать в полицию нравов, если бы таковая существовала. Я же большую часть времени выплескивания этого эмоционального надрыва просто стоял и молча (так как на первых порах понял, что пытаться вразумлять его в такие минуты - бессмысленное занятие) наблюдал за тем, как от агрессивных резких движений он начинал медленно переходить к плавным, как голос его, уже не выдерживая быстротечности потока громогласно** извергаемых им слов, срывался на жалкое сипение. И весь он, заходясь в своей беспричинной злобе, постепенно оттаивал, как хрупкая льдинка в руках.
Иногда он, как будто закончив рассказывать заученный, а до того тысячу раз повторенный монолог, резко останавливался и, оглядывая меня с ног до головы всё ещё хмурым взглядом, начинал зачем-то перечислять мои реальные добродетели, точно оттачивая технику защиты обвиняемого перед лицом грозного и беспощадного судьи. После всего этого бреда, преподносимого в свете как будто бы вполне обоснованно предъявляемых ко мне претензий, он вдруг начинал ласкаться ко мне с привычной своей детской робостью. В конце концов, такая сцена заканчивалась длительными примерениями в объятиях и со слезами раскаяния на его глазах.
Долгое время я тщетно пытался вызнать у него самого причины таких припадков, бывших, несомненно, следствием какого-то внутреннего духовного надлома, пребывания в мучительной неопределённости между двумя противоположными гранями. Но каждый раз, когда я вынуждал его дать мне чёткое объяснение всему происходившему с ним, он старательно, с отчаянием приговоренного к смерти, делал вид, что ничего не помнил, не понимал, а я же всё это зачем-то взял из головы и теперь приставал к нему со вздорными претензиями.
Передо мной и ответом на искомые вопросы вставала естественная и тяжело преодолимая преграда - непоколебимое желание Миши во всём мне противоречить и казаться ещё загадочнее, чем он был на самом деле. Он являл собой очеловеченное воплощение антагонизма, зеркала, искажающего духовный облик того, кто бы осмелился заглянуть в него. Несмотря на эту его психопатическую склонность выражать свои негативные эмоции и частую раздражительность вечными попытками завязать конфликт, в нём не было и следа той чисто демонической черты, какую можно было заметить в движениях личности преступной, обуреваемой греховными страстями, способной для услаждения своего животного начала пойти на самый мерзкий поступок, о совершении которого невинному созданию человеческому даже думать не пристало. Когда он, не зная, на что направить мощную энергию своей ярости, куда девать её, неистово рвущуюся наружу, разгневанной химерой кидался на меня с обвинениями, в нём говорило не зло. В нём говорила боль, непонятная ни ему самому, ни окружающим его людям. Осмыслить бессчётное количество всех его занимавших впечатлений, варьировавшихся в масштабах от осколочных, мелких и совсем не стоящих внимания, до событий, перевернувших его внутренний мир с ног на голову и ставших подспорьем для зарождения губительных наклонностей. Боль эта была качества более высокого, нежели та, что у бесчисленного множества людей лишь отнимала на время привычные ощущения сытой удовлетворенности жизнью, счастливой беззаботности и духовного умиротворения.
И сны его, в которых он надеялся найти временное убежище от будничных нападок реального мира, место сбережения своих загубленных нервов, - становились с каждой прожитой неделей (если не с днём) всё тревожнее и страшнее. В них проникало то, что длительно накапливалось где-то в подкорке сознания, тёмных уголках его мировосприятия. Бесчестно завладевшее им состояние нервозности напористостью продвигаемых в Россию наполеоновских войск подчиняло себе без остатка любую минуту жизни, истрачивая весь его запас молодецкой, деятельной энергии в пустоту, на никчёмное переживание того, что въелось когда-то в сознание и так и не смогло забыться, затеряться среди прочих мыслей, отбрасываемых при первом же глубоком их рассмотрении в глубины разума.