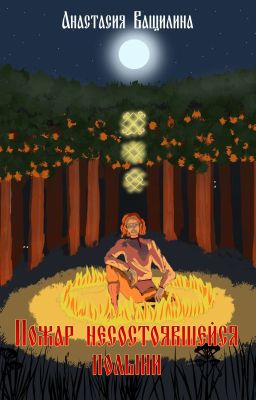ЧАСТЬ 4 - ДА НЕ ПОГАСНЕТ ПЛАМЕННИК. ГЛАВА 17
Церквушка, к которой их вывела тропа, была заброшена настолько, что трудно было даже предположить, сколько ей лет. Конечно, они не могли упустить возможность полюбоваться тем, что сотворила природа за годы пребывания божьего дома в лесу. Тем более, что никто их не гнал вперёд. Ни Белочники, ни толпа разъярённых жителей. Наконец-то.
Заборчик вокруг неё повалился и врос в землю. Одна из досок, на которую опёрся Житеслав, отвалилась, и он чуть не угодил лбом в острую часть. Снаружи церковь была серая, с чёрными пятнами разводов, будто некогда её пытались сжечь, и это развеселило Онагоста. Стены обвил густой плющ, и страшно представить, какие жилища себе устроили пауки в её углах. Золотая маковка матово блестела, обтёртая дождями, ветками, птицами и Навь весть чем ещё. Наверняка все иконы и драгоценности вынесли в первый год запустения.
Онагост надеялся, что внутри не окажется кого-то живого, хотя бы не человек. А то, леший его знает, кто решил скоротать время или переждать день в стенах церкви.
Разбухшая дверь не сразу поддалась, пришлось навалиться сразу двум парням. Доски с хрустом сдвинулись, и через довольно узкую щель дохнуло сыростью, плесенью и, едва уловимо, гнилью. Житеслав решил влезть первым. («Ему к гнили не привыкать», — сказал, а Онагост с некоторой грустью подумал, что пора бы отвыкнуть). Сразу проверил пол, и тот надсадно заскрипел под его сапогами, но не провалился. Некоторых досок не хватало, какие-то размягчились.
Онагост забрался внутрь, следом за ним Кристалина.
В заколоченные окна пробивался свет, разделяя зал на отсеки. На стенах среди мха виднелись остатки былого богатства: золочёные рамы, рисунки людей, куски холстов и надписи прихожан. Казалось, что жизнь здесь кипела совсем недавно, но грязь и тлен говорили об обратном.
Наверх вела каменная лестница, и конечно, Онагост не преминул забраться наверх и заставить остальных, тем более что пол норовил проломиться от каждого шага. Громко аукнул, вслушиваясь в эхо, множащееся с каждым мигом.
— А хорошее место, чтобы заночевать, — восхищённо поделился он.
Держась за перила, Онагост вглядывался вниз. Щербатый пол будто улыбался пугающе и радостно. Высота была достаточная, чтобы прыгнуть и разбиться, и, зная, что может непроизвольно шагнуть вперёд, просто потому что есть ноги и опасное расстояние, Онагост отпрянул к стене, прислонился спиной. Рисунки здесь были выпуклыми, это он нащупал взмокшей ладонью.
Расчистив редкие пятна мха, они высмотрели узоры и кусочки сохранившейся краски. Где-то виднелся край платья, где-то резной трон, ребёнок и ларец с камнями. Подсознательно Онагост чувствовал, что за этими линиями скрывалась целая история, которую никто теперь не расскажет.
«Никто не расскажет».
Никто из прошлого. А вот он может.
Онагост коснулся пальцами шершавой стены, испещрённой угольными и красными знаками, рисунками и фресками. Подушечки легко заскользили по линиям, смазывая пыль и труху от мха. Огонь в жилах послушно откликнулся, шевельнулся, и Онагост выпустил немного, невесомо касаясь и нагревая линии. Перед глазами вспыхнуло золотом, будто кто-то всыпал в них светящуюся крошку. Она осыпалась, и взору открылся всё тот же зал внизу и двое мужчин. Те же стены, те же рисунки, но более свежие. Голоса и звуки звучали смазано и глуповато, как из-под воды. Наверное, это кусочек прошлого.
Беловолосый мужчина в чёрном тяжело вздохнул. Второй, сидящий рядом, похлопал его по плечу.
— Давай, — сказал, — дело на пару лучин. Собрался, выдохнул и...
— И подумал ещё немного, — заключил тот и огладил белую бороду. — Это сложно, понимаешь? Сложно.
Рыжий раздосадовано махнул рукой и задумался.
— Ну ты же знаешь, что делать. Так в чём проблема?
— А в том, что заложить детей это тебе не воды попить. От сердца отрываю. Хоть и знаю, что так надо, но кусок кровоточит.
— Славка, я предупреждал не привязываться.
Славка передразнивающе пошевелил плечами, закатив глаза и скривив губы.
— Потом. Сейчас ещё есть время.
Рыжий переменился в лице и едва не оскалился, как пёс.
— Да ты столько времени угрохал на поиски подходящего заклинания и бога, а теперь вот так, на попятную?! Сдурел совсем?
— Зоран, — серьёзно сказал Славка, — это мои дети. И мне решать, когда и что делать. Ясно?
Зоран скривился, помолчал немного и всё-таки кивнул. Бросил, как будто невзначай:
— Вообще это должно спасти жизнь не только тебе, но и мне, и Душице...
— Что с того? Ты только ради этого меня торопишь? Чтобы по твою душу Белочники не пришли? — вскинулся Славка. — Мои дети не разменная монета, и даже если я сейчас от них отрекусь, и даже если моя привязанность к ним пропадёт, я не хочу, чтобы они страдали. Чародеи, умершие в ногах бога, пусть и ушедшего, не будут приняты Навью, значит, отправятся в небытие.
Тяжело вздохнул и смерил Зорана презрительным взглядом.
— И вообще, проваливай-ка ты, надоел, шакал.
Зоран хотел был что-то ответить, но не стал. Захлопнул рот и отвернулся.
Картинка сменилась, покрылась золотом и открылась вновь.
Тот же зал, но уже ночь. Зоран стоял с неровным клочком пергамента, явно вырванным тайком и впопыхах. Он достал нож и полоснул по внутренней стороне предплечья, и пока кровь густо стекала на каменный пол, Зоран читал что-то вполголоса. Незнакомый язык, но Онагост такой уже где-то слышал очень давно.
Лунный свет неполного лика попал на рану, и кровь на той задымилась, вскипела. Зоран завизжал, убрал руку, так и не дочитав заклинание. На предплечье, куда попал свет, выступила рыжая шерсть. А Зоран всё не унимался и лихорадочно смазывал кровь, и каждое прикосновение к порезу вызывало новый стон боли. Наконец луна полностью показалась в окно и снова попала на руку. Наверное, Онагост бы оглох от ора, находись он в то мгновение рядом.
Кожа почернела и покрылась шерстью, а сама рука изломалась, как если бы по ней несколько раз проехало колесо телеги. Даром что кости не торчали.
Зоран вскинул голову, и стало видно, что его карие глаза вспорола радужка, вытянувшись вдоль, как у кошки. Он слепо зашарил здоровой рукой в воздухе и зажмурился.
Когда шерсть втянулась, а рука стала вновь похожа на человеческую, Зоран всхлипнул и сжёг клочок пергамента на ладони. Шагнул наружу из церкви, и стоило лунному свету опять попасть на него, как кожа мгновенно покрылась волдырями, а глазам стало так больно, будто их выжигали горящей головнёй, так сильно тот зажмурился.
— Проклятие... — простонал Зоран и бессильно повалился на колени.
Золотое свечение рассеялось, и перед глазами вновь предстала запустевшая церковь. Теперь она не казалась такой безопасной. Онагост почесал в затылке и оглянулся на остальных. Спросил:
— Вы тоже это видели?
— Да, — прошептала Кристалина. — Кто эти люди? Зачем они это натворили?
— И что это вообще сейчас было? — ошарашенно спросил Житеслав.
Онагост задумался.
— Иногда колдовство оставляет отпечаток, впитывается в краску, в дерево, во что угодно. И вот, видимо, до этого разговора в стенах церкви провели какой-то обряд.
«И судя по крикам и тому, что мы видели, жуткий обряд», — подумал Онагост и устало улыбнулся. Пусть ему это колдовство и далось легко, но чьи-то воспоминания легли мешками, набитыми камнями. Надо было всё это переварить, но уже за стенами церкви.
— Есть что-то, что ты не умеешь? — беззлобно осведомилась Кристалина.
Есть, ответил Онагост. Умение прощать себя.
839 год, Поднигородское княжество, церковь Святого Прарода Гостомысла
Месяц травный
Волеслав всё рассчитал, ошибки быть не должно.
Полнолуние этой ночью. Заклинания с собой, но вряд ли они пригодятся, ведь он так часто повторял колдовские слова, что заучил, и теперь их можно было только выжечь чем-то посильнее.
Этой ночью ему снился маленький мальчик с рыжими кудряшками. Они сидели в какой-то горнице, усыпанной золотыми огнями, а на столе между ними стояла плошка с деревянными бирюльками. У каждого было по горсти вытащенных фигурок. Мальчик, высунув язык, вытаскивал очередную, оставляя на дереве тёмный сожжённый след от пальцев.
— Пап, — сказал, — давай поиграем, как ты умеешь!
— Да, давай, пап!
Слева к нему подбежала светлокосая девочка и обхватила за шею прохладными ручками, чмокнув в щёку.
Проснувшись, Волеслав разрыдался.
Ни с кем он теперь не поиграет. Не будет у него больше ни сына, ни дочери.
Замешивая козье молоко с отваром, прячась от заката на ступеньках в сенях, Волеслав всё размышлял о задуманном.
Это, мать вашу, его дети. Да, неожиданные, да, поначалу нежеланные, но всё же его. И каково же отцу прощаться с теми, в ком его частичка? Два живых человека, так похожие на своих родителей. Боги, ну за что, за что ему это всё? Неужели только лишь за тёмную ворожбу? Не может быть, не может этого быть, не мож...
— Волеслав! — окликнули.
Он полуобернулся, глянул исподлобья и смягчился, когда увидел Душицу.
На его женщине тоже это решение отразилось не самым хорошим образом. Под глазами залегли тени глубже, чем когда-либо, губы Душица искусала до кровавой корки, а вокруг ногтей не хватало кожи — расковыряла. Которую ночь она не спала и лишь рыдала, стоило её взгляду упасть на два шевелящихся кулька. А дети даже не кричали и не плакали, видно, понимали, что скоро придёт конец. Бесчестный, бесславный. Не тот, который заслужили два едва рождённых сердца, а поганый. Говорят, дети всё чувствуют. Каково им было понимать, что родители их скоро бросят? Может, было всё равно, но не спроста же девочка, имя которой в унисон звучало с названием седой птицы, Лунь, хватала мать за пальцы и заглядывала в глаза так, что совесть выжигала и выплавляла внутренности. Мальчишку назвали Кошик, от слова кошь — судьба. Да и какая теперь разница, если имена им не пригодятся. Но уйти безымянными в небытие — грех. Так говорили ушедшие боги, так же говорит и новый, Промыслитель. И неизвестно, кто хуже, предатель или властолюбец. Однако же Волеслав шёл на поклон предателям. Предпочёл не смотреть правде в глаза: никто им уже не поможет и не примет.
Он бережно откинул край расшитого покрывала, в которое Душица заботливо кутала детей, и дал рожок дочке.
Душица склонилась к ним, внимательно наблюдая за действиями.
— Сонное зелье? — спросила с пренебрежением.
— Всего лишь маковое молоко, — заверил её Волеслав.
— Почему сразу не налил яду?
Пожалуй, дать Душице то же маковое молоко было хорошим решением. Чуть ли не единственным верным за последнее время.
— Дорогая, ты же понимаешь, что мы будем делать? — мягко уточнил он. — Пусть лучше мне вскроют грудь и вырвут сердце, чем я своими руками наврежу малышам. А молоко их усыпит, чтобы всё было тихо. Тогда случайным встречным будет казаться, что мы несём подаяние богам. Поняла?
Душица, может, и поняла, только никак этого не показала. Молча развернулась и ушла в дом.
Волеслав не мог её осуждать. Он всего лишь мужчина, а она женщина, выносившая детей под сердцем. Душица была к ним ближе всех и их крепче всего связывала оборванная пуповина.
Дождавшись, пока малыши заснут, он собрался сам и протянул такой же плащ Душице. Вещи они сожгут после.
Два кулька легли в корзину, кое-какие приспособления для обряда Душица, не глядя, скинула в суму. Потом разберутся.
Место он выбрал подходящее, как раз недалеко был только дом старого рыбака. Мелькнула мысль, что, если боги обозлятся, то весь гнев падёт именно на него. И пускай. Этот старик столько крови попил у всей деревни, а скольких девок он ловил по углам и угрожал насадить на гарпун за неповиновение!.. Однажды даже пытался пристать к Душице, но что рыбак против Волеслава, знающего, как попросить о помощи темноту? Он злорадно подумал, что смерть старика будет поганой, как и он сам.
Ночь, глубоко чёрная и яркая от вкраплений звёзд. Запах крови и горячего страха. Волеслав мало что мог хорошо запомнить, но этот день навсегда останется в его памяти.
Уже давно в нём зрело нечто иное, и особенно чётко он почувствовал это, когда обнаружил криво выдранную страницу с заклинанием, которое придумал его дед ради шутки. Вырвал его, конечно, Зоран. На что ему этот листок с нелепой побасёнкой? Продаст, наверное, что же ещё может сделать этот шакал.
Когда настала пора читать заклинание, это нечто, таявшее и растекавшееся в подсознании, окрепло и наконец-то выдало себя.
Он не будет отдавать детей на откуп. Он попросит защиты у богов для себя, жены и малышей, а взамен исполнит их волю. Ведь, как говорила ведьма, они родились, чтобы изменить мир? Так кто Волеслав такой, чтобы противиться их воле?
Слова, так ладно заученные, теперь отлетели куда-то далеко. Вместо них пришли другие, вязкие и липкие, оседающие на языке солёным пепельным слоем, а в горле — горечью.
— Ту ра хату ино сэрва-арус тито пол-ло...
Он даже не знал такого заклинания, брал всё, что приходит в голову и лежит на душе.
«Макошь и сестра её, Морана. Вы даруете жизнь и вы же её забираете».
Решил просить тех, между чьими мирами межа, на которой они сейчас стоят.
«Я пришёл не только с даром, но и просьбой. Вы ведаете обо всём. Так примите то, чего жаждал свет. Примите и даруйте защиту и благословение. Ваша помощь нужна как никогда».
— Нави от-то, Мокаш сутала овино. Канто рин-но, канто рен-но. Су то ла дара от-тови. Шидаара. Миеристун. Ли да каасса да пуэсси.
«Сестра света и сестра тьмы. К вам обращаюсь, прошу защиты для себя, женщины и детей. Не убийте, помогите, не убийте, помогите...»
— Нотто крима, паоло руфи, нотто крима, паоло руфи...
В кустах шуршало, звенело, рычало. Тени пришли поглядеть на дураков, взывающих к богам, что ушли. Представление для Нави, не иначе. Ничего, посмотрим, кто кого.
Кровь и полынь. Горечь и боль. Сталь и мёд слов.
Когда всё закончилось, Волеслав подумал, что оставил у капища не только детей, но и часть рассудка.
Не оборачиваться, чтобы не заныло сердце и не захотелось вернуться. Шаг за шагом, и позади остаётся то, что когда-нибудь сыграет в этом мире, и всё изменится.
«Пап, давай поиграем, как ты умеешь!..»
Он не умеет играть, только проигрывать.