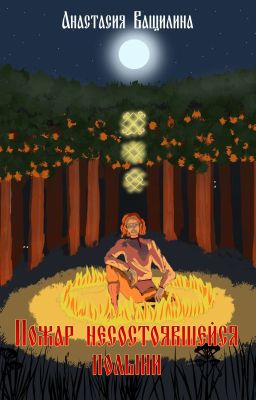ГЛАВА 7
Княжий терем оказался таким же, как Кристалина его себе и представляла: величественный и снаружи, и изнутри. Оконные рамы, сплошь увешанные резными наличниками: лисы и кони перемежались с солнцами и звёздами; лакированные двери в покои и трапезные. Сами окна, покрытые тончайшей слюдой, — не чета их бывшей избушке, где бычий пузырь запросто слетал с рамы от старости. Ступени и проходы из липовых досок застилали пёстрые ковры из льна и войлока, а перила сплошь изреза́ли тонкие линии деревянных узоров. В каждом зале, каждой комнате и клети на стене обязательно висели синие с молочным стяги с белой голубкой в середине — знак Поднигородского княжества. Потолки в залах украшала искусная роспись с историями: победа в войне с северным княжеством, вокняжение на престол Волеслава Тщедушного, день летнего и зимнего солнцеворота и — эти рисунки были относительно свежими — пожар во дворце и мятеж, ночь Огнёвицы. Да, потрепало тогда этот теремок знатно. Судя по рассказам и кривослухам, стены и потолок сильно обгорели, часть дворца пришлось полностью перестроить, а некоторые комнаты так обвалились, что их и вовсе убрали, чем укоротили терем — не страшно.
Громоздкая, белая, до блеска вычищенная печь на большущей кухне, вокруг которой сновали кухарки и челядь. В ней ли пару десятилетий назад сжигали остатки людей?..
Запах в кухне стоял дивный — полки пестрели всевозможными пряностями и специями, — но в носу вдруг отчётливо встал смрад горелой плоти, а песочные стены и потолок покрылись чёрным злым кружевом копоти и дыма, окошки треснули и впустили сырой холодный воздух, взметающий хлопья пепла с пола. Чьи-то крики и следы от ногтей на стене. Мгновение — и всё вернулось как было. От кратковременного видения стало душно и тошно, голова вдруг разболелась, фруктовые и хлебные запахи стали казаться резкими. Кристалина поспешила выйти на воздух, ближе к распахнутому окну напротив кухни.
Терем. Княжий терем. Дворец из хрусталя и снов. Думала ли Кристалина, что когда-нибудь окажется здесь не преступницей, но гостьей, которая, к тому же, скоро ступила на службу? Ох как обзавидовались бы деревенские девки и подруги, да только Кристалине было не до восхищений. Какую цену она заплатит за всю эту роскошь? Головой ли, честью ли? Своей молодостью и счастливой жизнью?
Думать об этом не хотелось: от мысли о цене начинала подкатывать тошнота и крутило живот. Сколько раз она задавала себе эти вопросы и не получала ответов?
Все три седмицы, что она жила в тереме. Ни дня без сомнений и тревоги.
Поначалу она восхищалась красотой и богатством, а про себя думала: дорвалась, деревенщина, до цацек, — но постепенно ей наскучила вся эта пестрота — будто живёшь в самоцветной горе. За пределы теремной околицы она выходила несколько раз и под чутким присмотром стражи, — вели под ручки туда, куда она захочет, но за пределы города — ни шагу. Целыми днями она лишь оттачивала умения — а именно колдовство над водой — да читала рукописи, притрагиваться к которым ей разрешили лишь после долгих уговоров.
Сказки и поверья, заботливо записанные ровным почерком на пергаменте и скреплённые между собой тесёмкой, напоминали ей о доме. Напоминали, как мама вечерами баяла о большом вороне-падальщике, почти боге; как рисовала палочкой на земле буквицу, чтобы Кристалина и Онагост учились читать. Как мама ездила в Станецк и выкупала для них на ярмарке старые потрёпанные листы с песнями. Только буквица на них незначительно отличалась от той, какой их учила мама.
Хранилище книг и свитков находилось недалеко от её горницы, что позволяло Кристалине коротать вечера за чтением. Ей нравилось с головой уходить в сказки и не замечать происходящего в тереме. Не замечать смешки и шепотки в спину от служанок, хотя куда им до её положения? Кристалина успокаивала себя, что это ей готовят баню и еду и выстирывают платья. Это ей расчёсывают и заплетают в разные причёски волосы. Это для неё готовят спальню, подметая пол и выбивая постель. Хотя девушка ничем не заслужила такое отношение.
Можно ли счесть яд служанок за зависть? Возможно. Захотели бы служанки оказаться на её месте, узнай они о жизни Кристалины хоть чуточку больше? Едва ли, ох, едва ли.
— Кристалина, госпожа!
Знакомый голос. Кто-то из слуг?
Девушка вдохнула сырой весенний воздух и обернулась. В её сторону бежал мальчишка сродни тех, что подавали чаши за трапезой. Каштановые волосы его растрепались, из-за чего чашник походил на воробья после драки.
— Госпожа, тебя просит прийти Боремир.
Кристалина молча кивнула, обогнула мальчишку и направилась в сторону дверей во двор. Она уже знала, зачем Боремир её позвал. За тем же он просил прийти и все прошлые разы, и чем раньше Кристалина придёт, тем быстрее закончит.
С предпоследней ступеньки она спрыгнула, мягко приземлившись на стопу. Теперь её ноги всегда облегали туфли из мягкой кожи — ходить босиком запрещалось.
Кристалина даже не смотрела, куда шла, погрязши в мыслях. У бани уже поджидал знакомый стражник, назвавший себя Кривом. Крив не был молод и красив, и Кристалина бесстыдно строила ему глазки, чтобы тот не сдавал её ранние уходы Боремиру, а стражник и не был против, даже наоборот.
Тёмный предбанник с запахом хвои, дорогих масел и щёлока. Лавка и очередная бочка с водой. Сальные свечи по углам и веники на бревенчатых стенах. Кристалина так свыклась с тем, что видела это убранство почти каждый день, что если какая-то из вещей пропадёт, ей будет жутко непривычно.
Стоило двери закрыться, и девушка поспешила достать ломоть хлеба, запрятанный в рукаве, и положить в угол бани, под свечу.
Когда её впервые отправили в баню, чтобы Кристалина привела себя в порядок, девушка окликнула банника — показать, что с добром пришла гостья, и угостить, но тот не вышел, только вяло пробормотал что-то невнятное. И тогда Кристалина поняла — дело дрянь. В городе не чтили духов, не задабривали, и духи если не делали гадостей, то просто чахли, пока не умирали вовсе. И тогда место начинало гнить и разваливаться, становилось непригодным для житья. Домовой в тереме оказался поживее — наверняка кто-то из слуг иногда его кормил.
Кристалина подошла к бочке с водой, осмотрела своё плывущее отражение, наспех умылась и взялась за работу.
Всю жизнь Кристалина баловалась с ручьём, собирала воду в причудливые фигуры, в дождь окутывала себя коконом из капель, сушила фрукты, овощи и травы для продажи. Но почему-то именно заговоры отнимали у неё столько сил, словно она весь день таскала тяжёлые мешки в гору. Может, потому что отчасти это была тёмная ворожба, сродни колдовству на крови. Незнакомые слова, звучание которых ей любезно выписали на обглоданный листок пергамента, весомо срывались с языка, отдавая звоном в голове, оседая на поверхности воды пеленой незримой, но осязаемой. Порой под конец чтения у Кристалины перед глазами так кружился мир, что она падала, а один раз чуть не полезла умываться заговорённой водой, но вовремя спохватилась. Кристалина узнала, что та причиняет боль, лишь попробовав воду пальцем. Стоит ли говорить, что ещё несколько дней девушка не могла им шевелить?
При дворе Кристалина была первой чародейкой за пару десятков лет. Предыдущие попытки ворожей заговорить воду почти всегда оканчивались неудачей: заклинание — или наговор — плавали на поверхности, точно капли воска или жира, и никак не хотели соединяться с водой. А у Кристалины получилось. Не с первого раза и не огромную бочку, но всё же получилось.
Она вспомнила, как во второй вечер её привели в предбанник с закрытыми глазами, а когда сняли повязку, показали на стоявшее перед ней блюдце с водой. Стоило Боремиру озвучить предстоящую работу, как Кристалину бросило в дрожь. Шутка ли колдовать при стольких людях? А их там было не мало: несколько рабочих, дружинники, думские и сам воевода. Наверное, у неё случилась бы истерика, если бы Боремир, грубо ругаясь, не приставил нож к её горлу — только тогда Кристалина смогла пересилить страх.
Едва последнее слово растеклось по краям бочки, девушка шевельнула пальцами в воздухе, будто отогнала надоедливую мошкару, и вода качнулась. Послышался глубокий плеск, со дна начали подниматься пузырьки. Кристалина махнула рукой в другую сторону, перемешивая воздух, и наговор растворился, окрасив воду в синий и лавандовый. Сверкнули всполохи голубого и жёлтого света — значит, всё получилось. Работа окончена.
Кристалина опёрлась на край бочки, заглянула в воду, успевшую снова стать прозрачной. Отражение рябило, но было ясно видно, что сегодня кровь из носа не пошла.
Удивительно, в этот раз Боремир не заглянул к ней. Обычно он обязательно пару раз вставал и зудел над ухом, какая она растяпа и как же она, такая неосторожная, собиралась искать себе мужа, — неосторожностью он называл капли, упавшие на пол при смешении воды и наговора. Постепенно насмешек становилось всё меньше, а времени Боремир проводил с ней больше. Иногда он внимательно всматривался в её лицо, наверное, выискивая черты будущего предательства. Кристалине такие взгляды не нравились, она находила их до странного обожаемыми и будто бы влюблёнными.
Неловко покачнувшись девушка осела на низкую лавку и потёрла виски. Пусть сегодня и не шла кровь носом, но головная боль никуда не делась.
— Всё в порядке? — Боремир просочился сквозь узкую щель двери и встал перед Кристалиной.
Проскочилась мысль съязвить и назвать воеводу мамочкой, и Кристалина бы так и сделала, если бы не новая волна боли. Лицо невольно скривилось. Из ослабших пальцев выпал рушник. Боремир стремительно наклонился, поднял его и терпеливо выждал, пока Кристалина заберёт вещь, хотя ещё пару седмиц назад он бы грубо швырнул рушник ей на колени, а то и вовсе заставил саму наклониться. Что же переменилось? Может, он наконец признал в ней сильную чародейку, а не обыкновенную деревенскую девку и ворожею, коих до неё было несметное количество?
Боремир осторожно коснулся её лба, проверяя, наверное, нет ли жара, заправил повисшую русую прядь за ухо.
— Давай-ка я проведу тебя до спальни. Ты совсем слаба. — Он протянул девушке руку.
— Надо же, какая забота, — еле выговорила Кристалина и тихо рассмеялась. — Когда я первые семь дней падал лбом об пол, тебя было не допроситься о помощи. Что это ты так, грехи замаливаешь?
Боремир, казалось, не услышал вопроса и молча поднял Кристалину на ноги, закинув её руку себе на шею.
Все эти прикосновения, беспокойство, ненароком брошенные не то ласковые, не то елейные слова, долгие взгляды. Всё это начинало настораживать и раздражать.
Он что-то задумал и подбивает клинья? Что-то серьёзное? Опасное? Или это всё игра? Кристалина достаточно наслушалась разговоров служанок о том, как он лестно заманивал девок в свою постель, и ей совсем не хотелось повторить их участь. Ну в самом деле, не мог же воевода в неё влюбиться, никак не мог.
— Ты так и не ответил на вопрос. Зачем всё это? Я имею в виду помощь и внезапно не гневливые слова в мою сторону.
Они вышли на улицу, и девушка вдохнула полной грудью. После духоты, пропахшей смолами предбанника, свежий воздух немного прояснил разум.
— Ну, просто так. Зачем мужчины помогают девушкам? — Боремир говорил как-то с заминкой, будто сам не верил своим словам, или Кристалине так хотелось думать.
— Вот и у меня такой же вопрос. Зачем мужчине мне помогать?
Боремир замотал головой, будто силясь сбросить невидимую пелену, а потом сказал с раздражением:
— Потому что ты ослабла. Я хочу довести тебя до спальни. В чём дело? Мне бросить тебя и уйти?
Кристалина стушевалась, но ей понравилось, что она хоть на мгновение, но смогла вернуть прежнего Боремира, готового оставить слабого умирать, если тот ему никем не приходится. От такого хотя бы знаешь, чего ожидать.
— Да просто странно это. То посылаешь на смерть, то за ручку ведёшь до кровати. Ты как-то переменился. Полюбилась я тебе что ли? — рассмеялась девушка, но смех вышел натянутым, поддельным.
Боремир дёрнулся, как от удара, отпустил руку Кристалины и серьёзно на неё посмотрел. Призывно хмыкнул.
— Следи за языком, дорогуша, — голос неприятно дрогнул на этом «дорогуша», — это просто помощь, а ты перегибаешь палку. Любить я умею многих, хочешь в этом убедиться и лично постоять в изножье кровати? Тогда засунь своё «полюбилась тебе» в самое срамное место. – Опять хмыкнул. – Это же надо такое сказать, полюбилась! Да я ни разу в жизни ни в кого не влюблялся. В меня вот другие да. Так что не надо мне тут... Ты слышишь меня? — словно опомнившись, громко спросил Боремир.
— Я-то слышу, — пробубнила Кристалина, пытаясь подстроить шаг под ходьбу Боремира, — но звучит всё это так, будто ты не мне, а себе это говоришь. Будто себя убедить пытаешься, не меня.
Боремир испуганно отстранился, вытер ладони о рубаху, торчащую из-под кирасы, и тихо запричитал, запинаясь:
— Я нет, я... Т-тебе... Чтобы не думала лишнего... — Трясущейся рукой он потёр шею и вмиг переменил взгляд и тон. — Думай, с кем говоришь, Кристалина. Я мог бы прямо сейчас бросить тебя на псарню за твой поганый язык, но взялся помочь. И, наверное, зря. Не стоило тратить время на... тебя, — последнее слово он выделил с особой ядовитостью и презрением, будто перед ним стояла не девушка, а очередной куриный воришка.
— Я подумала, что это смешно... — начала Кристалина.
— По-твоему, смеяться над чужими чувствами, даже если их и нет, это в порядке вещей? — приподняв бровь, перебил её Боремир. — Что же, я был о тебе лучшего мнения.
— Могу сказать то же самое о тебе. — Кристалина начинала закипать от злости, хотелось плюнуть воеводе в лицо. — Влюблённый человек не позволил бы себе оскорбления в сторону своей зазнобы. Так что в одном я с тобой согласна — ты не умеешь любить совсем. И тебя никто по-настоящему не полюбит, особенно я, недоумок.
Кристалина осеклась.
Боремир изумлённо застыл, зашевелил губами, буду силясь что-то сказать, но затем рыкнул и грубо оттолкнул от себя Кристалину. Мгновение, и мужчина умчался прочь со двора, разогнав детей и домашних птиц и бранясь настолько громко, что Кристалина на мгновение успела обрадоваться его уходу.
Наверное, зря она так с ним. Теперь ей точно спокойной жизни не видать.
Кристалина вскинула голову и посмотрела на блестящие наличники двускатных крыш терема в небесной голубизне. По краям сидели белые голуби — прямо как со стягов слетели.
— ...Так повелось у нас, что дом прозвали рыбацким теремом. А мы и не против. Всё равно ведь был самым высоким и красивым во всей деревне, — не без гордости сказала девушка.
— У вас это была обыкновенная изба, только большая. Терем — это когда много комнат. Эх ты, деревенщина, — в своей насмехающейся манере осадил её Боремир.
Прошло всего чуть больше двух седмиц, а будто бы целая вечность.
***
Сундук доверху набит одеждой, да такой мягкой, какой Кристалина от роду не носила — не было надобности. Платья разного цвета и пошива, сарафаны, ленты и кокошники. Ларец с усерязями и височными кольцами, наручами и гривнами.
Из всего тканевого вороха Кристалина вытащила и положила на колени рогатую кичку, обшитую жемчугом и россыпью крошек рубина. Сливки и вишня. Снег и кровь. Убор ладно сел на голову. Тонкие алмазные нити-рясны легко перестукивались у висков. Кристалина глянула на отражение в зеркале и болезненно улыбнулась.
Да уж, хороша красавица: по-мужски точёные нос и челюсть, белокожая настолько, что синие жилы просматривались, будто сквозь газовое покрывало невесты. Бледные покусанные до тёмной корки губы. Больной взгляд голубых глаз с пролёгшей под ними нездоровой синевой. А венчала всё это растрёпанная коса, благо, она не стала тоньше за это время. Кичка сидела на Кристалине как на свинье кокошник. Она сняла её и небрежно бросила на кровать, в сердцах пнула сундук, да так, что тот покачнулся и почти перевернулся набок.
Дура, чем ты вообще занимаешься, о чём думаешь? Тебя держат здесь как игрушку и используют против своих же братьев и сестёр по несчастью. Да, в своей горнице, да, без угрозы жизни. Промыслитель, боги, духи, как же это всё неправильно!
Но... Не об этом ли она мечтала, когда была многим младше? Богатый жених на слуху, красивый терем, сад за окном и чтобы такой, как был дома. Чтобы можно было посвящать время себе и колдовать без страха.
Разве Боремир не богат, не известен? Разве терем не был красив? Разве сад вокруг терема не раскидист и пахуч? Разве она не предоставлена самой себе большую часть времени? Разве она не колдует на глазах у людей да чтобы не получать за это камнями в спину?
Всё сбылось, что загадывала. Почему же ты не счастлива, девочка?
С головы Кристалина сняла очелье с усерязями, его ей подарил Боремир. Его — и то множество платьев и украшений. «Чтобы выглядела подобающе», — сказал он тогда. Сейчас Кристалине стало смешно — как же это было похоже на сватовство с приданым! Всё время после заступления на службу Кристалину преследовала тень замужества, и это давало ей полное право шутить, что Боремир её жених, сколько душе угодно, — хотя что-то ей подсказывало, что другого жениха и не будет.
Вместо подаренного украшения девушка вытащила другое, то, что она бережно хранила — тоже очелье, но к его расписной ленте Кристалина пришила те самые кольца, что когда-то нашла в русле Маковой. Сами же скроенные из трёх разных колец, прилаженных своими боками друг к другу, выстраиваясь в увеличивающийся ряд. Верхнее, малое кольцо, не имело нижней трети ровно так же, как и среднее не имело верхней, соединяясь друг с другом, точно собаки уткнулись раскрытыми пастями. Последнее, самое большое и самое далёкое от висков, обрастало по низу длинными острыми зубцами. Всё украшение было испещрено мелкими самоцветами, названия которым Кристалина нашла лишь в книжном хранилище: туманный агат, прозрачный хрусталь, перламутр, турмалин и синий содалит.
Девушка не знала, почему эти кольца были ей так дороги, ведь на ярмарках порой она видела украшения ярче и богаче, да и носить их начала только после ухода из дома. Наверное, будь она птицей, то непременно белобрюхой сорокой — такая любит всякие блестящие вещицы.
Опять вспомнилась мамина сказала про Ворона. Это была её любимая история: про птицу-бога, умеющего читать души людей, как книгу. Богиня Морана в смоляных перьях. Когда однажды Онагост по уши измазался в печной саже, то принялся махать руками, подражая хлопанью крыльев птицы, и догонять Кристалину, угрожая заточить всю её семью в дом на высоких брусьях до самой смерти.
«А затем прилетал Ворон. И тогда начинался пир».
Как там теперь брат? Хоть бы одним глазком взглянуть на то, что он уже отстроил. Ей мало было писем — хотелось встречи, объятий, громких и сбивчивых рассказов обо всём, что произошло и происходит. Поправлять его вечно топорщащиеся у висков прядки, тыкать в рёбра, чтобы смеялся, и получать тычки в ответ.
Кристалина вздохнула, достала из сундука заранее припасённые чернила, писало и пергамент и принялась выводить письмо.
Писала она не меньше лучины, выверяя и взвешивая каждое слово, пробуя на вкус звучание каждой фразы. Когда Кристалина закончила, то свернула пергамент, подхватила небольшой перевязанный мешочек и направилась во двор искать свободного мальчишку-гонца. Она могла бы отнести письмо на перегон ямщикам, как простые люди, но Кристалина же княжеская чародейка, так почему бы и не воспользоваться положением? Через мужчину — хотя скорее мальчишку, крепкие посыльные были заняты — быстрее и надёжнее, а уж если он сунет испачканный повидлом нос в пергамент — что скорее всего всякий раз и случалось, — то точно не станет докладывать Боремиру о подозрительных строках, в отличие от мужиков на гнедых лошадях.
К счастью, гонец нашёлся быстро — князь держал при себе нескольких сразу, и один обязательно в нужное время находился при тереме. Коротко объяснив, куда и кому передать пергамент с мешочком, Кристалина сунула в руку мальчишке несколько медяков, пообещав дать ещё столько же, если письмо прибудет к получателю до заката. Гонец радостно умчался к конюшне, а девушка устало и вместе с тем облегчённо выдохнула, предвкушая ответное письмо.
***
Ну что, братец, здравствуй. С прошлого письма прошло всего два дня, ну и пусть.
Мне совсем нечего рассказать, всё как и было, только колдовать получается всё лучше и быстрее. В этот раз у меня не шла кровь носом, это хороший знак. Может скоро смогу целые озёра колыхать одним пальцем. Потихоньку тренируюсь повелевать человеческим телом: одна кухарка обожгла руку до водяных волдырей, я их высушила, и теперь у меня есть ключ от голбца у кухни, могу брать столько пастилы, сколько захочу и когда захочу. Я и тебе завернула немного, гонец должен был передать туесок.
Боремир какой-то настырный стал, но он меня по-прежнему не обижает, по крайней мере не бьёт. Руками. Словами задевает, конечно. Но я его в этот раз вывела из себя. Пришёл заботливый такой, лобик потрогал, нет ли жара, помочь дойти хотел. Я испугалась и наговорила ему гадостей, что, мол, ты никого не умеешь любить. Он вспылил и ушёл. Как думаешь, он сделает что-нибудь со мной за это?
Гостя, как ты там? Что нового? Расскажи мне всё, про дом, торжище, людей наших. Страсть как скучаю по нашей деревне и дому. И тебе. И маме.
Кстати о маме. Мои попытки прорваться в темницу нагло пресекают, на все вопросы отвечают, что с ней всё хорошо. Но я уже полторы седмицы её не видела. Гостенька, я боюсь, что случилось страшное, очень боюсь. Попробуй сам ещё раз сходить, может, хоть тебя пропустят.
И скажи, была ли сломана печать на пергаменте? Не хочу, чтобы кто-то ещё его прочитал, хотя ничего особо тайного не пишу.
С нетерпением буду ждать ответа.
Кристалина.
Яблоня дрогнула под ударом кулака, сбросила последние, опалённые солнцем лепестки. Руки дрожали и слегка светились, чудом не поджигая пергамент. Онагост ещё раз перечитал строчки про темницу и хрипло выдохнул, дважды сложив бумагу.
Мама.
Да, он обязательно сходит, обязательно. И позже спалит вымесков, что заточили её в темницу, к лешевой матери. Но не сейчас, не сегодня.
Онагост шумно отпил из пузатой бутылки. На безумный миг показалось, что в стекле плещется бордовая жидкость. Вино? Нет же, откуда оно? Всего лишь отвар. Запасы почти подошли к концу, а лист с рецептом затерялся где-то в пепелище, и Онагост с ужасом ждал мгновения, когда опустеет последний пузырёк. Он замахнулся, швырнул пустую бутыль в дерево и схватился за голову, часто, поверхностно задышал. Резкий звук стекла на миг привёл в чувства, что в следующее мгновение снова потонули в ослепляющей боли. Стоило парню остаться одному, как приступы участились и даже стали прерывать и без того беспокойный сон. А спал Онагост донельзя мало, ложась далеко затемно и вставая засветло. Наверное, сон составлял какую-то ничтожную шестую-восьмую часть всего дня.
Ел он крайне редко и немного — не хотелось. Открыв туесок, Онагост действительно увидел розовую пастилу в сахарной пудре. От сладкого сливового запах его замутило, и парень отставил туесок подальше.
От постоянной работы руки покрылись жилами, щёки впали и потеряли румянец. Рубаха теперь некрасиво висела на худых, хоть и по-прежнему крепких плечах. Онагост писал, что не хочет тратить деньги на плотников, что ему проще самому выверить каждый брус и доску, потому с раннего утра до поздней ночи трудился над домом. За две седмицы он успел выстелить двойной пол и начать укладывать первый ярус терема, прорезая отверстия окон, — в этот раз он решил пристроить ещё и сени, которых, по непонятной причине, у прошлого дома не было. Рядом всё время крутился Полевик, то воруя золу для грядок — за которыми парень тоже успевал следить, — то принося мох для прокладывания между брёвнами.
Боль волнами накатывала, стискивала рёбра и горло. Голова предательски пошла кругом, перед глазами замерцала красная пелена. Спокойно, думал Онагост, не суетиться, скоро всё пройдёт, всё пройдёт, скоро...
Не проходило. Он слишком поздно нашёл снадобье, слишком долго терпел грызшую рёбра боль. Слишком много на него навалилось в последнее время, и он глушил эти мысли, постоянно занимая руки делом. Следовало себя хоть немного поберечь, но Онагост так боялся столкнуться со своими чувствами, а теперь они выжигали его изнутри, и он ничего не мог сделать.
В ушах стучала кровь. Наверное, он уже согнулся в три погибели, но Онагост не видел. Он лишь рвано дышал, царапая грудь. Когда боль немного отступила, Онагост всё же определил, что стоял сильно сгорбившись. Он попытался осторожно опуститься на траву, но ноги подкосились, и парень неловко упал, стараясь выровнять и без того поверхностное дыхание.
Дышать. За везение родиться огненным чародеем Онагост поплатился тем, что беспрепятственно могут делать все, но только не он. Закрытый на несколько рун-замков огонь выплавлял его лёгкие, потому что выхода ему не было. Сдерживать приступы помогали лишь отвары, но и тем нужно время, чтобы подействовать. Пить жёлтые и красные снадобья стало ежедневным условием для жизни. Для существования.
Онагост так сторонился мыслей о том, что происходило десяток лет до и произошло недавно, так старался их вытеснить, что теперь ему ничего не осталось, кроме как сполна пережить весь тот ужас, вероломно вырвавшийся из закрытых на дюжину замков, заколоченных досками уголков сознания. И он переживёт, главное, не сойти с ума.
Кристалина выспрашивала о слухах, но на вечорки Онагост не ходил с того самого дня, как его семью увели под ручки. Он не боялся кривотолков, но находиться среди развесёлой толпы ему было до странности противно. Противно видеть счастье на лицах тех, кто и рад был бы избавиться от красавицы Кристалины или крепкого улыбчивого Онагоста. Противно смотреть на подружек и побратимов, не удосужившихся даже поддержать, — конечно, были те, кто приходил к нему в первую седмицу, — любопытно ведь, что случилось. Но не более.
Мысли завертелись одна хлеще другой. Всё, что он видел лишь во сне, вновь обрело голос. Онагост повалился набок и сквозь стиснутые зубы простонал. Горло свело судорогой, он неосознанно попытался сделать вдох, но не смог и начал задыхаться. Руки слепо шарили по траве, вырывая её, свежую и молодую, прямо как Онагост. Господи, он же и впрямь ещё такой молодой и так мало прожил. Дайте сил, дайте ещё немного времени, и он всё исправит, только дайте ещё пожить. Онагост так не хотел умирать, что бы ни говорил бывало в порыве отчаяния. Не хотел умирать от своей глупости, от своей же силы, которую он мог бы и обуздать за столько-то лет, но боялся. Чего только боялся, дурак?
Онагост обхватил себя руками. Тихонько шептал что-то, сам не разбирая, что именно, а потом шёпот смешивался с криком. Казалось, что тело пронзают тысячи раскалённых до бела игл. Он судорожно хватал ртом воздух, но вдохнуть не мог.
«Я хочу жить... Дайте воздуха...» — било в голове набатом, сверкало алыми чернилами на вспыхивающем белым полотне. Он неловко выпростал руку, перевернулся на спину и почти выгнулся дугой — такой сильной судорогой сводило тело.
Мгновение, и Онагост провалился в липкую, душную тьму.
***
Житеслава уже поджидали за углом церквушки. По пути его остановила какая-то старуха с просьбой отмолить грехи, но Житеслав отмахнулся от неё. Он, конечно, понимал, что одеяние священника взятое там же, где и треклятая лампадка для телеги, делала его похожим на самого же священника или монаха, но спутать молодого сына знахаря с пресвятым отцом — вот уж позор! И менять рясу он не будет ни за какие коврижки, слишком уж удобной она была для трупных и лекарских дел, хоть рукава иногда приходилось закатывать по плечевой пояс; а сам подрясник Житеслав обрубил выше колен, чтобы больше походил на рубаху, да и в длинной одежде и штанах всё же жарко.
Боремир, обычно носивший одежду Белочника — а именно облачение под стать командиру отряда, — сегодня оделся скромнее. Значит, дело и впрямь важное, нужно было быть незаметным — насколько вообще беловолосый плечистый мужик у церкви может быть незаметен. Где он только нашёл эти порты и рубаху, будто с мёртвого снял.
Боремир махнул рукой, подзывая. По его губам Житеслав прочитал короткое «шевелись».
— Ну так, что за срочное дело? И зачем такая скрытность? — вместо приветствия сказал Житеслав. Здесь, у церкви, пахло ладаном и свечной гарью.
Боремир, казалось, засмущался, разом растеряв всю напускную грозность.
— Да я так, свидеться хотел...
— Свиделись. Я могу идти?
— Да погоди ты, — Боремир глянул на церковь, на прихожан, и махнул рукой в другую от них сторону. — Отойдём.
Не успели они сделать и пары дюжин шагов, как Боремир схватил Житеслава за локоть и развернул к себе лицом. Чёрные волосы растрепались, и Житеслав сдул их, мотнул головой. В ладонь ему ткнулся свёрток с печатью.
— Это письмо, — просипел Боремир. — Я хотел отправить его тебе, пока был в отъезде, но там такое написано... В общем, не хотел, чтобы кто-нибудь его вскрыл до тебя. — Он кивнул на свёрток: — Читай.
Житеслав сломал печать с голубкой и поднял ехидный взгляд.
— Вслух, что ли?
— Я тебе язык оторву, если вслух возьмёшься. — Боремир воровато осмотрелся, заприметил укромное место между старым, наверняка заброшенным срубом и часовней. — Вон туда пойдём. Там никого нет.
Кусты шиповника возле часовни успели расцвести и распушиться, хорошо скрывая своей листвой двух мужчин. Житеслав развернул письмо, скользнул беглым взглядом по первым строчкам и ухмыльнулся.
— Ха, написано прямо в твоей манере...
— Ты давай не отвлекайся. Это важно, — с серьёзным лицом отчитал его Боремир.
Житеслав глубоко вдохнул. Расцветший шиповник, нагретое солнцем старое дерево и — от его одежды — сладкие травы.
Житеслав, дружище, как ты? От тебя давно ни словечка не слышно. Ты же ещё жив, шельмец?
Как ты мог понять по кривым торопливым строчкам, у меня сильно трясутся руки. Не вини меня за это, просто читай внимательнее.
Я ужаснулся, когда понял это. Житеслав, Славушка. Я влюбился. Безоговорочно и бесповоротно. В кого, спросишь ты? В Кристалину. В, мать его, чародейку. Чудовище и нечисть. Дружище, ты понимаешь, как я влип? Мне страшно, безумно страшно за себя и — вот ужас — за неё тоже. Что же теперь будет?
Я знаю, что это не лечится никакими травами и заговорами, а для меня любовь именно сродни страшной болезни. Житеслав, пожалуйста, если что-то пойдёт не так, приложи меня головой об печку, да покрепче.
Надеюсь, что не натворю дел раньше времени.
Боремир.
Житеслав поднял удивлённый взгляд на друга, лицо его вытянулось.
— Боремир, дружище, скажи мне, до твоей просьбы в письме тебя об печку не прикладывали? — вкрадчиво и с тревогой произнёс он.
Боремир покачал головой, и Житеслав продолжил:
— Ну ты подумай, вспомни, вдруг где-то бился. Я не понимаю, ты ли это? Не подменили?
Боремир виновато улыбнулся как нашкодничавший мальчишка. Боги, он ведь ни капли не врёт, и это не глупая шутка. Его друг действительно писал честно.
Боремир рассказал, что много думал над этим, непозволительно много. Пытался заглушить чувства другими девками в мыльнях и корчмах, но во сне всё равно видел лицо в обрамлении русых волос, хотел ощутить на себе прохладные белые руки. И не затащить в постель, нет, а обнять и окружить заботой и лаской.
— Понимаешь, она единственная, кто не пытался лебезить передо мной, — сказал Боремир. — Не строил из себя послушную девушку, даже несмотря на то, что она — чародейка, а я — командующий головорезами. Она говорит то, что думает, и делает то, что считает нужным, подчиняясь лишь маломальским законам и выполняя основные приказы. Она, она, она!.. — передразнил Боремир самого себя и раздосадованно топнул ногой: — Леший тебя побери, со мной такое впервые.
Боремир окинул Житеслава придирчивым взглядом и поправил чёрный ворот, завернувшийся расшитыми краями внутрь. Вздохнул и прижал Житеслава к себе, похлопав по спине.
— И что прикажешь мне делать?
— Возьми её силой, и дело с концом, — глухо отозвался Житеслав, зажатый слишком крепко. — Заставь быть с тобой.
— Не-е-ет, — лениво протянул Боремир, — не хочу.
— Как это, не хочу? — удивился Житеслав.
— Понимаешь, — мечтательно начал Боремир, — она такая... милая. Нежная. Чу́дная. А я, — он насмешливо фыркнул, — это я.
— Так на тебя же любая девка готова прыгнуть. — Житеслав неуклюже попытался высвободиться из медвежьей хватки, но только крепче увяз, и теперь пыхтел от досады.
— Но она не любая. — Боремир схватил его за плечи, заглянул в глаза и красное лицо и упрямо проговорил: — И я хочу её завоевать.
Житеслав замер, опешив, а затем, запрокинув голову, расхохотался, прямо как отец. Боремир, казалось, обиделся.
Боги, Промыслитель, только посмотрите, что сделала с его другом эта девчонка! С его наглым, самоуверенным, вспыльчивым другом. Он собирался завоевать сердце девушки. Завоевать, боги! Этот ли человек ещё месяц назад забывал про женщину, если она теряла к нему хоть каплю интереса? Смех да и только. Может, это действительно шутка? Боремир сейчас посмеётся вместе с ним, да?
Нет. Его друг всё так же стоял перед ним, растерянный и, наверное, оскорблённый этим хохотом.
— Ты и любовь — это же разные вещи! — вскричал Житеслав и снова расхохотался, но уже не от веселья, а от нервов. Боремир поспешил заткнуть ему рот ладонью.
— Порадовался бы лучше. Кто из нас трещал, что я кабелина несносная? — дёрнув бровью спросил Боремир.
Житеслав извернулся и густо сплюнул пыль с чужой ладони.
— Не знаю, какая-то из твоих баб наверное? — И со смешком пробурчал: — Мне-то всё равно на твои хотелки. И на свои.
— Чудесненько, оно и к лучшему. Я не ревнивец, но и своего не отдам. — Боремир шутливо пригрозил кулаком и улыбнулся. — Где твоя радость? Друг наконец взялся за ум. А то так бы и помер, не познав любви.
Житеслав недоверчиво прищурился, скрестил руки на груди. Ему не понравились последние слова о смерти, сказанные будто нарочно беспечно. Зная о любви к риску и острый язык друга, можно было бы подумать о преждевременной гибели, и явно не ошибиться.
— А ты что же, помирать собрался? Руки на себя наложишь?
— Нет конечно, ты что. Моя смерть будет благородной. — Боремир выпятил грудь. — Я умру в бою. Паду как бравый воин. Лет эдак через шесть десятков.
Звать замуж Кристалину Боремир пока не хотел. Попробует поухаживать за ней, а там как пойдёт. Девчонка к нему холодна, как студёная вода, так надо бы растопить её сердце. Только хорошая ли пара будет: охотник на чародеев и чародейка? Церковный духовник не одобрит, как и князь – выгонит взашей свою правую руку, и дело с концом. А нового воеводу, командира Белочников, найти не составит труда, завистников и желающих даже сейчас хоть отбавляй.
От мысли, что Житеслав будет свежевать тушку своего друга, его затошнило. Рёбра обвил обруч вины и страха, в носу защипало. Он вдруг подскочил и крепко стиснул в объятия Боремира. Нет, он не позволит повториться тому вновь, не позволит умереть его другу так рано и лежать на столе перед отцом. По щеке скатилась слеза, и Житеслав незаметно стёр её плечом.
— Ну полно тебе, а то я задохнусь, — просипел Боремир и мягко отстранил Житеслава, но затем с тревогой вгляделся в лицо. — Что с тобой? Что вдруг случилось?
— Да, н-ничего, — отмахнулся Житеслав и стёр слезы. — Просто дорог ты мне. Не хочу, — голос дрогнул, — потерять...
— Ох, ну лапушка моя... — Боремир прижал к себе Житеслава, потрепал по голове.
— Не называй меня так, я не твоя зазноба, — пробурчал Житеслав.
— Правильно, ты лучше зазнобы. Женщина не принесёт мне холодного пива наутро после гуляний.
— И не даст тебе отваров, чтобы девка не понесла.
Боремир всё баюкал Житеслава в объятиях, а тот не знал, от чего его разрывает больше: от счастья или стеснения. Хорошо, что от чужих глаз их скрывали кусты шиповника, иначе Житеслав бы сгорел со стыда, увидь кто-то, как его, льющего слёзы здорового лба, успокаивает такой же здоровый лоб.
***
За две седмицы Кристалина научилась держать себя как госпожа, хоть и не ходила на княжеские приёмы, да её и не звали. Кристалина степенно вышагивала по проходам женской части терема, держала осанку, вскидывала подбородок, а сама чуралась своего отражения в таком виде. Какая уж из неё госпожа? Деревенщина она и есть деревенщина, и никуда её происхождение кметки не денется, хоть сколько живи среди высших сословий.
До ушей донеслось шуршание платьев и тихий шёпот. Кристалина никогда не собирала кривотолки, но день выдался настолько скучным и неприятным, что не воспользоваться такой возможностью — просто безрассудство. Кристалина тихонько прошла к приоткрытой двери, из-за которой доносились смешки, и осторожно прижалась к ней, заглянула в узкую щель. Горница была тёмной, света из окна едва хватало днём, а сейчас наползал вечер, и большая жировая свеча отбрасывала тени на стену.
— ...Очередную зазнобу себе. — Кто-то захихикал, прикрыв рот ладонью, судя по приглушённому звуку.
— Да ну. Не боится подцепить что-то?
«О ком это они?»
— Ой, да у него дружок этот, духовник который, отварчика даст, и всё, недуга как не бывало. — Кто-то шумно отпил. — А знаешь, кто эта блудница? Не знаешь? Да ты что-о! — протянул женский голос. — Чародейка наша придворная.
Сердце пропустило удар. От неожиданности Кристалина чуть не навалилась на дверь. Они что, говорят о ней? Но чья она зазноба?
— Ба-а-а, на обычных девок уже кровь не бежит быстрее? Ох, скольких же он обрюхатил, небось, каждое третье дитё евонное. Опустился наш воевода, охотник белочку обуздал.
Воевода, охотник... Боремир?
— Да кого он обрюхатил-то.
— Дак Соньку, сестру ямщика нашего.
Тень от свечи потянулась к кувшину и плеснула себе что-то тёмное. Запахло кислыми ягодами. «Вино».
— Тю, так она ж с Кривом гуляла на длинную зимнюю ночь, вот и ходит брюхатая. Ты что, не слышала? Ай, голова бестолковая. А к чародейке он только подбирается. Слышала я разговор его с лекарем...
— ...Духовником, — перебила одна служанка другую.
— Да одной Навью тварью намалёваны. Разница-то какая? Про одного и того же говорим. Слышала разговор я. Он размышлял, как к девке приблизиться и в кровать затащить. А кровать-то у него ух какая мягкая...
— Да ты-то откуда знаешь, дура? Небось сама недавно из-под него вылезла, вот и зависть берёт, что он к девке пристал.
— Посмотрю, что ты скажешь, когда она праздная придёт через половинку колеса года. Не просто же так он её, деревенскую чародейку, затащил в терем. Представить себе не могу, что надо было сделать и сколько заплатить, чтобы она здесь осталась. Князь не любит чародеев.
— Князь, может, и нет, а вот жёнушка его новая с этой, как её... Ух, не помню... Ну, Восточного берега в общем. С Среброгородского княжества. Она про сынишку мёртвого знает, да только ей-то что. Лишь бы поскорее князя удар хватил, она всё княжество себе и приберёт.
— А может, Боремир хочет, чтобы чародейка князю другого ребёнка родила? А что, она молодая, крепкая, а князь уже настолько старый, что костями гремит. От такого разве что ворожея понесёт. Вот они и нашли ему эту самую ворожею...
Кристалина отшатнулась от двери. Достаточно с неё. И так услышала столько, что до осени не отмоется. Кристалину колотило от страха, под рёбрами стало холодно. Надо уходить, пока её не заметили.
Боги, так вот что всё это значит! Боремир просто хотел воспользоваться ею, а потом бросить одну с дитём. Нет, Кристалина не позволит тому случиться. Пусть её хоть сейчас на улицу выкинут, но она не позволит. Хоть один шаг в её сторону, и его сердце лопнет от крови. И больше она не примет его подачки.
Как же так, как же так. Когда же она успела свернуть не туда? Когда её жизнь превратилась в это?
Кристалина устала, так устала быть сильной, в первую очередь для себя самой, ведь больше некому. Брат далеко, с мамой ничего не ясно, постоянный надзор этой поганой стражи и выпады Боремира. Ещё днём Кристалина думала, что всё хорошо, она всё пережила и переосмыслила, но стоило начать сгущаться сумеркам, как страх и слабость снова накрыли с головой.
Нет, хватит, надо думать, как выбираться из этого кошмара.
Ещё раз. Ночью все выходы охраняются, днём ворота двора под стражей, значит, проскользнуть незамеченной не выйдет при любом раскладе. Но что если прикинуться чужачкой? Накинуть плащ, нарисовать на лице тонким слоем сажи морщины и сажей же окрасить волосы у лба и висков или просто спрятать их под капюшон... А если её хватятся раньше, чем она успеет пересечь стены города? Тяжело...
А когда Боремир поймёт, что она сопротивляется его ласкам, не начнёт ли он действовать немедленно, чтобы не растрачивать время на ненужную милость? Если Боремир прижмёт её где-нибудь в углу и... Боги, нет. Чем она будет защищаться? Сможет ли зачаровать воду или что-нибудь ещё до того, как он успеет сделать ей больно?
Промыслитель, все против неё и всё против неё.
Только сейчас Кристалина осознала, насколько оказалась слаба, и от этой мысли навернулись слёзы. Пришла сюда с твёрдым желанием быть сильной? Как бы не так! Она всё та же хрупкая девушка, всё та же глупая деревенщина, и Кристалина ничего не сможет сделать против воинов и юрких служанок, насколько бы ни была хитрой и изворотливой. Да что там, она даже не может победить в простой словесной перебранке! Что это, теряет хватку или заточение её сломило? Мельчаешь, девочка. Раньше была бойкой и дерзкой, дышала жизнью и вдыхала её в других, — а сейчас что? Пустая шкурка, безжизненные остатки прежнего бешеного потока.
Кристалина отчаянно хотела быть похожей на маму. На женщину, которая ни разу не упрекнула ни её, ни Онагоста за провалы, неудачи, неосторожность. За то, что они могли сделать и что сделали. Мама стойко переносила все тяготы и никогда ничего не ставила детям в вину.
А Онагост... Он всегда пытался казаться жёстче, сильнее. Говорить упрямо и грозно, чтобы никто не смел сомневаться в его твёрдости. Жаль только, что у него это редко получалось. И как же жаль, что он пытался действовать через то, чего нет, а не обычное красноречие. Оно могло бы много раз сыграть на руку.
У всех есть, чему поучиться, но у Кристалины не получалось. Два примера, и оба недостижимы для неё. Какая же досада. Она так и умрёт в своей девичьей глупости. Зачахнет в этом тереме, как цветок в подполе. Диковинная птица в золотой клетке, не иначе. А таким птицам суждено лишь недолго пожить и красиво умереть...
Нет, хватит. Надо срочно что-то делать. Нельзя сидеть сложа руки, это может обернуться самым плохим исходом. Стражники рыщут по окрестностям, отлавливая — если ещё были — чародеев с помощью искрящейся воды. Той самой, которую она ежедневно зачаровывала в бане. Боги, Кристалина сама, своими собственными руками создавала оружие против своих братьев и сестёр! Она ещё ужаснее, чем охотники, — истинное чудовище, предатель. А с предателями разговор короткий. Сколько же ещё бед Кристалина принесёт этому миру. Но надо положить этому конец. Нужно только раздобыть нож или удавку, или задушить себя своими же чарами...
Её бросило в жар и в холод от этой мысли, а собственные руки показались чужими.
Девочка моя, думала Кристалина, ну куда тебе взрезать себе глотку. Вспомни, сколько ты уже успела пережить, переживёшь и заточение.
Хранилище книг дохнуло на неё привычными запахами воска и старого пергамента. Кристалина влетела и захлопнула дверь. Было темно, и она зажгла свечу кресалом — а Онагост мог просто зажать фитиль указательным и большим пальцами, и огонёк сам начинал плясать.
Деревянные полки от пола до потолка, такие высокие, что приходилось подставлять лестницу. Свитки старые, некоторые рассыпались прямо в руках, и Кристалине хотелось верить, что в них не находилось ничего, что ей помогло бы. Кристалина шла всё глубже и глубже, вдоль полок и стопок книг и свитков. Свеча потрескивала, но от неё было всё равно меньше света, чем от окошек под потолком и в самом конце хранилища. Её огонёк нужен был лишь для точного рассмотрения надписей на корешках. Золотая буквица плыла перед глазами, и названия сливались в единый хоровод.
Среди прочих рукописей ярко-алым выделялся корешок со странной надписью «Пиры по месяцеслову». Её Кристалина и взяла, решив, что читать про пиршества сейчас было бы как нельзя лучше, чем про ящеров, ворующих девок и поджигающих деревни.
Сев за стол и привычным зачарованным движением руки убрав лишнюю сырость из своего угла, Кристалина принялась нарочито медленно перелистывать страницы, которые, как и всегда, оставляли на пальцах неприятное ощущение мучной плёнки и сухости. На удивление никаких пиров в книге не обнаружилось, зато чьим-то красивым почерком были выведены дни самых разных празднеств. Коляда, Купала, Громница, — между строк кто-то приписал новые праздники, как например принятие закона сжигать искрящихся или ночь Огнёвицы.
Тоже мне праздник, думала Кристалина.
В ближайшие дни должен был пройти незнакомый Кристалине сбор ведьм, чтобы провести свои особые обряды. Место сбора всегда было одним и тем же, как раз недалеко от ворот города, в прилеске. Кристалина припоминала, что видела там выжженный круг, и видимо, от костра.
Обряд ведьм. Старшие женщины собирались со всего Станецка и с ближайших городов и деревень, чтобы поклониться Моране и отдать жертву, — и верно, кому ещё поклоняться, если не Смерти?
В голове сама собой рождалась задумка, пугающая своей расчётливостью и кровожадностью, но другого выхода не было. Надо спасаться самой и спасать брата, иначе их всех сгноят, и будто и не было никогда чародеев.
С дикой радостью и предвкушением свободы Кристалина захлопнула книгу и вернула на место. В голове гудело от мыслей и прикидывания, во что ей это всё выльется и как, собственно, Кристалина будет выполнять задуманное.