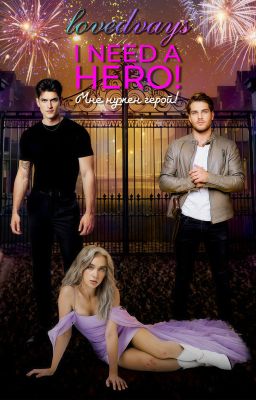Глава 24 Марк
Не раздумывая ни секунды, я скомандовал:
— Залезай!
Подхватив Веронику, я почти закинул её на кованые ворота, сплетённые в причудливый узор, словно нарочно созданный, чтобы мешать беглецам. Пёс был уже совсем близко — его тяжёлое дыхание, подобное приближающейся грозе, вибрировало в воздухе.
Даже когда она уже стояла наверху, неуверенно переставляя изящные ножки, подол её платья всё ещё касался земли, словно нарочно дразня разъярённого добермана.
— Прыгай! — крикнул я, уже оказавшись по ту сторону ограды. — Прыгай ко мне, скорее!
Её глаза — распахнутые, полные ужаса — метались между мной и направлением, откуда неслось злобное рычание. В какой-то момент она просто зажмурилась и с отчаянным криком прыгнула.
Она рухнула на меня с грохотом, словно лавина, — гипюр, слои ткани, холодные руки, вцепившиеся в плечи. Мы повалились на промёрзшую землю, и я оказался окутан ею — её страхом, её запахом, её сердцем, которое колотилось, как у раненой птицы.
— Марк? — прошептала она, всё ещё дрожа от пережитого. — Марк!
Её руки лихорадочно откинули ткань с моего лица, и, увидев мои глаза, она облегчённо выдохнула — тяжело, прерывисто — а затем уронила голову мне на грудь, прильнув всем телом.
Я чувствовал, как жизнь пульсирует в нас обоих — горячо, бешено, громко. Боже мой, я не ощущал себя таким живым уже лет десять. Всё остальное — привычное, серое, выцветшее — растворилось. Осталась только она. И я.
Но реальность ворвалась, как холодный ветер. Я привстал и хрипло выдохнул:
— Зачем?..
Вероника подняла голову, непонимающе глядя.
— Зачем ты побежала? — повторил я, отмечая, как на ней сидит этот безумно испорченный, но всё ещё красивый наряд. Вся ситуация казалась нелепой.
Вероника вдруг захохотала. Сначала тихо, почти беззвучно, потом громче. Смех её нарастал, переходя в какую-то безумную истерику. Она смотрела на жалкий обрывок ткани, который когда-то был подолом её платья. И я тоже не выдержал — заразился этим безумием и рассмеялся вместе с ней. Мы хохотали, словно сбежавшие, застуканные владельцем подростки, укравшие с соседнего участка яблоки. А где-то там, за забором, сидел доберман. В зубах — лоскут лавандовой ткани, который ему, как ни странно, даже шёл. Пёс продолжал рычать, но в его взгляде уже читалось: «Ладно. Сегодня вы победили».
— Почему ты такая упрямая... — сказал я, скорее себе, чем ей, помогая ей подняться с земли.
— О, а что бы ты сделал? Ты думаешь, в этом элитном районе живут собаки-дипломаты, с которыми можно договориться? Это был адски большой пёс, а я боюсь их с детства!
— Это же элементарное правило: не бежать, когда видишь собаку, это только провоцирует её, — я посмотрел на девушку, которая скрестила руки на груди и с вызовом спросила:
— Ты же в курсе, что это частная собственность? Мы вломились на чужой двор!
— Этот дом уже год как продаётся, и здесь никто не живёт, — ответил я, направляясь вглубь двора.
Веронике ничего не оставалось, как идти за мной следом, кутаясь в короткий полушубок.
Табличка со словом «Продаётся», облезлая и поблёкшая, всё ещё цеплялась за своё место. В этом доме когда-то жил мой однокурсник с отцом, который, не пережив утраты, уехал в Штаты, поставив дом на продажу. А его отец прожил здесь в одиночестве меньше года. После развода он так и не смог выбраться из пучины отчаяния, и как ни пытался мой однокурсник вернуть его к жизни, всё было тщетно. Депрессия и нежелание жить забрали его на небеса. А дом так и остался стоять, застывший в ожидании новых хозяев.
Я бывал здесь не раз и знал, где припрятан запасной ключ. Надежда теплилась, что он всё ещё на месте — в шкатулке, замаскированной под декоративный камень. Хотя, казалось бы, в районе, где каждый угол просматривался камерами, не стоило опасаться ни вандалов, ни воров. Здесь обитали лишь порядочные и уважаемые люди.
Пока я ощупывал декоративные камни у засохших клумб, Вероника, дрожа, топталась на месте и оглядывалась по сторонам. Вечерний холод уже пробирался под одежду, а после выброса адреналина тело чувствовало его особенно остро.
— Есть! — мелькнуло в голове, когда мои пальцы нащупали маленький медный ключик от задней пристройки. Девушка с любопытством наблюдала за моей манипуляцией — открыванием двери в чужой дом.
Я вставил его в замок, и дверь поддалась с тихим щелчком.
— Заходи, — сказал я, отворяя дверь и приглашая девушку войти.
Она посмотрела на меня с лёгкой опаской и любопытством, как будто в этот момент поняла, что я — не совсем тот, за кого себя выдаю. Но холод делал своё дело, и, быстро прошмыгнув в дом, Вероника даже не поинтересовалась, чей это дом и откуда у меня ключ. Она просто была рада хоть немного согреться.
Внутри царила гробовая тишина и запустение. Всё было на своих местах, как будто хозяин вот-вот вернётся — и никто не осмеливался что-то тронуть. Пыль, словно ткань времени, покрывала мебель. Комната дышала пустотой и затхлой памятью. Вероника, не раздумывая, прошла в гостиную. Она выглянула в окно. Пёс всё ещё был там. Он улёгся, положив лапы на лоскут фиолетового платья, будто хвастаясь трофеем.
— Возьми, — я протянул ей тёплый, хоть и запылённый плед. — Придётся подождать. Может, он уйдёт сам.
Когда её ледяные пальцы коснулись моей руки, я понял, что дело серьёзное. Нужно было её согреть, но кроме старого доброго способа, ничего в голову не приходило. Я отбросил назойливые мысли и попытался мыслить рационально. Камин не затопишь — дров нет, значит...
— Побудь здесь. Я скоро, — прошептал я, отворачиваясь.
Она вцепилась в мою руку. Словно маленький ребёнок, застрявший между паникой и доверием.
— Не бойся. Я закрыл дверь. Мы одни.
Она отпустила меня, не говоря ни слова, и, поджав ноги, села на диван.
Электричества, конечно же, тоже не было. Лишь тусклый свет уличных фонарей проникал сквозь тонкую тюль, едва освещая огромную комнату. Я достал телефон, включил фонарик и направился на кухню.
Открывая шкаф за шкафом, а их было не счесть, я искал хоть что-то, что могло бы нас согреть. Когда-то однокурсник хвастался винной коллекцией своего деда-винодела. В доме стоял особенный, благородный дух старых бутылок, но сейчас не было ни единой. Видимо, растащили родственники после поминок или, что вероятнее, выпили сами. Когда я понял, что эта затея проваливается, в голову снова кралась грешная мысль... Но удача всё же улыбнулась мне.
В самом дальнем углу ящика, на самом дне, притаилась одинокая бутылка с бордовой, почти чёрной жидкостью. «Надеюсь, вино не испортилось», — пробормотал я. Сделал глоток. Это вино было именно таким, каким я помнил его с дружеских посиделок, когда, попыхивая отцовскими папиросами, мы мечтали о будущем. Крепкое, но согревающее.
Под потолком висели бокалы, но они были покрыты таким слоем пыли, что я даже не стал их снимать. Да и воды поблизости не предвиделось. Я вернулся в гостиную с бутылкой в руке. Вероника закуталась в плед так, что из него торчал только её взъерошенный лоб. Она дрожала, словно замёрзшая птица.
— Это странно, но... — я сел рядом на край дивана, чувствуя, как старые пружины скрипят под нами. — Не подумай, что преподаватель хочет напоить студентку... но это поможет согреться.
Она смотрела на бутылку с тем же выражением, что и на добермана — подозрительно. Но всё же взяла. Сделала глоток. Ещё. А затем наконец заговорила.
— Чей это дом? — голос Вероники звучал уже более уверенно и расслабленно.
— Моего однокурсника.
Она кивнула и ослабила хватку, в которой до смерти сжимала ткань пледа. Я заметил, как плед соскользнул с её плеча, обнажив тонкую шею и изгиб ключиц. Свет фонаря мягко скользил по её коже, делая её почти светящейся. Я сглотнул и отвернулся, стараясь не смотреть на этот участок её тела, и тут же перевёл взгляд на её колени в ссадинах. Грязные, кровавые, распухшие от холода. И ладони — сбитые.
— Подожди, — выдохнул я и встал, чтобы достать из кармана пальто флакон перекиси и упаковку с ватой.
— А ты ещё и доктор, — слабо усмехнулась Вероника, но не сопротивлялась, когда я опустился на колени и мягко развернул её ногу.
— Тихо, сейчас щипать будет, — предупредил я.
Она сжалась, когда холодная перекись коснулась кожи, и тонко зашипела. Я промокнул рану ватой, аккуратно, бережно, словно она была фарфоровой, не забывая дуть на раны.
Затем — вторая коленка. Молча. Я чувствовал, как она напряжена, как хочет пошутить, уколоть, отмахнуться, но не делает этого. Доверяет. Лишь время от времени делала небольшие глотки из слегка пыльной бутылки, следя за каждым моим движением.
Она просто смотрела на меня. В её глазах плясали искорки, в которых я читал интерес. Именно так она смотрела на меня при первой встрече. А может... я всё это придумал, и вино всё-таки испорчено, и это его последствия?
Потом я взял её руку и легонько развернул. Ладонь была сбита не так глубоко, как колени, но даже с такой раной она не смогла бы безболезненно писать мои лекции.
— Не надо, — прошептала она, но я не отступил.
— Надо.
Я обрабатывал каждый палец, каждую царапину, чувствуя, как она всё больше расслабляется. Когда я закончил, она не отняла рук. Наоборот — задержала мою ладонь в своей.
— Спасибо, — тихо сказала она. Без иронии. По-настоящему.
Я посмотрел ей в глаза. И понял, что, если сейчас не отвернусь — всё изменится. В этой темноте, на этом диване, в этом забытом Богом доме. Всё.
Светлый локон лежал на её левой ключице, колыхаясь от её дыхания, как шёлковая лента на ветру. Всё происходило будто во сне — медленно, густо, нереально. И прежде чем я успел остановить себя, мои пальцы уже тянулись, сдвигая прядь, касаясь её кожи и чувствуя тепло, пульс, изгиб тонкой кости под подушечками пальцев. Она даже не дёрнулась. Только смотрела. Её глаза были неподвижны, молчаливы, но в этой тишине было больше смысла, чем в сотне слов. Я понимал, к чему это ведёт. И всё же убрал руку.
Проглотил сухой ком в горле, словно мог вместе с ним заглушить нарастающее желание. Но тут же осознал страшное: я вспомнил о Лине и... ничего не почувствовал. Ни вины. Ни боли. Ни даже слабой тени сожаления. Пусто. И это было ужасно. Где-то там, за окном, сидела причина нашего безумного вторжения в дом. Я должен был злиться. Хоть на кого-нибудь. Хоть на себя. Но... я наслаждался этим моментом. Слишком сильно.
Вероника сделала ещё один глоток вина, чуть привстала и поставила бутылку на пол. Её платье задралось, оголяя скрещённые ноги — женственные, изящные. Я даже не смотрел — я боролся. Боролся с тем мужчиной, который хотел наклониться и просто провести ладонью по её колену, подняться выше, почувствовать тепло её кожи. Но вместо этого уставился в пол, будто ламинат вдруг стал самой захватывающей вещью в комнате.
Она подалась ближе. Я чувствовал её дыхание — прерывистое, будто сердце у неё билось на взлёт. Она смотрела на меня, изучала — не так, как раньше, не с любопытством, не с робостью. В её взгляде была смелость, дерзость и жажда. А потом...
Я почувствовал её руку у себя на затылке. Пальцы легко скользнули в мои волосы и начали медленно их перебирать, отчего я закрыл глаза и... умер. Провалился в бездну, в эту тишину, в это прикосновение, в это «наконец-то». Вот чего мне так не хватало. Ни признания. Ни верности. Ни стабильности. Нежности. Простой человеческой нежности. Вот чего не было в Ангелине, но было в ней. В той, которая через это простое прикосновение пробиралась в мою душу. И я пропал.
Когда открыл глаза, она всё ещё смотрела. Её взгляд — дрожащий, молящий, будто просил меня не отстраняться, не уходить, не разрушать то, что вот-вот могло произойти. А когда она облизнула губы... медленно, с едва уловимым напряжением... я уже не мог не понять, чего она хочет. И я хотел того же. Но всё ещё пытался бороться.
Взгляд метался от её губ к глазам, от глаз обратно к губам, и каждый этот поворот был пыткой. Меня это мучило. Я будто гладил её этим взглядом. Исследовал, ласкал, но не касался. Она приоткрыла губы. Медленно. Соблазнительно. Пухлые, влажные, с каплей вина в уголке. Только идиот отвернулся бы. Только святой ушёл бы. А я не был ни тем, ни другим.
Собрав остатки воли в кулак, я держался до последнего. Но когда она, приложив чуть-чуть силы, потянула меня за затылок к себе — между нами остались всего два, может, три сантиметра — я не выдержал.
Я впился в её губы. Голодно. Отчаянно. И она отозвалась моментально — выдохнула, словно я дал ей глоток воздуха, которого ей не хватало. Мы задыхались. Я углубил свой поцелуй, жадно впиваясь в это маленькое нежное существо. Мы забыли, как дышать. Этот поцелуй отнял у нас всё: контроль, осторожность, границы. Я взял её за волосы, мягко, но твёрдо оттянул голову назад, и она выгнулась, выдыхая стон мне прямо в губы. Это была последняя капля.
Я навис над ней, как над добычей, и внутри меня рухнул ещё один незримый барьер. Вероника была очень хрупкой на вид, нежной, но очень страстной внутри, и я разрывался между этими составляющими, пытаясь понять, какая моя сторона больше ей подойдёт. С такой силой меня к себе не прижимала ни одна девушка, словно я был всем для неё, словно я был щитом, который спасёт её от стрел. Я в одну минуту уложил её на спину, а сам навис над ней, не отрываясь от её губ, ну, может, только на несколько секунд, когда покрывал поцелуями её шею. Меня несло. Мир перестал существовать за её пределами. Только она, я и дыхание, затаившееся на грани, дрожь сладостного предвкушения.
Лихорадочно, словно продираясь сквозь заросли, я освобождал её от многослойного плена платья и, наконец нащупав лодыжку, повёл пальцами вверх по внутренней стороне бедра, всё выше, к самому сокровенному. Она изгибалась под моими ласками, как стебель под порывом ветра, запрокинув голову и закрыв глаза, — в этом безмолвном экстазе она была прекраснее всего.
Я не спрашивал, лишь тонул в нахлынувшем чувстве, упивался властью и страстью, даря наслаждение нам обоим. Ещё немного, и я бы пал, сдался на милость вожделения, но словно ушат ледяной воды обрушился на меня, когда мои пальцы, уже пробираясь под кружевную кромку трусиков, коснулись её кожи, и она прошептала то, что заставило меня мгновенно протрезветь:
— Я никогда не... — её голос прозвучал слабо, почти неслышно, словно не ей, а самой себе. Она задержала мою руку на своём животе, дыша тяжело, прерывисто. В её глазах застыл испуг.
Мир рухнул.
Я отдёрнул руку так резко, словно коснулся огня. Не просто отстранился — вскочил, будто меня ударили током, и метнулся к окну. Слишком быстро, слишком громко. Она осталась лежать на диване, наполовину укутанная пледом, с ошарашенным, уязвлённым взглядом.
Я был последней скотиной. Не потому, что целовал свою студентку. Не потому, что хотел её так, как не хотел ни одну. А потому что, вспоминая Лину, я не чувствовал ничего. Ни боли, ни раскаяния, ни даже мимолётной жалости.
Боль была другой. Я причинял её здесь и сейчас — Веронике. Девушке, которая смотрела на меня с доверием, готовностью, тёплой, обжигающей нежностью. Она была готова отдаться мне здесь, в чужом доме, на диване, тому, кто с самого начала был нечестен с ней. Я пытался, я держался от неё подальше, я предупреждал... Но сейчас я лишь жалкий трус, ищущий оправдания своей слабости. В одно мгновение я причинял боль сразу двум женщинам.
— Это... из-за того, что я девственница? — голос её дрогнул, но она старалась говорить твёрдо.
Я застыл.
— Нет, — выдохнул я, не поворачиваясь. Не мог.
— Это из-за твоей репутации? — продолжила она. — Из-за того, что я... твоя студентка?
Глупышка. Милая, наивная глупышка... Как же ты далека от причины.
Я почти рассмеялся сквозь отчаяние. Эти детали — студентка, возраст, статус — они ничего не значили в сравнении с той бездной, что разверзлась между нами. Она волновалась, что оттолкнула меня своей неопытностью... а правда была куда хуже.
Мне нужно было сказать. Но как? Как сказать это и остаться человеком в её глазах? Как признаться, что влюбился в ту, кого должен был защищать, а не обманывать?
Я знал: если она уйдёт сейчас, не простит, отвернётся — будет права. И я приму это. Потому что заслужил.
Когда я, наконец, осмелился обернуться, она сидела на диване, плотно укутанная в плед, будто пыталась спрятать не только тело, но и душу. Только её босые ноги касались пола. Я молча подошёл, сел на корточки, чтобы быть на уровне её взгляда, но она его избегала. Я чувствовал, как сжимается сердце, и спокойно, насколько мог, сказал:
— Пойдём. Я отвезу тебя домой.