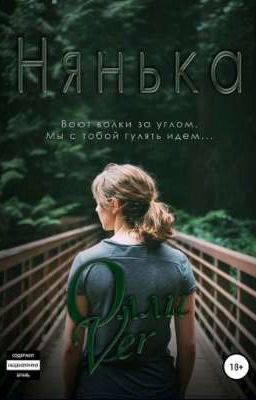Глава 8.2
Её глаза огромные – в них искрится ужас, онпляшет внутри радужки, завиваясь и искрясь, он озаряет глазное яблоко изнутри, и кажется, что где-то там, за янтарно-карей радужкой – крохотный фонарик. Крохотный, но горит очень, очень ярко. Меня завораживает этот свет, и отблеск огня в янтаре, и расширенные зрачки. Моя красавица…
А вы когда-нибудь ненавидели до полного умопомрачения?
Она висит прямо над пропастью, и её ноги болтаются не находя опоры. Раньше здесь была река, а теперь, единственная вода, что здесь есть, пропитала её джинсы, капает с её ботинок и воняет аммиаком. Я заворожено смотрю на капли, падающие вниз, и по моему лицу расползается улыбка.
А вы сумели сделать вашу ненависть осязаемой?
Нянька впилась обгоревшими пальцами в её шею, и я вижу, как прогнулась нежная персиковая кожа рыжей под черными фалангами, сотканными из обгоревшей кожи, прилипшей к костям. Еще немного и она вспорет её глотку. От этой мысли я тихонько смеюсь – янтарно-карие глаза бешено шарятпо моему лицу, тонкие губы теряют последние капли крови и становятся синими.
Ваша ненависть научилась существовать отдельно от вас?
Я стою рядом с черной тварью и кожей чувствую каждый толчок вибрации, что выдает её тело, всякий раз, когда невидимый разряд коротит её. Мне тоже больно, но я научилась извлекать пользу из боли. Боль обостряет чувство жизни и учит вас съеживать весь мир до размеров крохотного клочка тела. Боль рассказывает о вашем теле так откровенно, как не сделает никто другой – только боль знает вас до крошечной молекулы, особенно, если она посещает вас не в первый раз. Она делает вас эгоистичной. Если её слишком много, если всего вашего тела слишком мало, чтобы вместить её всю, то рано или поздно она выйдет за рамки вашего существа, а потому я спрашиваю вас…
Вы когда-нибудь ненавидели до полного умопомрачения?
Вы сумели сделать вашу ненависть осязаемой?
Ваша ненависть научилась существовать отдельно от вас?
Ваша ярость отрастила щупальца?
У вашей боли есть руки и ноги?
Ваша ненависть так же прекрасна, как моя?
Рыжая хрипит, её волосы еле заметно дергаются в такт дрожащей голове. Моя ненависть все крепче сжимает черную руку, заставляя рыжую издавать булькающие, хрипящие, хрюкающие звуки – они звучат, как музыка. Моя ярость глядит единственным глазом, заплывшим белой пеленой, моя ненависть смотрит пустой глазницей, мой ужас наслаждается предсмертной агонией.
Моя ненависть стала моей Нянькой.
****
Ольга Сергеевна бежит по тропинке, не жалея дорогущих туфель. Она еле дышит, она хрипло забирает ртом воздух, она расстегивает пиджак, снимает и сбрасывает его с себя прямо в придорожную траву – ей плевать, что с ним будет, она слишком боится не успеть.Кирилл – не самый умный, и далеко не самый порядочный, но даже он сообразил, что с Таней что-то не так. А главное, у него хватила ума позвонить ей. Той немногой сообразительности, что у него есть, ему оказалось достаточно, чтобы понять, что он спровоцировал что-то ненормальное. Той смелости, что даровало ему воспитание, ему хватило на то, чтобы рассказать ВСЮ правду, не боясь получить по шапке. Если она успеет, если ей хватит времени, она простит ему все остальное. В том числе и то, что он отпустил её дочь. Туфли – на каблуках, и бег дается с большим трудом и болью, но она не чувствует ни того ни другого, потому слишком боится опоздать. Бегом, мимо покосившегося сарая, громко и хрипло дыша, мимо рощицы с кривыми березками, моля Господа о времени, мимо поваленного дерева, наконец, ломая правый каблук, взбираясь на горку, нисколько не сомневаясь, что опоздала, но всей душой веря в Бога и милость его. В моменты истинного страха даже атеисты обретают веру. Она подбегает к мосту и замирает, забыв как дышать…
То, что она увидела, еще долго будет сниться ей в самых жутких кошмарах.
– Таня!
Я оборачиваюсь и вижу свою мать – она дышит хрипло, часто, с каким-то странным присвистом на вдохе, её глаза обезумели – они мечутся между мной и рыжей, её рот раскрыт, но не произносит ни слова. Все её лицо – белая маска, все её тело – натянутая пружина. Как и тогда. Как и в тот день. Она медленно идет ко мне, и я вижу, как она прихрамывает на одну ногу – там сломан каблук и он мешает ей нормально идти. Её руки – натянутая струна, готовая сорваться в любой момент – они прекрасны, словно когти хищника. Мама набирает воздуха и спрашивает меня:
– Как ты это делаешь?
Черное чудовище поворачивает вытянутый череп – единственный глаз нацелен на мою маму. Хруст позвонков за моей спиной, и голова твари выворачивается ровно под углом девяносто градусов.
Воют волки за углом.
Мы с тобой гулять идем...
– Это не я, – отвечаю я ей.
Моя мама становится еще белей:
– Это она, да? Тань, снова она?
– Как это может быть она, если тогда… в тот день… ты что, не помнишь? Не помнишь, что случилось?
– Я помню, Таня, я помню! – мама медленно идет ко мне. – Таня, а кто это?
Я оборачиваюсь и смотрю в глаза своей ненависти – кто она мне? В том варианте, какой она стала сейчас? Она – друг? Она – враг? Я снова смотрю на маму:
– Нянька, – отвечаю я.
Мимо старого крыльца,
Где видали мертвеца
Я смотрю на то, как мама хватается за левую руку рыжей и тянет её к себе:
– Таня, помогай. Давай, Танюша, давай, а то мне тяжело…
Я смотрю на неё и только теперь понимаю, что плачу – слёзы катятся по моим щекам.
Речку бредом перейдём,
Где сомы размером с дом...
Поворачиваюсь к черной твари, смотрю в её мутный глаз – я снова предаю тебя. Снова. Как и тогда.
Мимо кладбища, где нас
Зомби чмокнет в правый глаз.
Мама хватается за рыжую двумя руками и что есть силы тянет к себе, пытаясь перетащить её за деревянные перила.
Нянька кричит, Нянька плачет.
А за кладбищем лесок,
А в лесу глубокий лог
И колодец там без дна…
Я снова предаю тебя.
И в тот момент, когда бесчувственное тело рыжей переваливается за деревянную балку, Нянька отпускает девушку. Мама подхватывает её, изо всех сил тянет и прижимает к себе, а потом падает вместе с ней на колени – она укладывает её на старые доски, щупает пульс, наспех осматривает. Я не помогаю, я молча смотрю, как за спиной моей самой любимой женщины на планете расцветает смерть – огромный комок ненависти и страха, черная тварь, сумевшая обрести собственное тело, бездна боли и ужаса распускает свои щупальца, раздувается, накрывая мою маму черным коконом из ненависти – жуткая, черная мерзость зависла над маминой спиной, навострив свои иглы на её голову, открыв рот в беззвучном крике, протягивая к ней черные, дергающиеся руки.
– Мама… – шепчу я.
Где мы двое?...
Мама поднимает на меня глаза – клянусь, она чувствует её, потому что её глаза наполняются ужасом. Она чувствует смерть за своей спиной…
Где мы двое?...
Это не вопрос.
Я бросаюсь к матери, обнимаю её и плачу во весь голос. Мама обвивает меня теплыми руками. Мама – сильная, мама – смелая, и она не даст нас в обиду. Мама кричит мне, пытаясь переорать мою истерику:
– Таня, вспоминай! Таня, не кричи – вспоминай, родная вспоминай! Ну же! Вместе со мной – давай, моя девочка, давай! Помнишь?
Холодные щупальца Няньки в моих волосах, мерзкие куски рваной плоти вплетаются в мамины локоны.
Где мы двое? - это не вопрос
Я кричу, я плачу, но пытаюсь вспомнить. Я всем сердцем старюсь спасти нас.
– Вспоминай, кто она такая! Вспоминай! – кричит мне мама, ощущая на шее липкие, холодные пальцы Няньки.
И я вспоминаю.
Это не вопрос – это конец считалочки, что мы с Анькой придумали, когда были маленькими:
А за кладбищем лесок,
А в лесу глубокий лог
И колодец там без дна
Где мы двое – я одна.
Я ОДНА!
Я рыдаю, у меня истерика, но мама гладит меня по голове, мама прижимает меня к себе и шепчет мне на ухо:
– Никакой Ани не было, девочка моя. Никакой Ани никогда не существовало. Ну, вспоминай же, Танюша, вспоминай…