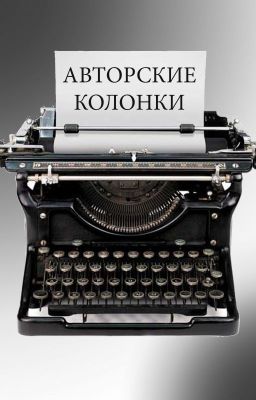Почему писателю полезно вести дневник?
Анаис Нин была, наверное, самым упорным писателем, ведущим дневник, во всей мировой истории. Она завела его в 11 лет и продолжала записывать свои каждодневные впечатления до самой смерти в 74 года. Всего опубликовано 16 томов дневников, в которых писательница размышляет о таких разнообразных, неподвластных времени и в то же время актуальных вещах, как любовь и жизнь, касаясь гендерных проблем, неоднозначной природы радости, смысла жизни, наконец, почему эмоциональные всплески важны для творчества. В 1946 году на лекции в Дармуте она говорила о роли дневника — как бесценной песочницы, важной не только для овладения литературным мастерством, но и для оформления в словах собственных душевных переживаний и расстановки приоритетов, из чего и произрастает творчество:
«Именно во время ведения дневника я поняла, как ухватить те моменты, которые я проживаю.
Ведение дневника всю мою жизнь помогало открывать для себя сущностные основы витальности литературного творчества.
Когда я говорю о связи между ведением дневника и литературным творчеством, я не пытаюсь обосновать ценность дневниковой формы или советовать кому-то к ней обращаться, но просто извлечь из этой привычки определенные знания, которые могут быть полезны для писательской работы.
Наиболее важные из них — естественность и непосредственность. Эти качества, как я могла заметить, рождаются из моей свободы выбора: в своем дневнике я пишу только о том, что мне действительно интересно, пишу то, что меня больше всего захватило в конкретный момент, и я посчитала, что благодаря этому энтузиазму в моем творчестве сохранялась живость, часто исчезающая из более формальной работы. Импровизация, свободные ассоциации, чуткость к собственному настроению породили бесчисленные образы, портреты, описания, импрессионистические скетчи, симфонические эксперименты, которые я могла использовать в любое время как художественный материал.
<...>
В этом личном отношении к объекту, которое часто несправедливо обвиняют в субъективности, я обнаружила источник собственной индивидуальности, личности, оригинальности. Идея, что субъективность — это всегда тупик, так же фальшива, как и идея о том, что объективность ведет к более обобщенному изображению. Глубоко личное отношение выходит далеко за рамки только личного — к общечеловеческому. Опять же все это вопрос глубины».
В A Writer's Diary Вирджиния Вулф (во время написания книги ей было 37) рассуждает о ценности ведения дневника, которое дает нам нефильтрованный доступ к драгоценных камням нашего собственного ума, обычно не проходящим цензуру «формального» литературного творчества:
«Привычка писать только для собственных глаз — это очень хорошая практика. Она ослабляет связки. Помогает не обращать внимания на промахи и заминки.
<...>
Однако отмечу, что ведение дневника не считается литературным творчеством; когда я перечитала мой дневник годовой давности, была поражена быстрым, бессистемным „галопом", в котором всё зыбко, порой дергается нестерпимо, как будто ты идешь по булыжной мостовой. И все же если бы я не писала этот дневник [от руки] быстрее, чем самая быстрая машинистка набирает на печатной машинке, если я бы остановилась и задумалась, ничего бы не было написано; преимущество ведения дневника в том, что оно ухватывает какие-то случайные вещи, которые бы я исключила из своих литературных произведений, но именно ни — бриллианты в куче хозяйственного мусора».
В 48 лет Вирджиния Вулф заметит связь между нами настоящими и нами будущими:
«Несмотря на сомнения, думаю, что я продолжу вести дневник для настоящего. <...>
Неважно; мне кажется, постаревшая Вирджиния, надевая очки для чтения в марте 1920-го, определенно пожелает мне продолжать. Мой дорогой призрак, здравствуй! <...>»
Оскар Уайльд остроумно заметил в «Как важно быть серьезным»:
«Я никогда не путешествую без своего дневника. Всегда нужно иметь нечто сенсационное для чтения в поезде».
Из дневниковой записи Сьюзан Зонтаг 1957 года «О ведении дневника» (On Keeping a Journal), которая вошла в книгу «Заново рожденная. Дневники и записные книжки. 1947–1963»:
«Несерьезно воспринимать дневник просто как приемник для частных, тайных мыслей — как наперсника, который глух, нем и безграмотен. В дневнике я не просто выражаю себя более открыто, чем могла бы в личном общении; я создаю себя. Дневник — это локомотив моего самоощущения. В нем я предстаю эмоционально и духовно независимой. Следовательно (увы), в нем не только записываются страницы моей фактической, каждодневной жизни, но и — во многих случаях — ей предлагается альтернатива.
Зачастую возникает противоречие между смыслом наших действий в отношении человека и чувствами, которые мы выражаем к нему же в дневнике. Последнее не означает, что наши поступки неглубоки, и лишь наши сокровенные признания подлинны. Признания (я, конечно, подразумеваю искренние признания) могут быть более поверхностными, чем поступки. Я думаю о том, что прочитала о себе сегодня (когда ходила на бульвар С[ен]-Ж[ермен] за ее почтой) в дневнике Г., — это краткая, несправедливая, немилосердная оценка меня, которая заканчивается словами, что в действительности я ей не нравлюсь, но моя страсть к ней приемлема и удобна. Боже мой, это очень больно, во мне — негодование и унижение». (Перевод с англ. Марка Дадяна — прим. ред.)
Несколькими годами позже Зонтаг возвращается к этой теме в своем эссе о записных книжках Альбера Камю, опубликованном в сборнике 1966 года «Против интерпретации»:
«Конечно, заметки литератора не следует судить по стандартам дневника. У записных книжек писателя — совершенно особое предназначение: в них он по кирпичику выстраивает свою писательскую идентичность. Обычно они до отказа забиты заявлениями о намерениях: намерении писать, любить, отказаться от любви, жить несмотря ни на что. В записных книжках писателя лишь один герой — он сам. В них он присутствует исключительно как чутко воспринимающее, страдающее и борющееся существо». (Перевод с англ. Сергея Дубина — прим. ред.)
Сильвия Плат, как и Нин, начала вести дневник в 11 лет и оставила около 10 томов, которые были опубликованы посмертно в The Unabridged Journals of Sylvia Plath. Сама она рассматривала свой дневник как своего рода инструмент для «разогревания» перед литературным трудом, но, возможно, больше всего может обмануть ее дневниковый отрывок о странной схожести двух легендарных гениев, переживших трагедию, которые встречаются несмотря на пространство и время на страницах дневников.
В феврале 1957 года, за шесть лет до самоубийства, Плат замечает, что дневник для писателя играет роль спасательного круга:
«Прямо сейчас я добралась до благословенного дневника Вирджинии Вулф, который я купила вместе с кипой ее книг в субботу, когда была с Тедом. Она перебарывала свою депрессию из-за отказов „Харперс" <...>, перемывая свою кухню. И готовя треску и сосиски. Боже, благослави ее. Я чувствую, что моя жизнь связана с ее жизнью как-то. <...> В то черное лето 1953-го, мне кажется, я повторила ее самоубийство. Но я не утонула. Я думаю, что всегда буду чрезмерно уязвимой, параноидальной. Но я чертовски здорова и сияю. Счастлива, как яблочный пирог. Только мне надо писать. Я плохо себя чувствую на этой неделе, в последнее время ничего не написала».
Но, пожалуй, самая важная мета-идея, связанная с этой темой, была высказана самой Вулф, которая считала, что чтение дневников писателей сильно влияет на восприятие нами их произведений. Она утверждала, что силу этого влияния мы должны определить сами:
«Мы должны спросить себя, насколько сильно жизнь писателя влияет на его книги. Насколько писателя определяет его личность? Насколько активно мы должны противостоять симпатиям или антипатиям, которые эта личность в нас вызывает, ведь мы так чувствительны к словам и к характеру автора? Эти вопросы появляются у нас, когда мы читаем биографии и письма, и мы должны ответить на них для себя, ведь не может быть ничего более разрушительного, чем быть зависимыми от чужого мнения в таких личных проблемах».
статья из журнала "Cinemotion"