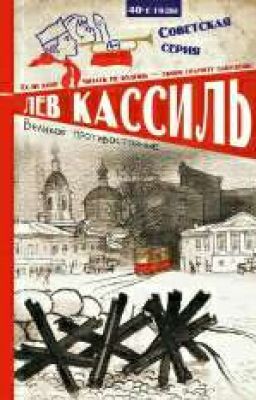Глава 17. Последний шлюз
Напротив меня сидели рыжеватый человек в медных очках и железнодорожной фуражке,
девушка с сонным лицом и молоденький аккуратный артиллерист, который в десятый раз
перевязывал большой букет и, набрав в рот воды, опрыскивал цветы. А всю мою скамейку,
сдвинув меня в угол, к окну, заняла маленькая старушка с бесчисленными мешками,
котомками, баульчиками. Всю дорогу она их пересчитывала, закладывая на пальцах, потом
сбивалась и принималась считать снова.
Прошел месяц после плавания на «Фламмарионе». Я ехала погостить к тете в деревню, под
Егорьевск. Поезд только что тронулся с полустанка, и паровоз зачертыхался, буксуя, взял с
места, сперва медленно выдыхая, а потом, все учащенней и учащенней дыша, стал
одолевать подъем.
Вагон был из новых, недавно покрашенный, еще не очень пропылившийся, только на окнах в
репсовых занавесках с висюльками уже глубоко и толсто залегла пыль. Перед
железнодорожником на столе лежали наушники радио. Их можно было получить в вагоне у
проводника за особую плату; над каждым столиком была розетка трансляции.
Железнодорожник, сидевший против меня, мирно дремал, наушники даром лежали на столе.
Я попросила:
— Можно мне послушать немножко?
— Слушайте, барышня, — сказал железнодорожник, приоткрыв на меня один глаз.
Я надела наушники.
«…щепей. Картины его всегда занимали почетнейшие места среди лучших произведений
советской и мировой кинематографии…»
У меня остановилось сердце. Я ясно почувствовала, как оно коченело, пока диктор, там, на
радиостанции, медлил.
«Народный артист Союза Советских Социалистических Республик, орденоносец Александр
Дмитриевич Расщепей был…»
Был!.. Кажется, я закричала. Уши мои были зажаты чашечками наушников, я не слышала
своего крика, я видела только, как встрепенулась сонная девушка, как удивленно взглянул на
меня артиллерист и железнодорожник схватился обеими руками за очки.
Но почему же они сидят так спокойно, не бегут никуда, эти люди? Неужели их не оглушило
это слово?! Я вскакиваю… Надо остановить поезд… Красная ручка тормоза совсем близко.
Что-то с силой резко оттягивает мою голову назад. Железная скоба наушников, сорванная
натянутым проводом с головы, больно хватает меня за горло и опрокидывает на пол. Надо
мной склоняются пассажиры. Артиллерист приподнимает меня с пола, усаживает на скамью,
осторожной рукой стряхивает пыль у меня с колен.
— Упали немножко? — растерянно спрашивает он.
— Видать, припадочная, — спокойно заявляет сонная девушка.
А я бьюсь головой об оконный столик и повторяю:
— Александр Дмитриевич!.. Александр Дмитриевич!
— Какого-то Александра Дмитриевича зовет, — слышится голос железнодорожника.
Вероятно, сообразив что-то, он высвобождает у меня из-под головы трубки, прикладывает к
ушам.
— А, вон ведь что… — говорит он. — Должно быть, знакомый. Тут как раз передают сейчас.
Умер известный Расщепей, орденоносец.
Старуха соседка, поставив кошелку на колени, поспешно крестится. Потом ее рука легонько
стучит мне в коленку:
— Ты, деточка, не надо так… Все мы на тот коленкор смётаны. А он тебе кем приходился-то,
сродственник?
Я отчаянно мотаю головой.
— Летов-то ему уже много было?
Я опять мотаю головой.
— Стало быть, не в свой срок, — сочувственно вздыхает старуха.
На ближайшей станции артиллерист, осторожно поддерживая меня за локоть, помогает мне
сойти.
— Виноват… вам, конечно, не до того, — говорит он неуверенно, — только ответьте: это вы
сами, не ошибаюсь, исполняли Устю в его картине?
Я, закрыв глаза, молча киваю. Артиллерист мнется, поправляет новенькую фуражку:
— Какой знаменитый человек был!
Был — и нет теперь уже Расщепея! Господи, как я его любила! Зачем только я уехала из
Москвы? Нет Расщепея… «Да, Симочка, вот это действительно бывает только раз в жизни…»
Если бы только он позволил, я бы сама сейчас умерла. Но он уже ничего не может позволить,
а если бы он был жив, он бы запретил мне это.
Почти ничего не видя, вернее, ощупью я беру билет обратно в Москву, сажусь в первый
попавшийся поезд. * * *
На улицах Москвы висят афиши нового фильма: «Мелкий служащий», постановщик
Александр Расщепей». На Дворце кино, во всех газетах его большие портреты в черной
рамке. У колонн, увитых черным крепом и еловыми ветвями, толпится народ. Длинная
очередь вытянулась по улице — это идут люди прощаться с ним.
Чья-то рука крепко берет меня за плечо. Лабардан, страшный, красноглазый, с сизыми,
небритыми щеками, проталкивает меня в дверь дворца. Он бормочет что-то несвязное и
вдруг начинает плакать, прижавшись щекой к моему затылку. Я чувствую, как бегут мне за
шиворот горячие капли.
— Так и умер… с книгой… Фламмарион… Вернулся после просмотра, лег читать, а утром
пришли…
Тишина. Осторожные, шаркающие шаги многих ног и легкое сипение юпитеров. Всё те же знакомые юпитеры освещают его, журчит аппарат, и заплаканный Павлуша дрожащей рукой
крутит ручку и все протирает, все-то протирает стекла объектива!..
Это последняя съемка Александра Расщепея.
Меня ставят в почетный караул. Я вижу рядом с собой стоящую у гроба прямую, строгую
Ирину Михайловну; она поправляет складку материи. Я понимаю: этим жестом, легко касаясь
его пиджака, она как бы подчеркивает — это прежде всего ее горе… И мне обидно. Она стоит
прямая и гордая в своем ревнивом горе, словно ни с кем не хочет делить его. Красными,
будто неузнающими глазами смотрит она поверх меня.
А я никак не могу себя заставить взглянуть туда, где под склоненным алым знаменем — его
голова, залитая сиянием прожекторов. И я не плачу сейчас. Но все во мне пересохло —
горло, глаза; я только чувствую, что меня начинает раскачивать.
Я качаюсь все сильнее и сильнее, и кто-то подхватывает меня под руку, выводит в другую
комнату…
В сумерки подъезд крематория похож на небольшой вокзал. К нему ведут дорожки,
обсаженные багровыми каннами в черно-зеленых листьях. И сидят на скамейках
провожающие.
Полон высокий зал. Огромная тихая толпа стоит во дворе и за оградой. Играет орган — то
глухо содрогнется весь, то затрубит тревожно, то пройдет по верхам, точно ветер в лесу.
Молча стоят люди вокруг гроба Расщепея. Кто-то, должно быть Бодров, говорит речь:
— Товарищи, мы расстаемся сейчас с Расщепеем, нашим Расщепеем. Мы хороним
замечательного человека, великого рыцаря искусства, который отдал долу нашего народа,
нашей страны, своему любимому искусству всего себя вместе с большим и честным своим
сердцем…
Кто-то осторожно касается моей руки. Я оглядываюсь. Ромка Каштан и Катя Ваточкина.
— Ну, чего вам?
— Симочка… — шепчет Катя, и лицо ее жалко кривится.
— Крупицына, — сурово перебивает ее Ромка, — нас ребята послали… чтобы мы тебе
оказали… Ну, вообще, чтобы около тебя побыть… Но я бы, Сима, и так все равно… сам.
Но вот все немножко расступаются, и гроб начинает медленно опускаться, и я вижу лицо
Расщепея в луче прожектора. Он лежит, чуть повернув набок голову, и, как тогда ночью, в
каюте «Фламмариона», я ясно вижу его непривычно приглаженные легкие волосы, и складку
между бровей, и страдальческую черточку у насмешливых губ. И, как тогда, медленно
оседает, опускается все глубже, словно судно в шлюзе, его гроб. Уже всплыли, двинулись,
сойдутся сейчас створки за ним, и мой командир, мой капитан Расщепей проходит свой
последний шлюз.
Но сегодня он уходит один, без меня, а я остаюсь здесь, на пустом отвесном берегу. Вот она,
та самая ужасная неприступность!.. И теперь я плачу отчаянно, невыносимо, взахлеб. Потом,
когда все кончено, я чувствую, как кто-то судорожно обнимает меня, гладит по волосам. Я
поднимаю голову. Прямая, молча прижав к своему сердцу мою голову, плотно прикрыв веки,
из-под которых медленно ползут слезы, стоит Ирина Михайловна.
— Сима, — говорит она почти беззвучно, и слова не трогают ее помертвевших губ, — вот это
для вас. — Она протягивает мне большой конверт. — Это в его бумагах… для вас. Сима, родная, он к вам очень хорошо относился…
И опять я лежу в нашей зеленоватой комнатке на кровати, и отец прикладывает мне к
запухшим глазам примочки из борной, и я держу на груди конверт с размытыми чернилами. Я
уже все прочла.
В этом конверте оказалось письмо, которое я тогда написала в Кремль, и приложенная к нему
записка Расщепея все мне объяснила…
«Я возвращаю вам одно ваше письмо, Симочка. Я незаконно задержал его. Отец ваш тогда
по секрету от вас пришел ночью ко мне и показал ваше послание в защиту меня. А я,
пользуясь тем, что он не видит, подменил письмо, каюсь, другим конвертом. Не сердитесь на
меня. Это еще был не самый крайний случай, и не надо было по пустякам беспокоить
больших людей. Видите, мы справились сами. За меня была правда. А у нас правда всегда
побеждает. В конце концов, не важно, дошло ли то ваше письмо по адресу или нет, — важно,
что вы хотели сделать это и сделали все, что от вас зависело. Спасибо, дружок. Все это вы
узнаете только в том случае, если меня уже не будет в живых. Я не хотел вам говорить об
этом при жизни, но со здоровьем у меня окончательно табак дело. Я, вероятно, долго не
протяну… На всякий случай я и заготовил вам это послание. Прощайте, славная моя
Устя-партизанка, прощайте, Симочка! Не горюйте больше чем следует, живите смело и
вспоминайте обо мне в дни великих противостояний. Ваш Александр Расщепей».
И сбоку рукой его был нарисован астрономический знак Марса: кружок и стрелка — знак,
похожий на сучок с двумя листочками и яблоком.
— Папа, ну как же ты мог тогда мне ничего не сказать?
— Доченька, милая, — говорит отец, — не хотел я говорить тебе, что заходил к Александру
Дмитриевичу. И ему обещание дал. Я ему тогда так сказал: «Как вы, говорю, будучи
опять-таки человек партийный, то я считаю, нужно вам посмотреть, чего она тут накорябала.
Ведь адрес серьезный». А он прочитал и говорит: «Да, говорит, это, конечно, совершенно
излишне, но раз уж написала, что же делать… Не имею права. Только вы никогда не говорите
ей, что показывали мне». Слово с меня взял. Вот тут он, видно, меня и обманул с конвертом.
И опять тяжело давят на мои веки уже совсем горячие, набухшие примочки, и в глазах у меня
плывут красные кружки с остренькими стрелками, похожие на ветку с двумя листочками и
яблоком.