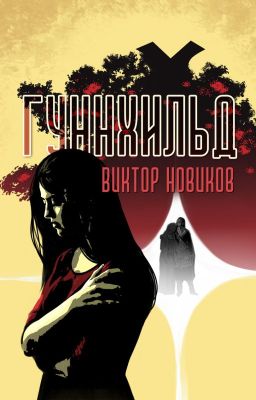Глава V, в которой былая жизнь кончится
Опоздавшая осень вовсю хозяйничала на побережье. Всё тревожнее пели под холодный ветер верхушки сосен и берёз. Кое-где одетый в хвою, но большей частью голый ельник подпевал им, скрипя по-стариковски. Сонная, лишённая живой травы почва ждала снега... Кошка, которой в начале времён дали имя Ночь, приходила всё раньше. Прячась за чёрно-малиновыми полосами туч, она прыгала по жёлтому небу за улетающими птицами. Тучи ветер не разгонял — не находил сил, растраченных в грозы весной и летом. День таял быстро, подобно выброшенному маслу.
Потому в Волчьем Гнезде спать легли с последним лучом солнца. Раньше, чем хотелось, ведь пока жива была память о весёлых вечерах лета.
Однако сегодня кромешная темнота продержалась только до середины ночи.
В сене в одной из хижин зашевелилась Старая Уна. Бока болели от переделанных за день дел, ноги по той же причине отнялись бесповоротно. Вдобавок гудела голова от прогорклого дыма, просачивавшегося через щели... Уна поздней весною, летом и ранней осенью ночевала по овчарням, хижинам и коровникам, только к зиме перебираясь в общий дом. Так издавна полагалось слугам в Волчьем Гнезде. Хотя некоторые, особенно цветущие красотой и женским здоровьем служанки, не покидали дом вообще. Уна жила, зная своё место — пережив в хозяевах усадьбы и Бешеного, и Олава... Она их всех переживёт.
Вылезая из-под сена и сшитых шкур, Уна прокряхтела все проклятия, которые только выдумала болевшая голова. Где-то за дверью валяется оглобля, и уж хватит у старухи сил отходить ею кое-кого по бокам.
«Удумали костёр около построек разводить, отродья».
Уна протёрла глаза и, охнув, осела на порожек. Завалиться на голую землю не дала хлипкая дверная створка, в которую-то и вцепилась Уна.
Из дымового отверстия дома конунга Харальда валил жирный и чёрный дым, а соломенная крыша испускала обильные, почему-то белые струйки. За жёлтыми брёвнами дома словно гудели все пчёлы, мухи, осы, оводы мира... И горький дым, пробудивший Уну, происходил не только от дерева, соломы и прочего, из чего строили дом.
Уна, протяжно взвыв, в бессилии сползла с порожка на четвереньки. К дому уже бежали все, кто спал вне его...
Стали раскидывать завал у главной двери — дрова, мешки, тяжёлую опрокинутую повозку — но отскочили, закрывая лица рукавами. Потому что затрещали слои соломы на крыше, и яростный огонь, не встречая преград, с облаком искр вырвался в беззвёздное зелёное небо.
* * *
Задолго до смерти Волчьего Гнезда в одной пещере на далёкой северной земле произошёл один важный разговор.
Торвальд, лохматый, худой и чёрный — потому что костёр полыхал слабый — тихо-тихо, ведь все спали, рассказывал Ингвару:
— Я был ребёнком, когда потерял глаз. Тогда же начал говорить то, чего никогда не хотел говорить. Если к первому я пообвык — ребёнок, знаешь ли, быстрее взрослого привыкает жить с увечьем — то со вторым не могу примириться до сих пор.
Это не старый Один дал мне дар, как привыкли считать многие. Думаю, он вообще не заходил в мою родную глушь. Глушь есть глушь. Леса вашего побережья — ничто по сравнению с ней. Где у вас чащоба, то по мне жалкие кустики. Да, смешно и странно такое говорить в середине путешествия по бывшим ледникам. Но я скажу тебе кое-что посмешней. Кое-что жуткое, чтобы к тебе на ночь пришли неприятные мысли... В ледниках мне страшнее, чем в родных лесах. Потому что наш колдун договорился с духами, и на опушках, бывало, ползали даже грудные дети. А в ледниках нам не с кем договариваться. Не страшно? Тогда слушай дальше.
Я перепутал клюквенные кочки и вышел из болота раньше. Пропустил что-то и поздно засёк, что березняк иной. Где должна лежать старая берёза, растёт поросль. Или вот вроде нужная берёза, но приметного дупла нет — вместо него береста заворачивается.
Капля за каплей нарастал страх, и с неба уходил последний свет. Я не смотрел, куда иду. Перестал разбирать, отплакавшись, смирившись и покорившись. Нога оступилась, и я кубарем покатился по невесть откуда появившемуся склону. На этом про потерю глаза можно закончить... Что ты хочешь от мальчишки? Он грязный, голодный, несколько раз обмочился. И устал бояться, что его заломает медведь, чудящийся ему в каждой тени. Медведь или кто похуже...
Пусть лучше склон выбивает ему рёбра окаменевшими корневищами и отрывает лоскуты со штанов и рубахи. Что-то очень больно распарывает лицо, и глаз немилосердно чешется. Когда затылок ударяется обо что-то твёрдое, кувырки прекращаются.
Дальше мне вспоминается дикая, невозможная боль и то, что я куда-то шёл.
Я проснулся дома, в постели у печи. Раны подсохли, а с глазом стало понятно, что он не различает ни света, ни тени. Все меня жалели, пока я не сказал, что моя старшая сестра Валка назавтра умрёт. Отец отвесил мне затрещину прежде, чем я осознал смысл слетевших с языка слов.
Меня часто просят поведать о смерти, но не спрашивают, что есть сама смерть. А тебе я расскажу.
Иногда ко мне во снах приходит Страна-Мёртвых. С предсказаниями это никак не связано. Предсказания приходят в нашем мире, чему ты неоднократный свидетель, а сны всегда сны. Они — это ответ, правильно ли я истолковал увиденное:
«Ты увидел и сказал, Тове-Торвальд, — Кто-то словно смеётся надо мной. — Но на самом деле всё совсем по-другому».
Мол, ты глупый, и мы покажем, какой ты глупый... В здешних ледниках такое снится чаще. Наверное, потому что они и есть Страна-Мёртвых.
... Я будто слепой на оба глаза, либо с плотной повязкой поверх них. Но вижу, как до самого края мира тянется бестравная пустошь, светящаяся как в белые ночи. Небо давит так, что тяжело поднять голову. Галька под пятками шуршит оглушительно — столь густо покрыта она инеем.
Меня ведёт Калма. Она то маленькая, сухонькая, то огромная и горбатая, а платье у неё всегда тёмное. Я цепляюсь за её широкую ладонь, бегу вприпрыжку, будто ребёнок за бабушкой. Она переваливается с ноги на ногу, отчего на цепочках на шее и пояске непрерывно звякают ключи.
Мы видим холм, на вершине которого накрыт большой стол. У стола стоит женщина в трепещущей тускло-красной накидке.
Из-под накидки развеваются длинные, блестящие, хотя и редкие кудри. У горла белеет придерживающая накидку хрупкая рука, вся в жемчужных кольцах.
— Динь-динь, — позвякивают ожерелья и браслеты женщины. Звон их тоньше и благороднее, чем у всех цепочек бабки Калмы.
Женщина бесконечно как красива. Но когда она улыбается, сухая кожа обтягивает скулы, и становятся видны сгнившие зубы... Отчего её лицо смахивает на череп.
Я ощущаю, как старуха боится улыбки женщины в красном. Душа Калмы — если душа имеется у такого существа, как Калма — дрожит, как последний лист, оставшийся на ветке.
С низкого неба слышатся плачи на забытых праязыках... А за плачами по обычаям должны следовать превесёлые погребальные песни и пир. Поэтому женщина в красном кивает на стол. Улыбка её чарующая, долгая и выражающая очень многое.
Стол знатный, на дюжину гостей, весь под плотными разноцветными скатертями, собирающимися в пышные складки на гальке. Яства, достойные кинга, остыли или превратилась в пыль. В кубках на вине белеет плёнка.
Каждый из стульев отличается формой, узорами... На одном развешена кольчуга, начищенная просто до рези в глазах. На сиденье и у ножек другого стула светятся монеты. На спинках у некоторых парусами раздуваются женские покрывала. А на ближайшем ко мне лежит повязка, которую я носил, пока заживал глаз.
Я бегу к этому стулу. Я очень устал после перехода по камням, и стул сам отодвигается от блестящей скатерти. Иногда я сажусь... Но чаще не дохожу и просыпаюсь.
Однако в любом из исходов я чувствую тревогу Калмы. Всегда слышу её безмолвный отчаянный запрет.
Если сажусь, ветер воет утробнее, и плачи прерываются. В морозном воздухе ощущается горячий запах погребального костра. От порывов ветра колышутся длинные жидкие кудри вокруг черепа женщины, шевелится тускло-красная пола накидки, и сверкает водянистыми камнями браслет на её лодыжке, странно тонкой, странно белой.
Это кость. Голая, с отметинами собачьих зубов. Вся голень слеплена из голых костей и косточек... Только кое-где колеблются ошмётки мышц, сухожилий и кожи.
Женщина в красном рада, что я увидел её ногу. Она охотно, как голодная, упивается моим отвращением. В её глазницах бушует ненасытное, жадное и беспощадное пламя.
И в нём кричат люди, которых я знаю... Кто они? Я забываю при пробуждении.
Но вспоминаю обезображенное пламенем лицо, когда владелец его умирает от болезни либо бестолково гибнет. Моя сестра оказалась первой в перечне.
Валка вернулась с работ на реке, пожаловалась на усталость и прилегла. К ночи началась лихорадка. Жар убил Валку прежде, чем колдун сварил своё хвалёное зелье. Которое помогло бы Валке, как похлёбка из старого сапога... Я спокоен, Ингвар, не надо вставать. Не бойся. Это уже отболело.
Я пугаю опасных упрямцев, говоря, что вижу Хель — и имею в виду женщину в красном. Может, я ошибаюсь. Может, надумываю, ведь сны просто сны. Но вовсе не считаю, что лгу.
* * *
Горм принялся бросать приказы сразу. Не разбирая кому, не тратя попусту время — ты и ты, таскай воду и обливай то, что может загореться. Догадливые и без его пинков плескали на всё от усадебного ручья до дома.
С Уной у забора бубнили две старухи, ровесницы Ясеня-Всех-Миров, неотличимые друг от друга из-за густых-прегустых сетчатых морщин. Одна покрупнее, другая поменьше, но обе меньше распрямлённой Уны, упиравшейся руками в поясницу. На обращение Горма откликнулись замедленными взглядами, не сдвинувшись ни на шаг. За спиной Горм услышал, как большая прогудела что-то неразборчивое, а мелкая прошелестела в ответ.
— Кто-то поджёг, — влез к старухам какой-то тощий и лупоглазый дед из посёлочных. — И дверь завалил! Никого из тех, кто в доме спит. Ни хозяев, ни гостей, ни, Уна, твоих подстилок... Все, все сгорели! Все!
Спасать дом было бесполезно. Потому вёдра с водой — уже только время от времени — расплёскивались на пристройки, погреба, коровники, овчарни. Большинство слуг стояло и тихо созерцало полыхающее прошлое. С брёвнами горел уклад, заложенный в усадьбе поколения назад. До сегодняшней ночи некоторые мечтали, что если не они, так их дети подкопят достаточно серебра и уйдут отсюда искать собственное счастье. Но и в таких, далеко не преданных грёзах усадьба Бешеного, Олава, Сигрид и Харальда продолжала стоять на зелёной холмистой пустоши с ручьём.
На освещённое пространство, растолкав толпу, вышел шатающийся Трюггви. Волосы его слиплись — осунувшееся лицо, казалось, обрамляет гнилая солома. Ворот рубахи, разорванный до предплечий, складками свисал на груди и на спине...
К Горму подошли пастухи. Опустили головы в шапках и заговорили. Тихо, словно оправдываясь.
— Мы потушили сзади, где очаг и хозяйское место. Откинули завал, а под ним вроде двое. Наверное, они сперва задохнулись... Нижняя, судя по золоту на шее — хозяйка.
Трюггви шагнул в сторону, не сводя с огня покрасневших глаз, и захохотал. Колени подогнулись, и он рухнул ничком. Принялся бить землю, распарывая пальцами дёрн с травой.
— Вставай, — Кто-то, просунув под грудь руку, приподнял его, — не лежи.
То был, конечно, Горм.
— Что это, что? — заплакал Трюггви ему в рукав. — Горм, скажи, что это у меня горячка! Го-орм! — Он зашёлся в бешеной тряске, рыча волком.
— Это он поджёг.
Все вздрогнули от слов Уны. Все, кто наблюдал с упоением за ползавшим по земле славным, великим, красивым Трюггви. И всех, никого не пропустив, старуха окинула обличающим взглядом. С Трюггви пальца она не отвела.
— К чему это ты? — закричал Горм. — Не видишь, что он перепил, из девок твоих какая-нибудь отказала, да пожар ещё...
— Он! — с лёгкостью переорала Горма Уна.
Мол, давай покричи, кричи громче! У Уны хватит в лёгких воздуха ответить тебе и кому-нибудь ещё, если кто раскроет рот.
Горм пошатнулся и едва не согнулся пополам, как сломанное деревце. То большой тяжёлый Трюггви, цепляясь за него, встал рывком на нетвёрдые ноги.
— Закрой рот, — Трюггви будто отчеканивал каждое слово, — свой старый... Беззубый... Гнилой рот.
— У тебя бы-ы-ыли причины! — выла Уна со злобным наслаждением. — Я всё-о слышала... Что ты шептал той...
И, не докончив, прыгнула в толпу, потому что донельзя злой Трюггви оттолкнулся от Горма.
— Сумасшедшая, — прошипел Горм, ловя Трюггви за предплечье.
Можно было всего одним словом заткнуть Уну, но это только раззадорило бы Трюггви, который, как щегол из клетки, рвался из Гормовой хватки. Утихомирить его надо в первую очередь, а то он вмиг прикончит старуху. Хотя в глубине души Горм поддерживал его с всё нараставшим раздражением.
— Ты хоте-е-ел усадьбу... Поэтому смотрел телёнком на Сигрид? — продолжала плеваться Уна. — Потому поджёг? Махал этими горелками! Так на-а, получи-и! — И старуха задрала юбку.
— Она дразнится. Спокойно, Трюггви, спокойно...
— Горм, пусти! Пусти меня, говорю тебе, я сверну ей шею!
Трюггви вырывался уже не как щегол, а как цепной пёс. Уна выла с истошным надрывом, будто он её уже ударил.
— Хватит, Трюггви.
— Затолкаю грязный язык обратно в глотку, чтобы больше не полоскался. Пусти же, ты!.. Раб!
Он вдруг клацнул коренными зубами, откинул голову... И упал на землю.
Горм отпустил его рукав и освободившейся рукой потёр костяшки, которые поцарапал о щетину подбородка Трюггви. Вслед за этой сочившейся по пальцам кровью он словно утрачивал решительность и силу своего небольшого тела.
Немного отшагав, Горм превратился в погаснувшего черноволосого старика окончательно...
— Связывайте, — приказал он, избегая в ставшей размеренной и медленной речи имени и даже указаний на Трюггви: — Это дело суда — разбираться, виновен ли... И волей Одина, уймите старуху.
Два дюжих пастуха встряхнули, поднимая, Трюггви. Его рубаха задралась, оголив живот, поросший жёлтыми волосками.
Кусая кулак, Трюггви круглыми глазами смотрел на сумрачно тлеющее пепелище. Из-под белых зубов текли струйки крови.