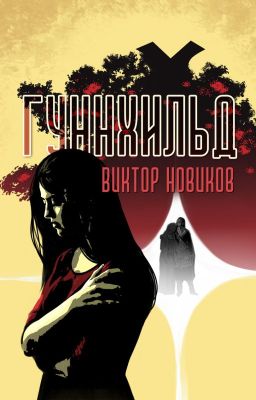Глава III, в которой Харальд увидит солнце в последний раз
Бык жарился по всем правилам, на густом дыму от высушенных горных трав.
Харальд проверил его, но в дом возвращаться не захотел. Через Горма вызвал Торвальда и пошёл с ним на пустошь за усадьбой.
На свежий воздух вывалили и остальные — пьяные голоса разлетались аж до опушки верхнего леса. Харальд с Торвальдом порядочно отошли от главного дома, дворов и едко пахнувших отхожих мест, чтобы к ним могли навязаться попутчики.
На пустошь дым с костров не долетал. Пустошь с незапамятных времён была устлана камнями, и редко удавалось хотя бы расколоть какой-нибудь валун, уж тем более вырвать. Для этого приходилось тянуть его верёвками, целым стадом запряжённых коров. В награду можно было ненадолго увидеть, как в лунке сереет древний лёд, ощутить даже не младенчески нежными щеками, какой царапающей прохладцею веет оттуда. Камни сидели непоколебимо тысячу зим, и будут сидеть, укрываясь мхом, лишайниками, почвой и вереском, столько же.
На один из них Торвальд непочтительно высморкался.
— Скажи, Харальд...
— Тебе скажу всё, что хочешь.
Торвальд утёр нос, держа равновесие полою плаща и свободной рукой. Каменный гребень, по которому он шёл, выступал из земли почти на человеческий рост.
— Здесь ещё переделывают сопляков в славные воители?
— Ты это к чему спрашиваешь? Насморк вылечить надо?
— Я про охоту. Я не успел на посвящение твоего Трюггви, и после мои дороги сюда как-то редко заворачивали. Хочу посмотреть, как ты, конунг, водишь нашу смену.
Торвальд лукавил, и Харальд это знал. Лукавил Торвальд вежливо...
Когда-то Харальд настороженно относился к нему, как к носителю странного дара, хоть носитель и помирил их с Рагнаром. Харальд имел право опасаться того, чего не понимал — и Торвальд всегда терпел и прощал суеверные испуги малознакомым людям. А с годами Харальд привык.
— Ну? Будет в новом году охота? — повторил Торвальд свой вопрос.
Харальд сморщился, будто откусил горчащий капустный лист. И разлепил губы с нескрываемой неохотой.
— Трюггви последний, кого я посвящал. Так что ты ничего не потерял... Тут, правда, шли ещё охоты. На побережье и в тех лесах, — указал Харальд на далёкие синие горы. — Но вёл их уже не я. Помнишь шторм, от которого лёг весь большой лес?
— Помню, — улыбнулся Торвальд и переступил на камень, похожий на огромного старого тролля.
— Как раз накануне предполагалась охота. Пришлось уйти за горы. А потом посвящения в Гнезде как обрезало.
Харальд присел на камень, похожий на мелкого тролльчонка. На пустоши явно когда-то жила семья троллей, но однажды их застигло солнце... Разговор тоже словно обрезало. Чтобы его продолжить, Торвальд сказал:
— Так сейчас везде.
Харальд кивнул. И, наклонившись, выцедил слюну до земли.
— Прежний, правильный мир уходит... Если посвящения и проводят, то случайные, скажу я тебе, знатоки. Кое-кого из них я подучил кулаком в зубы, — Он добавил ещё один плевок. — Люди некоторых конунгов ходят, вообще не зная охоты. А что за связь увязывается через охоту, понимают даже те, кому она не светит.
Похлопав по коленям, Харальд посмотрел на молчавшего Торвальда и поднялся.
— Раньше вот, — сказал он, — к охоте готовились за пару лун. Шла она несколько дней и ночей. Оружие и кольчуги чистили песком на кромке прибоя — чтобы, по песне, ни в воде, ни на суше. Коней гоняли до последней капли пены, и бегали во всём самом тяжёлом, от сапог до аж даже рукавиц!
— И далеко не по таким скатёркам, — Торвальд обвёл кулаком пустошь и камни, — где можно разве что разбить нос с коленкой.
— Ну, — усмехнувшись, пожал под плащом плечами Харальд, — ногу можно сломать и у крыльца. На свежей росе, на зелёной траве.
Торвальд рассмеялся, поняв намёк. Разумеется, на Кнуда...
Они рассекали мокрую от вечернего тумана траву, штаны обоих взмокли по середину бедра и облепились трухой.
Торвальд догадывался, к чему настроен повернуть беседу Харальд, поначалу оказавшуюся неприятно колющей. Торвальд мог не поддаваться, но его терзало любопытство, чем Харальд оправдывает своё желание, подбираясь к нему с каждым словом всё ближе и ближе...
— Люди мельчают, — Харальд улыбнулся с той же мучительной горечью. — Да, Торвальд. Я успел вдохнуть воздух старого времени. Я вижу, как обмельчали нынешние ярлы и конунги. Мясо тогда было жирнее и вино не чета моему, на посвящения спускались боги, а под парусами ходили люди, за чей стол даже наш Ингвар постеснялся бы притулиться. Чего уж говорить про меня.
Погасив улыбку, Харальд погладил скулы большим и указательным пальцами.
«Кому ещё он бы это сказал? — гладя встречную траву по верхушкам, подумал Торвальд. — Рагнару? Да, и чуть больше, ведь тот знает о Харальде больше. Олаву, будь тот жив... За что ты, Харальд, винишь себя? За что осудили бы тебя люди из правильного и справедливого по твоему мнению старого времени?»
— Бешеный при всей моей ненависти к нему, оправданной и неоправданной, был славным конунгом. Из тех, настоящих, о ком я говорил на пиру. Он, конечно, имел вздорный норов, но в воспоминаниях людей, которые ходили с ним, остался истинный, настоящий конунг... И Рыжему Волку до него далеко, сколько бы я ни скрипел зубами от злобы. Думаю, это правда, что неблагодарность сыновья идёт с начала миров, когда Имира прикончили отпрыски. Мне в знак почтения остаётся только поступать по его образцу. Беречь всех вокруг, вколачивать мозги на место — кому пинками, кому тумаками — и сохранять трезвый разум в бурю, в стычках. Себе и людям.
— Даже, — Торвальд откашлялся, — ценой вынужденных потерь. Оставшимся на урок, как говаривал отец Ингвара.
— Вроде того. А мои байки про его дурь — это такая пыль... Ты слышал же, что он делал, когда корабли затирал лёд. Веду ли я себя также? Иногда да, — Харальд болезненно поморщился. — Но где-то совершаю глупые ошибки, и почём зря гибнут люди.
— Каждый из нас, Харальд, ошибается.
Торвальд, приобняв Харальда, похлопал его по плечу:
— Ты ошибался в отце. И я в своих делах. Бешеный с великими конунгами тоже были людьми. Думаешь, они не ошибались? — Торвальд заглянул Харальду в лицо. — Бешеный-то не ошибался?
— Ха! — фыркнул Харальд.
— Их ошибки тоже часть нашей памяти о них. И то, как ты расцениваешь их ошибки, какие уроки извлекаешь, рассказывает о тебе как о конунге.
В отличие от беседы про посвящения, сейчас из Харальдовой души рвались откровения. Да, он бегал взглядом мимо Торвальда, но не мялся.
— Я всегда после шуток о Бешеном клянусь завязать язык и узел прибить на свинарник. Только Кнуду нравится смеяться над одним и тем же по десятому разу. А у меня внутри оседает что-то горькое. Обидки следует оставлять Гусыне — ей они простительны, но не конунгу... Великий человек со временем представляется более великим, особенно, если его сменяют крысы и крысоеды.
— Тебя послушать, так однажды великий Бешеный станет ровней Асам, — усмехнулся Торвальд. — Будет с ними в Чертоге-Ста-Дверей сидр из золотых яблок распивать.
— Пьянство в его случае даже после смерти не сильно удивляет.
— Вот видишь? Он пока что обычный человек в нашей памяти. Не герой из песни. И нет ничего в нём удивительного. Всего лишь обычный, хотя и отчаянно-храбрый человек.
— Мне ли не знать, каким он был человеком.
На их пути выросла целая глыба, настоящая матушка-троллиха. Обходя её, Харальд сказал:
— Один, говорят, тоже был таким, как мы.
— Да, — подтвердил Торвальд, — говорят.
— Как ты или я, он пил-ел, любил женщин и, в конце концов, умер. Древний вождь, но, как и мы, смертный. Асы, эйнхерии и его прочие дети были воинами его племени. Про них сложили песни за заслуги, забывшиеся к часу рождения наших прадедов. Обычный смертный мужчина, пусть и Отец-Народа, слился с божественным Всеотцом, чьё подлинное имя стёрлось, и старые песни о котором ушли. Но появились новые, о Всеотце, Отце-Народов. И ни капли лжи в них не было. Язык не поворачивается сказать такое... Если не ложь, то что это? Как считаешь?
Торвальд подумал, похлопав зелёно-коричневый, приятный на ощупь бок камня. Пожал плечами.
— Считаю, — ответил он, — что иная жизнь, которую заслужил и получает человек. Жизнь, которой он живёт после смерти.
Харальд обошёл очередного тролля, и у глаз его появились весёлые морщинки.
— Не зря я тебя выдернул грязь месить, — улыбнулся Харальд. — Ты будто думаешь мои же мысли.
Торвальд вскинул брови — и целую, и не росшую:
— А вдруг вправду думаю?
— Тогда, — Сип Харальда стал медленным, мягким и даже смущённым. — Согласишься, что... Что посмертную жизнь человек может получить по-всякому?
— Или не получить. Кто знает?
Торвальд осёкся. Он явственно услышал ответ Харальда:
«Как кто?.. Ты».
Но Харальд, поглаживая нагретый солнцем бок отца-тролля, говорил другое, продолжая незаконченную мысль.
— ...Какой-нибудь разбойник прославится, потому что пробежит без головы вдоль ряда подельников.
— Как звали-то того разбойника? — оживился Торвальд, — Я слышал уже песен пять с этим исходом и, клянусь, на драккар скоплю, если мне будут давать по монете за каждого нового безголового.
— А сколько песен ты слышал о конунгах, которые перед смертью наступали на конский череп?
Торвальд, улыбнувшись, поднял указательный палец.
— Все знают имя того конунга.
— Да, — вздохнул Харальд и крякнул, — вот как бывает. Кому-то в последние удары сердца везёт больше, чем за целую жизнь, а кто-то позорится. Несмотря на все собранные земли на востоке.
«Вот мы и в опасной близости от волнующего тебя, Харальд. Как ловко щёлкаешь ты словами. Как палочками в шёлковых нитках... Шёл бы ты к Фригг в вышивальщицы. Они с Одином поссорятся из-за твоих умений».
— Рыжий Волк хочет, чтобы и про него пели песни?
— Кто не хочет, — Коротко ответив, Харальд отвернулся к заходившему солнцу.
Над его головой, высвободившись из кос, танцевали длинные пряди. Ветер то сдувал их на круглый выпуклый лоб, то убирал назад.
Торвальду тоже было нечего добавить.
— Я тебя спрашивал в шутку, — продумывая каждое слово, заговорил Харальд, — но отвечай серьёзно. Это правда, что ты видишь судьбы?
Он продолжал стоять лицом к солнцу и спиной к Торвальду. Наверняка после своего вопроса он представил, что в лопатки ему смотрят не один, а два глаза.
Но проверить, выздоровел ли слепой глаз Торвальда, было выше всех его сил... Потому что Харальд боялся. Как боялся Провидца первые годы знакомства.
— Правда, — признал Торвальд.
Он снова запрыгнул на каменную гряду, выйдя из высокой мокрой травы.
Харальд нерешительно рассмеялся:
— Как-нибудь... Скажешь мою?
Улыбки Харальда всегда были некрасивыми, но эта вышла вполне приятной и застенчивой.
«Что ж, вот и пришли к тому, к чему шли. Сейчас развернёмся да побредём назад».
Солнце выглянуло из-за облака, словно окликая их. Сегодняшним вечером оно пылало в тесной малиновой оправе, оживляя белый цвет лица Харальда и сияя чищеной медью в его волосах... Удивительно как меняется человек, когда на него светит вечернее солнце.
— Ты помнишь последний поход Ингвара? — с наслаждением жмурясь, спросил Харальд. — Помнишь?
— Помню, — Торвальд кивнул. — Ты был там. И я. Все помнят.
— Почему же ты... — задохнулся Харальд.
Он тяжело закашлялся. А откашлявшись и утерев слюну, не стал продолжать.
— Я ничего не видел, Харальд.
Харальд испугался, потому что не заметил, как Торвальд появился перед ним, лицом к лицу. С Харальдом, тёртым, хитрым и жестоким воином, это случалось редко.
— Не показали, — сказал Торвальд. — Эй-ка, Тове, смотри, как умрёт Ингвар... Такого не было. А было бы — я бы смотреть не стал. Пошёл бы, подобрал прутик поострее и выковырял бы вдобавок здоровый глаз. Чтобы и в полумирье, и в нашем мире настала одинаково кромешная ночь, и меня не тревожили.
— Да, — боясь глядеть на Торвальда, кивал Харальд, — да.
— Я иногда вижу Хель, — Торвальд говорил страшные вещи как будто что-то об умиротворяющей погоде вокруг. — Говорю тебе как существо, связанное с тем миром — не суйся туда. Потому что на все твои вопросы оттуда обязательно отвечают полнее, чем тебе требуется. По крайней мере, твоему рассудку... Держи перед глазами Ингвара. Как плыл он прочь от сверкающего острова, чтобы спокойно дожить до часа отмеренного.
* * *
— Как весел пир у конунга Харальда!
К столам поворачивается крепыш, заросший светло-жёлтыми кудряшками до самых бровей. То ловкач-кувыркач, как называет людей весёлого дела Кнуд. Его с собратьями по умению пригласили из посёлка. Ловкач орёт, не щадя глотку:
— Вернулся он на зимовку в родную усадьбу! Богатую, щедрую для друзей конунга! Мало кого пригласил он, сидят самые верные! И не пустеют у них рога и чаши — льётся туда вино и пиво!..
В бедную голову Торвальда как раз накатывает тёплая винная дрёма. Воспоминания о родной деревушке, налетевшие после прогулки и тогдашнего разговора, то всплывают живыми мальками, то оседают обратно. Что-то тревожное — к чему эти воспоминания появились? — висит в дрёме неприятным грузом, не собираясь исчезать.
Рагнар багровеет похлеще сегодняшнего солнца. Свистяще смеясь, он рассказывает на ухо Торвальду об одном священнике с Эйре. Из пугающих божественной карой даже тех, кто помочился на соседов забор. Это для рассказа важно.
Священник был чистокровным уроженцем тамошних зелёных холмов, что было тоже неудивительно для баек. Однажды этот святой отец так яростно разошёлся в проповеди, что юный служка выронил чашу из вспотевших рук. Согласно звучавшему святому слову он был обязан их тотчас отрубить. Он нагнулся за чашей и за занавесью...
Торвальд давился от смеха.
— Догадываюсь, кого и в каком виде он увидел. Святого отца побили?
— Ну, раз уж спрашиваешь, лишить святого отца святого орудия не успели. Прежде чем сопляк сообразил, что надо кому-нибудь рассказать, прежде чем оскорблённый муж взял вилы, святой со всеми распрощался. Прихожанки горько плакали, уверяя, что без его наставлений потеряются в грехе безвозвратно.
— Кто б сомневался. Если их праведность держалась одними его заботами.
— Святой напоследок не растерялся. На прощании вытолкнул вперёд служку — мол, как достойнейшего преемника. Бедный мальчик упал в обморок, а на его лице остался шторм из самых разных чувств. «Любите ближнего своего», — сказал святой отец и пошёл дальше... Нет, следующей же осенью уйду в проповедники!
— И меня не забудь. Буду твоим служкой...
Харальд молча пил и ел. По-прежнему не веселился. Только перебросился с Сигрид и Трюггви парой слов.
Трюггви оживлённо болтал, не закрывая рта ни на миг. С Рагнаром, с Торвальдом, со Свейном, с Кнудом. И с кружившимися у столов служанками особливей всего.
Сигрид будто набрала в рот воды и застыла на своём резном стуле. В ней ничего не менялось, смотреть на неё было скучно. Да и некогда — Рагнар сыпал и сыпал новыми рассказами.
Когда Харальд поднялся и расставил ноги на ширину плеч, Торвальд мигом забыл про всё... Харальд собирался говорить о нём.
Харальд кивнул подбородком на свою чашу. Она тут же исчезла со стола.
Пока вытаскивали новую бочку, пока Горм размешивал и отчерпывал пиво, Харальд мелкими рывками одёргивал рубаху. Наконец, ему вернули наполненную чашу.
Разговоры за столами и среди слуг затихали, все поворачивались к пившему Харальду. Пил он долго; и пока чаша не вернулась пустая на стол, все следили за его скачущим кадыком.
Торвальд в своём подозрении оказался прав.
— Это я, Торвальд, пил за тебя, — растерев пену по усам, сказал Харальд. — Твоё чутьё в наших походах задержало отправление в Золотой-Чертог многим воинам. Каждому из нас, сказать по правде. Ты друг конунгов всего нашего побережья. Мало кто этим похвастается, да, Кнуд?
— А то! — Кнуд тут рыгнул. — Я вот погонял их в своё время! В жизни ни разу не хвастался, что их задницы помнят моё колено! — На это грянул хохот, и снова громче всех был Рагнар.
— Я очень благодарен тебе за прогулку... — долетели к Торвальду тихие слова Харальда.
Рагнар же, издеваясь, перечислял конунгов, которые согласно воплям Кнуда отплачивали ему как воспитателю неблагодарной неприязнью. Сип Харальда за этим можно было не расслышать, но Торвальд кивнул. Харальд опустился на стул, и Горм долил ему пива.
Как следует обдумать странное поведение Харальда, Торвальд толком не успел. Не успели расшуметься и прежние разговоры.
Напротив Трюггви в середине зала принялся выплясывать ловкач-кувыркач. Он принялся подмигивать служанкам, разносившим мясную похлёбку в горшках. Особенно служанкам около белого стула...
— Что смотришь? — спросил у него Трюггви.
Ловкач переглядывался то с Трюггви, то со служанками. Девушки тонко-тонко, мышками попискивали в кулачки, ну а накопив достаточно смешков, засмеялись в открытую.
Трюггви старательно удерживал непонимающее лицо.
Пухлые, будто покусанные роем пчёл, губы и щёки ловкача застыли в щербатой улыбке. Он протянул руку подруге рыжей и пошевелил двумя пальцами.
Та, с хихиканьем передав горшок, в спешке обходила стол. Добежать до ловкача не успела, потому что с засученными рукавами стал вставать Трюггви. Она юркнула в стайку к подругам, откуда всё и будет видно...
Трюггви прятал под усами расползавшуюся улыбку. Он походил на великана перед ловкачом, будучи шире в плечах и выше на полголовы, но ловкач не испугался. Трюггви всё разглядывал его, напрягая бёдра и закрепляя рукава на локтях браслетами.
Резким движением обеих рук Трюггви ударил в воздух около груди ловкача. И с хлопком встретил его подставленные ладони.
Пальцы крепко сплелись, и отпуская удержанный удар, ловкач упал на спину... Теперь они кувыркались, касаясь пола спиной одного и мысками другого.
По дому катилось настоящее живое колесо. С пола и к самому потолку взметались пыль, труха и солома. Колесо опасное, сплошь из железных мускулов и каменных костей, норовящее зашибить случайного зеваку — Уна, нёсшая очередные вёдра, под всеобщий смех отпрыгнула с бранью прочь.
На каком-то кувырке ловкач выскочил в сторону, разрушив ровный ход колеса.
Они снова встали друг напротив друга, сжав один другому пальцы в замки. Трюггви восстанавливал дыхание. Глубокими вдохами, как между погружениями.
— Давай, белая голова! — заорал Кнуд со своей лавки.
Его вопль все поддержали; и даже Сигрид соизволила растворить длинные ресницы. Орали, как всегда, охотно и громогласно.
Трюггви упруго, с силой ударил об пол ногами и подпрыгнул. Ловкач, проскользив по полу на колене, нырнул под его взлетевший торс.
Трюггви распрямлял локти, ловкач с приоткрытым ртом опускал колено, не сводя глаз с напряжённого лица Трюггви. Они словно поднимали под крышу новый столб, верхний конец которого оканчивался сапогами дорогой кожи, нижний — лёгкими тряпичными башмаками.
Руки ловкача не дрожали, будто держали прутики, а не вес большого молодого воина.
Серебряный браслет, звякнув по своему собрату другого плетения и серебряному кольцу, съехал Трюггви на костяшки. А с костяшек упал на запястье ловкачу.
Правая нога Трюггви упёрлась в лазоревый цветок с четырьмя листками на потолочной доске. Левая для равновесия согнулась в колене. Рубаха сползла, явив загорелую поясницу. А солома, поселившаяся в одежде и волосах, отцеплялась, колебалась и медленно падала.
На столах, как от порыва ветра из двери, очнулся мерный грохот. Ему так же кричали, когда приветствовали, и так же какое-то время назад — Харальду:
— Трюг-гви! Трюг-гви! Трюг-гви...
Трюггви выжидал. Сначала в его руках, а потом у ловкача дрожь стала явственной — и тогда только он спрыгнул на пол. От приземления звякнуло всё, что могло звякнуть, но поскольку губы Старой Уны поджались в неудовольствии, ничего не разбилось.
За столами ревели не хуже бычьего стада. Оттуда летели объедки, брызги слюны, выплёскивались вино, пиво... И Трюггви тоже ревел, кидая вверх порозовевшие кулаки.
Ловкач подошёл и по-дружески, чуть застенчиво приобнял Трюггви. Похлопав его под лопатками, протянул серебряный браслет.
Трюггви отмахнулся — оставь, мол, себе — сам обхватил ловкача за плечи и повернул к отцу:
— Таким вот было наше детство в коровниках.
Харальд, разом гордо и смущённо улыбаясь, поднял золотую чашу. Он кивнул Сигрид на неё, но та даже не шевельнулась.
И вжалась в спинку стула, когда Харальд потянулся перед ней на другой конец стола, сам ставя чашу на тарелку Трюггви. Трюггви выпьёт из неё, поощрённый своим конунгом.
Торвальд ткнул Трюггви кулаком в бок, когда тот проходил мимо их с Рагнаром стола. И он чувствовал горевшей щекой, что Харальд снова смотрит на него. Но, не подавая виду, откусывал с птичьей ножки белое мясо.
Его отгородил увесистый живот Рагнара, вставшего за пивом или вином — Торвальд уже не отслеживал, с чем там подкатывали бочки.
Тихие слова он расслышал не сразу. Подумал, что показалось, мало ли надуло в ухо. Морской рокот держится неделями.
Их смысл тоже дошёл до него не сразу.
— ...Предскажешь мне?
Шум от садившегося Рагнара разметал слова Харальда, как ветер кучу листьев. Но они достигли цели — въелись беспокойным клеймом в мысли Торвальда.
Только его могут просить об этом.
«Лучше бы я оглох вдобавок к глазу».
Торвальд прекратил перетирать челюстями мясо. На случай, если Харальд ничего не говорил, а ему всё спьяну показалось, он односложно ответил:
— Нет!
Голос сорвался, но вышло громко и твёрдо.
Там, на пустоши, обширной, необжитой, они с Харальдом были одни. Хоть и беседовали о потустороннем, никакой страх на Торвальда не находил.
А когда локоть постоянно утыкался в соседский бок, когда орал то один, то другой сосед, Торвальда охватил леденящий озноб.
«А может, ты, Тове, всего-навсего вконец пьян...»
Лавка под Торвальдом выгнулась вверх. То Рагнар опустился на неё с куском телятины, взятым с блюда разносчицы.
— Что нет? Пойдёшь с нами этой зимой? — спросил он у Торвальда.
— Куда?
— Могу повторить, — фыркнул Рагнар, запихивая телятину в рот.
— Пойду, — Торвальд задумчиво покивал. — Я же вроде согласился.
— Все бы так соглашались.
Дожевав, Рагнар раздул ноздри и громко гаркнул на весь зал — чтобы ответ Торвальда слушали все:
— Скажи-ка, кто налепил тебе шрам?
Свейн мигом съехал на конец своей лавки. В его голубых глазах засветилась радость мальчика, который любит рассказы о чудесах больше всего на свете. И слушает каждый по много-много раз.
Харальд тоже приготовился слушать, не упуская ни слова. Думая о своём и грызя кость. Угрюмость его никак не вязалась с редкими и едкими шутками, но с беглыми взглядами на Торвальда — вполне...
— А ну хватит! — грохнул перед тарелкой Торвальда маленький плотный кулак.
Как Кнуд тихо и незаметно выбрался из-за своего стола и подобрался к столу Торвальда и Рагнара, осталось величайшей загадкой.
— Ковыряетесь в бедняге, как сопляки в дохлой собаке! Поглядите, из-за вас он сидит и пьёт-заливается!
— Спасибо, Кнуд, — рассмеялся Торвальд.
— Один ты у нас почему-то не пьешь. Поспешил бы, — поковырял ногтём в зубах Харальд.
Зубы у Харальда были мелкие и частые, как у хоря.
— Чего? — взвизгнул Кнуд и угрожающе мотнул бородой. — Объясняйся!
— Так мы всё выпьем, а тебе не останется, потому что болтаешь с Торвальдом. Руки вон у тебя, как обычно, затрясутся, прольёшь вино на стол, и тут же, — Харальд сплюнул, перестав ковырять меж зубов, — слижешь.
— Вам спьяну тогда показалось!
Кнуд враз оглушил ухо Торвальда, на которое тот только недавно пожелал оглохнуть.
— Не было такого! Не помню!
К досаде Кнуда остальные помнили.
— Это, наверное, у меня язык нарывал, — веселился Рагнар.
Жалко и поэтому пресмешно озиравшийся Кнуд никак не находил Рагнара у себя же за спиной. Развернуться сил у него уже не хватало, а равновесие он держал, упираясь боком в стол.
— Пойдём, — махнул ему Рагнар, — отведу, а то глаза режет от твоей вони!.. Но как ты ревел! — говорил он, сажая Кнуда на место. — Мы даже хотели перепеленать тебя в сухое. И сделать сиську с молоком... Нет? А с пивом?
Пока все продолжали глумиться над Кнудом — разумеется. не без участия самого Кнуда — Рагнар, усаживаясь, неожиданно тихо спросил:
— Он у тебя правда ничего не видит?
Торвальд, сцепив пальцы у носа, ответил также тихо:
— Бывает, знаешь, ложки или камни шевелятся перед культей.
— Понял. А когда... — Рагнар замялся. — Что чувствуешь?
Он глотает слова из-за выпитого? Нет, Рагнар не таков. Он всегда идёт вровень с Кнудом и всегда выигрывает. И он сейчас серьёзнее, чем обычно натрезве.
Торвальд задумался. Ни на кого не глядя — с одним глазом это получалось лучше некуда — пожал плечами.
— Что-то вроде страха... Не знаю. Скорее всего, это и есть страх. Как у волка в пустой запертой овчарне. И согласись, этот страх понятен и не предосудителен.
Рагнар покивал, глядя круглыми глазами перед собою.
Ловкач там, в середине зала, как раз вручал Трюггви одну за другой странные длинные цепи.
— Но если честно, — Торвальд склонился к Рагнару поближе, — это страх маленького ребёнка. Когда к ребёнку обращается взрослый, тот чувствует себя совсем маленьким. Он молчит и боится смотреть вверх...
— Так ты видел Одина? — Свейн, оказывается, прилип к краю своей лавки и слушал его во все уши. — А Дев-Подбирающих-Души?
— Там нет никого, — ответил Торвальд. — Приходит лишь чернота, жирная, тесная. И страх, о котором я говорил. Противный, моросный, как лесной туман. Я стою в этом тумане, а предсказания как будто сами спускаются на язык.
Он хотел добавить ещё пару слов к сказанному, но в глаз полыхнуло что-то солнечно-красное. Пришлось даже заслониться ладонью.
Это ловкач зажёг один из четырёх яблокообразных светильников, которыми оканчивались цепи. Остальные три, полунаполненные маслом, стояли у его ног.
Служанки граблями откатывали утоптанную солому к столам и разливали по полу воду из вёдер. Ловкач ставил светильники крестом вокруг сапог Трюггви.
— Нам понравится? — съязвил Рагнар.
Не успел Харальд подколоть его в отместку, как Трюггви резким рывком дёрнул цепи, и светильники взмыли над белыми волосами.
Они летели бы дальше, но вот второй рывок — и цепи, четырежды звякнув, опали вниз...
Рагнар пропустил их взлет, пересмеиваясь с Харальдом. Что проделал Трюггви, он прекрасно знал — как и правильный ответ на свой вопрос.
— Научился у одного торговца с востока. Повторил сразу лучше него... — сказал с восторгом Харальд.
Он всегда плохо скрывал гордость за сына, по-детски непосредственную и трепетную.
Один из незажжённых светильников с глуховатым звоном столкнулся с горевшим. От удара из них выпорхнуло облако из огненных капелек, упавшее под ахи служанок прямо на рубаху Трюггви. Но не стоило бояться — перед этим девушки с охотою поплескали на него из вёдер.
Всё быстрее и быстрее летали по залу два горевших шара, и ой как тяжело за ними тянулись четыре цепи. Какая-нибудь из них то и дело, гудя, обхватывала пару раз талию Трюггви, разворачивалась, сталкивалась светильниками с другой — и тоже оканчивалась комком пламени.
Быстрее!..
Иначе не будет больше обманчиво лёгковесных движений. Не будет следующего разворота цепей. И нового жидкого пламени... Масла из стукнувшихся светильников, летевшего на пол, на рубаху, на штаны и кожу Трюггви.
* * *
Девушки в восторге!
Они желают стать этим огнём. Летать, касаться прекрасного беловолосого бога. Он бы направлял их, повелевал бы, как светильниками на цепях! Ах, вот бы!..
Но Гуннхильд не хочет смотреть. Она боится. Боится до слабости, от которой падают на пол.
Пламя пляшет стремительную весёлую пляску даже сквозь пальцы, прижатые к глазам.
Не страшно. Около Гуннхильд стоит ведро. Она, если что, подцепит ручку, и...
От масла выплеснутая вода загорится. Чёрный, переставший быть белым Трюггви закричит!..
Светильники угомонились. Встали на пол. Этого не случилось. Страшное кончилось.
Превратившаяся в дрожащий комок Гуннхильд подхватила ведро и вслед за служанками понесла его выливать на улицу.
* * *
Снова зал и весь дом затопили крики, и снова прыгали от грохота кулаков несчастные столы. В который раз за пир, и в третий — в честь Трюггви.
— Трюг-гви! Трюг-гви!..
Трюггви, сверкая как солнце, хлопал себя по предплечьям, по груди, и топтал мелкие язычки огня на полу. К нему подлетела радостная служанка с сухой чистой рубахой. Менее везучие её подружки, вылив за порогом вёдра с непонадобившейся водой, вернулись разгребать ворохи соломы обратно по полу.
Восхищались сейчас Трюггви даже больше, чем после выходки с ловкачом. Ведь если он творит чудо со светильниками, то что умеет с мечами и топорами?
— Вот такой у меня сын, вот, — бормотал довольный Харальд и грустнел: — А я... Я же...
Он долго ещё что-то разъяснял себе и другим посреди бурляшего перекрикивания. Пока Торвальд вдруг не услышал:
— Эй-ка, Торвальд!
Оклик долетел, как прицельно пущенная стрела из гущи схватки. Бурление стихло — все знали, когда время смолкнуть. И на сей раз внимательно прислушались. Окликал Харальд...
У Торвальда похолодела шея. Он решил не смотреть на Харальда. Трюггви, подмигивая девушкам, переодевал рубаху, и Торвальд смотрел на его голую спину.
— Если отбросить ненужные скабрезности, — просипел Харальд. — Такие проклятые, как ты, всегда предсказывали смерть. Чем и, — Он неловко засмеялся, — прославлялись. Сами... И со своими жертвами.
Харальд сгорбился под невообразимым углом, стоя над столом, и косы его безжизненно свисли вниз.
— Ты мой брат, Торвальд, — Он выдохнул с протяжным хрипом и повернул голову, — потому что когда-то спас мне жизнь. Для тебя это тоже немало значит. Ты не откажешь брату?
Его взгляд, прожигающий, с каким-то больным вызовом, требовал от Торвальда хотя бы кивка. Глаза были колючими точками на злом красном лице.
— Сядь, — шепнула Сигрид. — Выпей.
Её ладонь, узкая и изящная, легла Харальду на плечо. Зарычав, Харальд дёрнулся от неё как от ножа.
— Не молчи!
Торвальд грыз пальцы. Бешено колотившееся сердце успокоить никак не получалось. Из-за повисшей тишины он подумал:
«Мои мольбы услышаны. Я оглох... От Харальда, а не от Кнуда. Что за глупость! Мечтай, конечно...»
— Обезумел... — Рагнар потёр взмокший лоб.
— Говори, как я умру!.. — закричал Харальд. — Докажи, что не зря сидишь за моим столом!
Рагнар лишь слегка напряг связки, но разметал Харальдов сип в шелуху:
— Хватит. Ты пьян.
Сигрид благодарно — невозможный случай! — закивала Рагнару. Руки её, цеплявшиеся за рубаху Харальда, выглядели слабыми и тонкими.
«Что пена морская может сделать утёсу? — К Торвальду неожиданно пришли слова песни. — Сточить его спустя вечность».
Правда, посадить Харальда прекрасные руки хотели немедленно, не спустя вечность.
— Зачем? — спросил Торвальд, осмелевший после слова Рагнара.
Теперь все смотрели на него, и следовало объясняться.
— Харальд... Не стоит шутить со старухой Калмой. Она обязательно пошутит в ответ. А шутки у неё слишком злые. Тебе повезёт, если ты уяснишь это не столь поздно, как те твои конунги.
«Почему боишься, что посёлочного дурака, который поджёг хлев со свиньями, вспоминать будут дольше?..»
Все воззвания к разуму пьяного Харальда будто проваливались в пустоту под зыбучим песком. Тот то краснел, то бледнел, и жалобно сопел раскрытым ртом.
Пока, наконец, не заорал в дрогнувшей тишине:
— Говори!.. Или не ты у нас Меченный-Одином? Вёльва наша в штанах!
Он никого не хотел слушать, кроме Торвальда. Да явится сам Один в блистательном величии, или ледяной великан обрушит кулак на крышу усадьбы — Харальд от Торвальда не оторвётся.
Все молчали и боялись. Ужас был не в том, что Харальд напился и несёт глупости. Харальд, бывало, орал и вёл себя куда хуже — но в конце-концов, он такой же человек, как они. Ужас был в том, что он кричал про свою смерть искренне. Он потерял какую-то важную для себя опору. А вдруг он сам, как конунг, перестанет быть опорой для них? Тогда их безоблачная жизнь сильных, уверенных людей кончена. Вот что станет подлинным ознаменованием смерти... Вроде того, какое от Торвальда сейчас требует Харальд. И поэтому в глубине души все трепетали как дети.
Торвальд ощущал, что успокаивается. Он как-то быстро устал. Животный страх, охвативший его было, таял — чем громче в криках Харальда прорывались взвизгивания, тем быстрей таял.
— Ладно, — скривил он горько губы, — посмотрим, будет ли срубленная сосенка тебе по плечу.
Харальд, поддаваясь рукам Сигрид, опускался, и выражения его лица стремительно менялись. Один ли хмель был тому причиной?..
— Ты хозяин, а я гость, — Торвальд растягивал слова, словно капли из вязкого смоляного потока. — Если хочешь, скажу.
Донельзя довольный, сияющий Харальд откинулся на спинку стула.
Кнуд засмеялся, хлюпая ртом и горлом как в припадке. По его маленьким круглым щекам потоком текли слёзы.
Торвальд поднял подбородок, сверкнув свечой в белом глазе, и сжал бескровными пальцами свой рог с вином.
— Пойми, я пытаюсь не делать того, из-за чего выкидывают за пределы усадеб. И толкаю тебя от пропасти, в которую ты лезешь. Мы, кажется, ясно поговорили об этом на пустоши. Ты после... По-прежнему хочешь от меня предсказаний?
Под его жалобным взглядом поверх Рагнарова плеча Харальд втягивал шею в плечи и откидывался назад. А коснувшись затылком спасительной стены, ответил:
— Хочу.
Он мог не подтверждать желание — Торвальд уже готовился говорить требуемое. Слишком узко было для отступления, и подобно Тюру, Торвальд уже тянул руку к клыкам Фенрира... В ухо сунулся невидимый шершень. Большой, суетливо ворочающийся. Он решил устроить тут гнездо и пригласить шершениху с шершенятами.
Как пласты песка с обрыва, с языка Торвальда сорвались слова:
— Дай чашу, из которой пьёшь.
Спасительное, как воздух под водой, сознание угасало, слова выговаривались странно, нараспев. Чернота с левой стороны разорвалась, и прозревшее око за столбом около входа углядело ярко освещённую дочь Сигрид с глазами на пол-лица.
* * *
Гуннхильд не вытерпела. Надо выйти, а то она ничего не понимает.
Каким будет колдовство Одноглазого?.. Старая Уна на солнечный Йоль колдовала в птичнике. Девушки прятались по углам — прямо как Гуннхильд сейчас за столбом — а Уна прыгала в вывернутом полушубке, то ухала филином, то кудахтала, как снёсшая яйцо курица...
* * *
«Что, Харальд, так смотришь на свою золотую чашу? Она только появилась на твоём столе? Или покрылась золотом только теперь, от моих слов?»
Вероятно, эти странные мысли вместе с Торвальдом думал и Харальд.
Чаша словно с нетерпением ждала, чтобы её передали просящему. Харальд отпил с неё, не слишком-то и скрывая страх... Вытерев усы, он исполнил желание чаши.
— Рагнар, шевелись. Делай, что просят.
Рагнар выпрямил руку с чашей, будто то была дохлая гадюка.
Точным, каким-то тысячу раз выверенным движением Торвальд принял чашу и отодвинул локтём свою тарелку. Открылась выбоина в столешнице, заметная даже под несколькими толстыми скатертями.
В неё выплеснулось пиво из перевёрнутой золотой чаши. Торвальд подлил вина со своего рога. Из-за пива лужица запенилась. Вино потеряло винную природу и холодноватый тёмный оттенок.
Торвальду было бессловесно, но жёстко приказано поднести правую руку к лужице...
«Скажите, — заговорили в мыслях Торвальда чужие голоса. — Не свежая ли это кровь шипит там на столе? С вызовом и упрёком... Мол, зачем вы пролили меня? Я пролилась, а ваша почему не льётся?»
Вино и пиво пропитывали одну за другой скатерти, испарялись и высыхали в розово-серые разводы.
Из мокрого пятна в растопыренную ладонь Торвальда будто кто-то колотил. Пальцы торчали в стороны, как обломанные сучья, и ходили ходуном. Суставы трещали, кости почти ломались даже в самой ладони. Нижняя челюсть Торвальда отвисла, словно мышцы его щёк безвозвратно ослабли. С кончика носа свисла капелька пота. На лбу и сзади на шее тоже блестели капли. И во всех них плясали свечи...
Белый слепой глаз видел. Видел, даже когда к Торвальду вернулась речь. Говорил сам Торвальд, но от этого было только страшнее:
— Смерть твоя на руке человека, который мог стать самым близким тебе. Ближе некуда. Твоею второй душой, — летел с его губ шёпот. — Сильно обижаешь ты людей, Харальд. Обида пустила корневища в то сердце и оттуда портит горечью душу и рассудок. Этот человек сейчас тут, под твоей крышей. Почти что рядом с то...
Связками, языком и губами Торвальда овладели нечеловеческие голоса — произошло то, о чём он предупреждал. Что-то вырвалось из другого мира и заставило вещать Торвальда...
Из Торвальда говорили быстро, малопонятно и много. Гости, хозяева, слуги жадно ловили каждое слово, но речи будто текли сквозь очень крупную сеть и почти сразу забывались.
... Женские голоса, завывавшие, сокрушающиеся, упрекали Харальда. В том, что он однажды не заметил, как зарубил росток дуба, который рос ему на верный щит. Что он отшвырнул камешек, который добавил бы прочности стали его меча... Что тогда он ничего не понял.
... Другие голоса, хриплые, грубые и старые, глухие, неповоротливые, как ил, обвиняли Харальда в трусости. Мол, отошёл с тропинки, по которой все ходят, а ошибку не исправил — и не понял ничего! Ничего!..
Словно устав передавать, Торвальд застыл, замороженный.
— Как? — кашлянул Харальд и решился сам спросить у пришельцев: — Скажите... Как я умру?
Торвальд положил пальцы на веки — рука из сломанной обратно превратилась в здоровую:
— Огонь бьёт по глазам.
— Живо погасить всё! — подскочив на стуле, рыкнул слугам Харальд.
— Не здесь.
Торвальд вздохнул и устало поскоблил шрам костяшками. Глаз, из которого ушёл иной мир, чесался. Как всегда, отчаянно жаждал задержать хотя бы такой признак своего здоровья... Успокоить чесотку можно было, лишь вырвав его.
— Не здесь, не здесь, — Торвальд качал головой. — Это не огонь от здешних слабеньких свечек. Я мало что увидел, мой дорогой брат, поэтому не отвечу тебе так, как ты хочешь. Единственное, чем могу тебя утешить... Мне сказали, что я тоже умру вместе с тобой. Той же смертью.