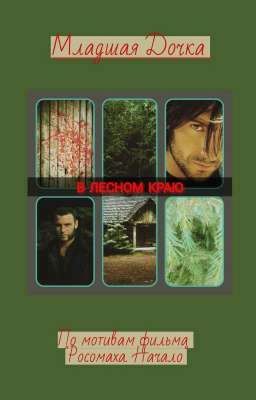12. Рухнувший мир
Джейми шёл вровень с братом, иногда косясь на него. Тот, как и всегда, был неопрятен: продранная во многих местах, запачканная бурыми пятнами одежда, в хлам убитая обувь, при внимательном взгляде почти не скрывавшая острых звериных когтей на ногах, волосы и поросль на лице, которые никто никогда не чесал, не стриг и не брил, топорщились и лоснились от жира. Вик не мог пойти ни в цирюльню, ни в общественную баню, и потому смотрелся истинным лешим или дикарём, для чего-то нацепившим человечью одежду. Самому Джеймсу тоже, конечно, нечасто приходилось мыться, стричься и переодеваться, а посему и у него порой всё висело патлами и торчало в разные стороны, и всё же Виктор выглядел совсем уж диким бродягой или беглым каторжанином, но, похоже, не думал об этом.
Животное. Джейми с детства усвоил это. Мать строго следила за тем, чтобы младший из её сыновей никак не пересекался со старшим. Она панически боялась, что Виктор причинит Джеймсу вред или научит чему-то дурному, и потому была нервной, резкой и даже сердитой в те моменты, когда заставала детей вместе. Отчим, судя по выражению лица, которым всегда сопровождалась его встреча с когтистым пасынком, не выносил его, презирал, из последних сил терпя в своём доме, но вслух своё недовольство высказывал крайне редко — достойным был человеком, что и говорить. Тому, чтоб Вик и Джейми изредка общались, он не препятствовал. Он всегда говорил: «Смотри, сын, каким ты не должен быть. Это тебе живой пример всего самого дурного в людской природе, что отразилось даже на внешнем виде, а не только на повадках».
Джейми в те моменты глядел на старшего брата глазами матери и её второго мужа, и не видел ничего, в чём мог бы возразить им. Вик был как будто бы чужим, словно не из этого мира — отстранённый, отчуждённый, отталкивающим, точно какой-то лесной зверь, по ошибке созданный похожим на человека.
И всё же младший брат никак не мог понять: был ли старший таким всегда или стал со временем. Всё укладывалось бы в однозначные суждения взрослых, если б не одно «но»: в памяти Джеймса хранилось одно очень странное, смутное воспоминание из такого далёкого и раннего детства, что даже удивительно было, как оно сохранилось, не исчезло, поглощённое временем. Юный Хоулетт помнил, как над ним, ещё и ходить, наверное, не умевшим, склоняется мальчишечье лицо — настороженное, напряжённое, грустное, детское будто бы лишь на первый взгляд, а если всмотреться, то полное чем-то, очень далёким от счастья и наивной беззаботности. Голова дёргается в одну сторону, в другую, будто хозяин её чутко прислушивается к чему-то, принюхивается, но потом, убедившись в чём-то, начинает говорить. Тихо так, судя по всему, чтоб не быть услышанным, обнаруженным на месте своего маленького преступления, но с жаром, будто на что-то жалуясь, что-то силясь объяснить, выплеснуть. Вот бы вспомнить Джейми те слова, да их смысл терялся в глубине прошедших лет, в его собственном в те мгновения малолетстве, но они как будто стучались к нему, в его душу: «Пойми, мол, Джейми, пойми, пойми!» Удалось ему достучаться или нет, но вот уже, выговорившись, мальчик, что склонился над колыбелью, вдруг улыбается. Печаль ещё не до конца ушла из глаз, но взгляд стал каким-то чуть более открытым. Губы расходятся, разъезжаются в улыбке, не скрывая острых зубов, но Джейми не страшно, Джейми смеётся, вторя старшему брату. Когтистая рука повисает над самым лицом Джейми, забавно шевелит пальцами, «пугая» длиной когтей, но Джейми ничего не боится, он храбро тянет к ней свои руки. А Вик уже вовсю хохочет, над чем только — непонятно. Но кажется таким простым и обычным, как всякий, кому семь лет или чуточку больше, как всякий мальчишка, которых позже Джеймс видел на улицах городков и посёлков. Он кажется своим, родным, настоящим.
Так что же с тобой случилось, Вик? Когда? Почему? Где же ты, мой брат, который смеялся, играя со мной, который не был от рождения жестокой тварью и имел в себе что-то человеческое? Неужели умер когда-то давным-давно? Неужто сожрал тебя дикий зверь? И если так, то... отчего же? Отчего кровожадная и бездушная тварь победила, почему добрый смех обернулся злобным дурным оскалом?
Как так, брат? Что за шутки такие нелепые и кто так над всеми нами потешается: бог или дьявол? Оба хороши, по всему видать. А мы с тобой — майся.
Джейми едва слышно вздохнул, сжал плотнее обычного губы, в тяжёлой задумчивости свёл к переносице брови и быстрее зашагал от лесной опушки к городской окраине — там, должно быть, людно уже, а значит Вику надо будет прятаться и пробираться к борделю окольными путями.
***
Братья, привыкшие подолгу, бесшумно и неподвижно сидеть в засаде, чтоб добыть в лесу пропитание, уже часа два как наблюдали за тем, что творилось в ночном заведении среди дня. Обитательницы публичного дома ранними пташками, понятное дело, не были, а потому какая-либо жизнь внутри здания и двора при нём текла сейчас вяло, практически едва шевелилась: изредка слышались женские голоса, их переругивания, покрикивания на прислугу, недовольное ворчание охраны, что «глупые куры своим кудахтаньем разбудили в такую рань» и прочее, во что вникать молодым людям было откровенно неинтересно. Время от времени на пустынном и неухоженном заднем дворе появлялись девицы и кто торопливо, кто вяло проходили к небольшим деревянным развалюшкам, которые, судя по своеобразному неприятному запаху, являлись тут отхожим местом.
Подбирая юбки, чтобы не запачкать, девки пробирались туда, спустя некоторое время выходили, наскоро всполаскивали руки в бадье с водой, стряхивали капли с пальцев и возвращались в свой дом терпимости, отвратительное место, которое никак не умещалось в понятия Джейми о том, как должен быть устроен мир людей.
Джеймс был уверен, что и Грейс вскоре выйдет, чтоб посетить вонючие, дышащие на ладан постройки, ведь каждому человеку — нравится или не нравится ему уборная — вынужден был наведываться туда в день раза хотя бы по три-четыре. Вик откровенно скучал, хоть и ничем особо не выдавал своего недовольства — не впервой ему, бывалому уже охотнику, было караулить и терпеливо ждать подходящего момента — он лишь с каким-то меланхоличным видом отрешённо чертил когтями на сыроватой земле дурацкие рожицы и что-то корявое, но явно напоминавшее голые женские фигуры.
Джеймса это откровенно раздражало, но обвинить брата тут было не в чем, и он, немного нервничая, продолжал ждать Грейс.
Что-то нелепое едва улавливалось во всём этом, каким-то неощутимым эфиром витало в воздухе, но Джеймс не привык сомневаться в своей правоте. Решил — сделал. Всё по совести — по-другому Хоулетт не поступал. Он спасёт девчонку, вызволит из этой клоаки, и ничьи грязные лапы больше её не коснутся — слово мужчины!
А если она будет не против, то...
На этой весьма заманчивой, будоражащей, но какой-то туманной, что ли, мысли он и запнулся, увидав, наконец, объект своих то ли возвышенных, то ли низменных желаний. Девица шла по шатким настилам, которыми стыдливо прикрывалась тут расхлябанная после недавних дождей земля. Вид у неё был довольно бодрым. Джейми, хоть приёмный отец и учил его быть скромным, всё же списал хорошее настроение Грейс на свой счёт, и от этого ещё больше воспрянул духом и наполнился решимостью свернуть хоть горы, хоть шеи. Шеи... Нет! Желательно бы обойтись без этого. Хотя Вик, пришедший сюда именно за этим, непременно ввяжется в драку. Однако пока что Крид, заметив сперва оживление брата, а потом и его причину, не подавал каких-либо признаков того, что намерен сотворить нечто дурное. Он лишь, с интересом оглядев девушку, одобрительно подмигнул Джеймсу и неспеша, встал с земли. Хоулетту пришлось тут же последовать его примеру — не то ещё напугает Грейс до икоты. Может ведь, чертовщина ходячая!
Поэтому Джеймс, не медля и мгновения, подбежал к своей первой женщине и перегородил ей дорогу.
Грейс ахнула. Видимо, напугать мог не только Виктор. Однако длился испуг недолго, потому что вслед за ним пришла смесь некоторой едва заметной радости и уже более ощутимого недовольства. Джеймс только сейчас сообразил, что стоило бы дать девчонке сходить туда, куда она шла, а не вставать у неё на пути, сбивая пусть и своеобразные, но всё ж таки планы.
— Ты зачем сюда вернулся, Джейми? Я ж говорила... — сердито начала она, но запнулась, увидав Вика, который ленивой походкой вразвалочку приближался к ней, вид при этом имея самый неоднозначный, особенно если учесть, что когти он выпустил на всю длину, и, красуясь, сверкал клыками. На языке его больных животных повадок это означало интерес: Крид то ли стремился как можно сильнее обескуражить такими вот выходками, то ли считал свои звериные атрибуты неотразимыми. Но, как бы то ни было, Джеймс, пока не стало поздно, поспешил представить его опешившей девке.
— Это Виктор — мой брат. Не бойся, — сказал он, хватая Грейс за красивые полуголые плечи. — Мы заберём тебя отсюда, и тебе больше не придётся спать чёрт знает с кем за деньги! А если захочешь, папашу твоего разыщем и призовём к ответу.
Джеймс был уверен в том, что сейчас они, с дракой или без, но покинут этот грязный притон, и уже внутренне ликовал от того, что вот-вот совершит свой первый достойный поступок, да и Вика беспутного вовлечёт в хорошее дело (кто знает, может, тому ещё и понравится быть человеком!), но девица, на которую он возлагал столько своих необузданных надежд, посмотрела на него удивлённо, похлопала прелестными большими глазами и тут вдруг зачем-то закрыла лицо рукой.
— Дже-е-е-ейми!.. — протянула она, непонятно какое выражение пряча за изящной ладонью. — Да ты это всё всерьёз, что ли?
Вот тут настал черёд юноши обескуражено хмурить брови и пытаться понять происходящее.
— Всерьёз. А как же ещё? — воскликнул он, сильней сжимая хрупкие женские плечи.
Грейс наконец убрала руку от лица, вздохнула и, виновато глядя в горящие, ждущие ответа глаза своего недавнего клиента, произнесла:
— Джейми, милый, да это ж байка была — про отца-то. У нас у всех таких — вагон и маленькая тележка, потому что клиенту наплевать, кто мы и как сюда попадаем, он всегда из праздного любопытства спрашивает, а уйдя, тут же забывает всё то, что мы ему натрепали...
— Мне — не наплевать! Я — не из любопытства! — Джейми не любил, сильно не любил, когда ему врали, лгуна он презирал так же, как и предателя, но полуразумная-полузвериная решимость всё ещё полыхала в нём и заставляла, не отступаясь от намеченного, во что бы то ни стало вызнать у прелестной обманщицы правду. Вдруг не всё так просто, как кажется?
— Джейми, ты такой славный. Ты, может быть, вообще единственный такой на свете... настоящий. Мне бы, может, и хотелось с тобой убежать, но... — девушка смотрела на парня, как на ребёнка, одновременно милого, какого-то необычайно честного и благородного и в то же время до смешного наивного, и, казалось, глубоко сожалела о том, что не может вот так вот взять и прыгнуть в омут с головой.
— Какие «но», если сама говоришь, что хочется? Раз хочешь — беги! — Джейми не знал иного подхода к жизни, чем тот, к которому привык, и потому не мог понять сомнений девушки. Он разочаровался в ней, он резко захотел высказать ей всё, что думал, а потом развернуться и уйти, но всё медлил, ожидая дальнейших объяснений.
— Джейми, я племянница хозяйки борделя. Да, и мне часто приходится обслуживать неприятных клиентов, да, бывает очень тяжело и грустно, но ты пойми, что я здесь неплохо живу, о многом могу договориться с тёткой и с охраной. Однажды, может быть, бордель перейдёт ко мне! А ты предлагаешь сбежать неизвестно куда. И чем я там буду жить? Или ты возьмёшь меня на содержание? Так на что? Кажется, все свои деньги ты на меня уже минувшей ночью потратил...
Красотка из борделя всё говорила и говорила, а у Джейми с каждым её словом на душе становилось всё горше и горше, всё гаже и гаже. Он всё больше хмурился и морщил нос, будто слова Грейс — его первого и такого чёрного разочарования — источали вонь, как какая-нибудь стервятина.
Ложью было всё, от начала и до конца! Ею, должно быть, пропитан весь мир, коли даже такие юные создания врут, как дышат, и так ужасно, так отвратительно рассуждают. Джеймсу уже и не от того в большей степени было противно, что в постели с ним проститутка, судя по всему, притворялась довольной и счастливой, не от того, что он смотрелся теперь дураком со всеми своими возвышенными мечтами и намерениями, а потому, что молодой развратнице, похоже, не претила такая жизнь, более того, она даже строила планы о том, как однажды сама станет содержательницей этого проклятого заведения и будет продавать тела других девиц любому, кто оплатит.
Мир Джеймса Хоулетта однажды уже рухнул в одночасье, назад лет десять, теперь же он обвалился до конца, уже совершенно бесповоротно. Раньше ему казалось, что всё вокруг пропитано правдой, той самой высокой правдой, о которой читала ему мать перед сном, и о которой говорил отчим, уча рассуждать и поступать по совести. И для того, чтоб этого самого добра и этой справедливости не стало меньше, ему, Джеймсу Хоулетту, надо просто бороться с дурным в себе и стараться быть человеком.
А по всему выходило, что и людей-то на свете не водилось — одни лишь твари, погрязшие в дерьме по самые уши.
Джейми эта мысль убивала, пронзала насквозь, от неё больше всего на свете хотелось спастись под крылом у милосердного, всегда дающего надежду неверия. Этот великодушный ангел-хранитель, должно быть, никого не оставляет в беде, даже самых пропащих. Видно, и мимо Джеймса не пролетел он, и юноша, как тонущий за верёвку, ухватился за его незримые одежды.
«Не может быть, чтоб весь мир был таким! — решил молодой Хоулетт, борясь со смертельным холодом внутри себя. — А если вдруг всё плохо, то хоть один честный человек на этой земле да будет!»
Нет, двое — за Вика Джеймс тоже будет бороться. Брат часто говорит, что Джеймс упрямый. Да, упрямый. Но лучше быть упрямым дураком, чем исчезнуть в клоаке, полагая, будто просто сумел приспособиться.
Он хотел уж было что-то ответить, но старший брат опередил его. Виктора, похоже, ничего не смутило, но претило то, что придётся уйти без добычи.
— Извиняй, красотка, но мой брат пожелал взять тебя в постоянное, единоличное и безвозмездное пользование. Так что пойдём-ка.
С этими словами Крид с присущей ему наглостью, бесцеремонностью и бескомпромиссностью вплотную приблизился к девке, по-хозяйски приобнял, намереваясь увлечь за собой, но та, прервавшись на полуслове, вдруг буквально задохнулась от возмущения и злости, вырвалась и залепила Вику пощёчину.
— Лапы убрал! С тобой уж точно никуда не пойду, жи... — она осеклась, в какой-то миг поняв, что наговорила лишнего; вся спесь мигом схлынула, и вместо резко пахнущего гнева от неё потянулся липкий, приторно-сладковатый, точно тополиные почки, запах страха.
Если честно, то испугался в тот миг и Джеймс. Испугался того, что не успеет спасти дурочку.
Ибо Виктор, до того снедаемый лишь похотью и некоторым интересом к возможному небольшому приключению, в мгновение ока переменился в лице, в нём шквалом безумия пронеслось нечто дикое, злобное, закипела едкая звериная кровожадность. Он оскалился, недобро сморщил нос и снова на всю длину выпустил когти, но уже не для того, чтоб произвести впечатление.
Он был невыразимо страшен в такие моменты.
— Ну, договаривай, сука... — весь бледный от ярости, тихо и зловеще процедил Вик в лицо застывшей в ужасе девушке; ей сильно повезло — старший зверь промедлил с расправой, и младший успел подскочить к нему, чтобы встать между ним и жертвой.
Вик тяжело дышал, в груди бешено, гулко стучало. Крид иной раз сам, посмеиваясь, говорил, что не желает противиться своей природе, однако терял всякий разум, когда слышал в свой адрес это обидное, будто плевок, слово: «Животное!». Он убьёт и не моргнёт глазом, как медведь, которого потревожили, как душегуб, которому нравится запах смерти. И не остановит его ни пол его жертвы, ни возраст — ничто. Разорвёт, насладится и тут же забудет. Нет в нём ни разумения о том, что жизнь человеческая бесценна, ни страха перед Богом и его судом, ни простого милосердия к жертве, смягчающего дикое сердце.
— Стой, Вик! — перед лицом Крида, почерневшим от необузданной, первобытной злости, рассекли воздух три длинных, острых когтя. — Это всего лишь дурная девка, брат. Уйдём отсюда.
Виктора, который продолжал скалить клыки, испепеляя ненавидящим взглядом застывшую в ужасе проститутку, когти Джеймса, разумеется не пугали, но как было иначе отрезвить его, заставить прислушаться к словам, хотя бы попытаться воззвать к чему-то в нём, что младший брат упорно приписывал ему, даже несмотря на то, что в упор не видел этого, не чувствовал сердцем, не верил разумом.
— Я никуда не уйду отсюда, пока не сделаю то, за чем пришёл, — прохрипел Крид, одним только тоном голоса, одним адским блеском в глазах руша все надежды на то, что удастся вразумить его словами.
Драться придётся. Джеймс всегда, как только мог, избегал кровопролития, до жути, до смерти страшась вновь стать убийцей, свалиться во мрак преисподней. И так уже крови целое море пролил. А ведь обратно не вольёшь, ничего назад не воротишь. Да, Вик оживёт, даже если проткнуть его насквозь в области сердца, но... До сей поры братьям приходилось лишь баловаться этим — чисто по-дружески вымещать друг на друге излишек скопившихся в молодом теле сил: без злости, с одной только молодецкой удалью, желанием посостязаться, похвастаться умом, мощью и ловкостью. Однако биться с Виктором по-настоящему Джейми ещё не пробовал — иной раз подмывало от досады на его лютые и бессовестные повадки, да сдерживался. Брат ведь. Негоже с ним ссориться, даже имея самые благие намерения. Не хотелось и теперь. Вернее, когти того желали до невыносимого зуда в лунках, кипящая кровь чудовищным болезненным напором била в голову, мешая думать, но юный Хоулетт, боясь сорваться, держался.
— Виктор! — без отрыва глядя Криду в глаза сквозь костяные клинки собственных семидюймовых когтей, тоном твёрдым и властным, какой всегда безотказно действовал на непутёвого брата, он взывал если не к его сердцу, не к пониманию, то хотя бы уж просто к той странной послушности, которая все эти непростые годы их одиноких скитаний помогала Вику сохранять некоторую видимость чего-то человеческого внутри.
Вот-вот старший брат под неукротимым напором младшего привычно скрипнет зубами, напряжённо вздохнёт, сглотнёт все свои отнюдь не благие намерения и недовольно отведёт взгляд в сторону.
Вот, собственно, так оно и вышло. Пообижался, поматерился сквозь зубы — да, но и всего-то. Сто раз уже было так.
Вот только...
Джейми с настойчивым тревожным набатом в сердце проследил за тем, куда смотрели затуманенные безумием серые глаза Крида, вновь отразившие в себе отвратительно-радостное, неуёмное и непонятное Хоулетту желание убивать... Не со злости даже, не от обиды, а просто так, чтобы нюхать потом с упоением перепачканные кровью когти.
— Эй, парень! Ты, никак, пришёл долг вернуть? — послышалось со стороны того самого чёрного хода, откуда несколько минут назад вышла Грейс, теперь ошарашено притихшая у стены.
К Джейми и Виктору, которые за миг до того только-только, можно сказать, расцепили когти, приближались трое здоровяков, в двоих из которых Хоулетт узнал охранников борделя. Третий же их приятель был ему не знаком. Однако кем бы они ни являлись, а все надежды Джеймса уйти и увести отсюда брата подобру-поздорову рухнули с таким же треском и грохотом, как и вся картина мира, красиво и стройно возведённая когда-то мальчишеской мечтательностью, наивностью и максимализмом.
Придётся драться. Придётся убивать. Неизбежно...
Чёрт бы побрал эту проклятую жизнь, в которой уже ничего не исправить.
Вик ощерился, предвкушая пир горой для своей жестокой звериной натуры, а три молодца, на миг встав как вкопанные, удивлённо переглянулись.
— Хм... Забавные зверушки, — промолвил вдруг один из них, тот, что был совсем не знаком Джеймсу. — Изловить бы да в цирк продать...
Думал, видать, что услышат только его товарищи, но что у Джеймса, что у Виктора слух был не чета людскому. Никто бы ничего не успел предпринять в тот момент, когда Виктор, оттолкнувшись от земли, взвился в воздух и одним нечеловеческим прыжком, какие всегда выходили у него отменно и редко подводили на охоте, в одно мгновение настиг болтуна, ударом когтистой пятерни вскрыл тому грудную клетку и опрокинул, порвав человеку глотку.
Джеймс всегда в такие моменты внутренне холодел и закипал одновременно. Когти, можно сказать, сами начинали показываться из лунок, а разум цепенел от ужаса и непоправимости всего того, что вот-вот непременно случится.
В отчаянии юный Хоулетт, которому так хотелось считать себя человеком и при этом заслуживать это высокое звание, боролся с собой, медлил и точно в очередном ночном кошмаре наблюдал за схваткой озверевшего старшего брата и двух охранников из «вполне себе приличного» борделя.
Двое мужчин, которым на вид было не меньше тридцати пяти, разбежались в разные стороны, один выхватил из-за отворота сапога нож и метнул его в Виктора. Тот, каким ни был остервенелым, всё же взвыл и опрокинулся навзничь — метко пущенное в его сторону остриё вонзилось ему в правый глаз, а второй из противников, вооружённый кинжалом, наскочил со спины и пырнул под рёбра.
Виктор взревел, одним рывком выдернул нож из окровавленной глазницы и попытался всадить его в человека позади себя, да промахнулся, и в тот миг, когда на раненого старшего брата накинулись оба охранника с явным намерением искромсать к чёртовой матери, когти младшего всё решили за своего хозяина. Вечно-то он, хозяин, сомневался, не знал — любить или ненавидеть их, пользоваться или забыть навсегда об их существовании. Всё-то он сдерживал их буйный от природы норов. Что за дурь в голове? Царь, вернее. Ишь, выискался! Не указ он когтям, и нет иного закона, кроме того, что надлежит им писать кровавыми росчерками.
Джейми-зверь и Джейми-брат, опомнившись, наконец, подскочил к одному из людей и насадил того на когти — не успел он и пикнуть. Вновь у Джейми была кровь на когтях, и в душе кровь. Её запах резал, щипал в ноздрях, истекая из тела убитого. Шесть довольных когтей ликовали и требовали продолжения, а Джейми-человеку хотелось сгинуть. Раз и навсегда. Всем на благо.
Посчитав, верно, что старший оборотень, наполовину ослеплённый и смертельно раненый, уже не представляет угрозы, последний живой ещё охранник ловко отскочил от костяного оружия того, что казался помладше, обманным выпадом заставил на миг потерять равновесие. Крутанувшись, крепко ударил стопой под колено, повалил на землю, придавил сверху и приставил к горлу остро заточенное, мгновенно пустившее кровь лезвие.
Поверженный юноша, хрипя и выплёвывая грязь, в которую его только что с позором в буквальном смысле слова ткнули носом, выругался, хотя разобрать, куда именно и за каким делом он посылает такого-то сына такой-то матери разобрать было невозможно.
— Лежать! — точно собаке скомандовал победитель, довольный собой и источающий запах бахвальства и далеко идущих грандиозных планов. — Вот уж правда за такую зверушку целое состояние отвалят...
Джейми, пока безуспешно, но на все лады костеря своего врага, попутно пытался сообразить — рискнуть ли перерезанным горлом ради того, чтоб извернуться и раскроить к чертям собачьим наглого размечтавшегося недруга, как вдруг тот, едва успев договорить, вскрикнул и, черканув парня ножом по щеке, отклонился назад и в сторону.
Джеймс в мгновение ока воспользовался этим и вскочил с намерением прикончить обидчика. Однако с ним уже расправился старший брат, в котором почти невозможно было узнать человека. Знакомый до боли в душе, что сильнее любой телесной, и в то же время такой, о каком хочется, схватившись за голову, кричать, что чужой, Вик вцепился врагу в горло зубами.
Запах крови и отталкивал, и пьянил, а Вик меж тем всё рвал и рвал свою жертву. Всё ещё без глаза (кто его теперь знает, как долго придётся ждать, да и сможет ли глаз вообще появиться заново?), в крови, как и всегда, с головы до ног, довольно хрипящий и шумно вдыхающий запах, Крид внушал Джеймсу лишь отвращение и ужас. И даже то, что он в какой уже раз выручил брата из беды, не спасало его от презрения, скрыть которое было невозможно. Оно ведь пахло. Как и всё, буквально всё в этой жизни.
Покончив с охранником, Вик откинул мёртвое тело прочь и сам в изнеможении склонился к земле. Нужно было подойти к нему и помочь, но Джеймс всё не мог побороть брезгливости. Может, он и не имел на неё, на эту брезгливость, никакого морального права, так как и сам сейчас стоял с окровавленными когтями над убитыми людьми, так как и сам был исчадием ада, ошибкой природы, проклятием для себя самого и позором для рода человеческого, но всё же чувствовал всегда в такие моменты, что брат увяз в этой трясине глубже. А всё потому, что даже и не пытался, не желал из неё выбираться.
Прав был отчим, что не любил его. Права была мать, что сторонилась. А как, за что его было любить? Как было не сторониться?
«Нет, Джеймс, нет. Тебя учили не этому — не гордыне. Тем более что нечем тебе гордиться. Отчим велел быть справедливым, терпеливым и человечным. Ко всем живым существам. Даже к этому... Тем более к этому. Он брат тебе, Джеймс. Непутёвый, дурной, неисправимый, но брат, и ты за него в ответе».
Молодой человек, спрятав когти, подошёл к родственнику и склонился над ним. От него пахло остатками звериного торжества, дикой ярости и ещё... болью, одинаковой в этом мире, наверное, для всех.
— Вставай. Я помогу, Вик, идём.
Джеймс и привык, в общем-то, к виду брата после кровавых расправ, и в то же время не мог выносить их, не способен был относиться к этому по-философски.
Кровь, вперемешку и своя, и чужая, стекала с его крючковатых когтей, размером похожих на медвежьи, а видом — скорее на кошачьи, на ладонях она густела выдранными из чьей-то плоти ошмётками, в ней же была вся одежда, все непокрытые участки тела. Но самым страшным всегда было лицо, а сегодня — особенно. С дырой вместо правого глаза, тёмно-розовой, как всякая рана, и не ртом даже, а пастью, настоящей звериной пастью, кроваво-красной, с белеющими зубами, Вик в ком угодно мог убить любую привязанность, отталкивал одним лишь своим оскалом. Ни о чём и ни о ком он никогда не жалел, ничему не ужасался, ничего не стеснялся в жизни. И в этом он, пожалуй, был как никто надёжен и неизменен.
Джеймс, в очередной раз обречённо подумав, что это, как пить дать, навсегда, поднял не совсем ещё вменяемого брата и хотел уж было увести, пока не поздно, с места их общего преступления (дурно это было, ясное дело, но ничего другого просто не оставалось), как вдруг заметил у двери чёрного хода женщину — хозяйку публичного дома.
Про Грейс, почти что сползшую по стене, всю в ореоле из смеси запахов ужаса, неверия и изумления, Хоулетт совсем позабыл. Собственно, она ничего для него уже и не значила, точно пустое место, красивое, но, увы, бесполезное (даже злость и обида у Джеймса уже прошли, оставив в душе лишь слабый осадок горечи, липкий, но не стоящий переживаний — такой бывает ещё смола на сливовом деревце). Но вот тётка её в любой момент могла поднять крик и послать кого-нибудь за стражами порядка. Когтистым братьям могло бы тогда крупно не поздоровиться, и парень решил хотя бы попытаться поговорить с ней.
— Мэм, прошу, не кричите, — от упрямых когтей, свербящих где-то внутри предплечий, током шло: «Пригрози, запугай, выматери!» — но Джейми, стараясь дышать глубже, чтоб унять глас звериной натуры, изо всех сил старался быть вежливым. — Будет хуже, поверьте. А я не хочу этого.
— Матерь Божья! Что ж вы натворили-то! К чёрту бы вас на сковородку... — простонала ошарашенная женщина, прикрыв рот ладонью. — Куда теперь трупы девать? Кто за порядком у нас будет следить? Кто товар в Брандон* сопровождать будет? Грейс! Дура безмозглая, твой же клиент. Что за дьявольщина?
— Мэм, трупы закопаем. Скажите только, где, и лопаты дайте, — Джеймсу так противно было говорить всё это, но... «с волками жить — по-волчьи выть» — так звучит, вроде бы, старинная народная мудрость. Хозяйка борделя не сочувствовала убитым, не переживала о них, а тревожилась лишь за своё нечестивое дело. Вот и Джейми, должно, заразился, подцепив от них от всех скверну почище той, что поразила когда-то Виктора.
— Может, вы ещё и людей мне на охрану новых найдёте? Может, и в Брандон поедете?
Джейми смутился и замешкался с ответом, не зная, как оправдаться, загладить вину и не вспылить, но вопрос этот за него решили — по старшинству, так сказать, и по давней привычке.
— Заплатишь... поедем, — подал вдруг голос Виктор, чуть воспрянувший после того, как, обессиленный, буквально повис на плече у младшего брата.
— Придётся, — с нескрываемой досадой буркнула старая проститутка и, сжав губы, добавила. — Нынче ночью, коли сможете. Племянница моя с вами поедет — с получателем товара общаться придётся ей от моего имени. Да и надо бы уму-разуму уже набираться, дуре набитой.
Юный Хоулетт, переглянувшись с Виком и Грейс, озадаченно и недовольно нахмурился. С одной стороны, ему категорически претило участвовать во всех этих паскудных делах, и так уж замаран — вовек не отмыться, да и с лживой девкой видеться больше уже не хотелось. С другой же стороны, им с братом как раз в Брандон и предстояло попасть, ведь именно там они собирались наняться на военную службу. И деньги, мать их за ногу, что ни говори, пригодились бы.
«Да чтоб их!..»
И бедный Джейми, болея душой, приготовился к невесёлой и незавидной работе могильщика.
Три человека погибли напрасно. По его, Джейми, глупости.
__________________________________________________
Брандон - город в Канаде.