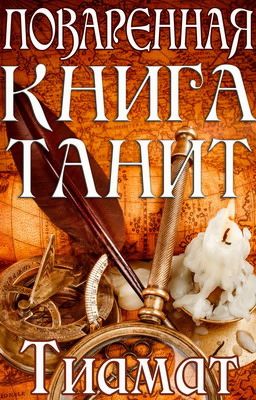6. Зерна от плевел
Рис привезли грязный, вперемешку со всякой дрянью: шелухой, травинками, зернышками овса. Я устроила Райно скандал, душу отвела, но пользы от этого никакой. Следующий подвоз не раньше, чем через неделю, а до того надо что-то есть.
– Это хороший рис, ханский, – оправдывался Райно, глядя на меня тоскливым взором, – нам его подешевле уступили.
– Сколько раз говорила: на еде не экономить! – продолжала я разоряться. Надо Райно припугнуть, чтобы уважал больше. – Вот попадется там спорынья, все перетравимся.
– Бог с тобой, откуда в рисе спорынья! – тут я и сама поняла, что палку слегка перегнула. – Подумаешь, трухи какой-то насыпалось. Перебери, да и все дела.
– Ага, нанималась я вам тут рис перебирать. Может, мне делянку засеять и самой его выращивать? Сколько раз говорила: меня берите на закупки, сама буду продукты выбирать. Вам, мужикам, только доверь!
В конце концов Райно утомился со мной спорить и уже на все был готов – премию мне выдать, выходной дать, в город взять на закупки, женщин в помощь отрядить, чтоб рис перебирали. Вот так неприятности можно обернуть себе на пользу. А рис – что рис, перебрать, и вся недолга.
После обеда уселись мы вчетвером под навесом, где кухня, еще с трех сторон покрывалами прикрыли, чтоб солнце не светило. У меня как раз было два широких плоских блюда. Надия притащила свой хрустальный шар, пошептала над ним, и такая прохлада пошла – любо-дорого. Не работа, а отдых. С нами были еще Зайтуна и Нушабе, «шарифова цацка», как наши ее промеж себя называют, с подачи острячки Надии. Мне жалко стало, что она в своей парандже парится. Говорю частью словами, частью жестами: дескать, мешок свой сними, здесь до вечера ни один мужик не появится, в уголок сядь и отвернись от входа.
Она паранджу сняла, разрумянившись от смущения. Надо же, темнокожие тоже краснеют. Девчонка совсем. Наверное, в нее с младенчества вдолбили, что старших надо слушаться. Очень уж в большой строгости арисланцы держат женщин. Хотя тут у нас народ в основном плюет на традиции, Зайтуна лицо не закрывает, только покрывало накидывает, и мужу ее хоть бы хны. У Надии вообще мужа нет, и никакого родственника мужского пола, кто бы ее сопровождал. Понятно: контрабандисты, мягко говоря, закон не чтут, а на мораль вообще положили. И встречается здесь, бывает, всякая шваль, отбросы общества.
Да уж, когда Бернардо позвал меня работать на Райно, я сначала в такой ужас пришла, будто он меня в бордель или притон приглашает. Забавно вспомнить. На родине-то у нас только честное, законопослушное ремесло признается. Хотя еще прадеды наши наверняка не дураки были прохалявить торговые пошлины. Сейчас-то в Марранге, пожалуй, не найдешь ни одной безлюдной бухточки, чтоб тишком причалить и разгрузиться.
Там само получилось, что Зайтуна с Нушабе сели у одного края, а мы с Надией у другого. Те болтают себе на фарис вполголоса, ну и мы треплемся на всеобщем. Заглянула Умаллат, опираясь на ненатянутый лук, вроде посоха. На голове у нее желтый шелковый платок, чтобы мозги не расплавились. Волос-то нет. Да и с волосами голову прикрывать не мешает. Она черный цвет любит, но под южным солнцем это просто смерть. А прочие цвета – слишком хорошая мишень для стрел. Жаль... Ей бы красный пошел, вот что я думаю. Или белый – загар оттенять.
– Что платочек-то нацепила – чтобы лысина не сгорела? – сказала Надия ядовито.
Они редко сталкиваются, но если сталкиваются, вот так и общаются. Одна язвит, вторая делает вид, что не слышит и вообще плевать хотела. Умаллат улыбнулась мне:
– Танит, помочь надо?
– Иди-иди уже, своими делами занимайся, – снова закапала ядом Надия. – Много от тебя помощи, белоручка.
Я бы не отказалась от общества Умаллат, но выслушивать перебранки – увольте. Еще Надия уйдет, а если правду сказать, от нее помощи в этом деле больше. Умаллат, по-моему, в жизни ни к чему не притрагивалась, кроме сабли да тетивы лука. Ну разве что еще... как бы так поприличнее выразиться... к интимным местам женского тела. Ну, и мужского изредка.
– Ничего, сами справимся, – говорю ласково, чтобы сгладить впечатление от неприязненных слов Надии. – Ты заходи после ужина, поможешь мне ножи поточить. Давно уже собираюсь. А лучше тебя никто не сделает.
Стоило Умаллат отойти на десяток шагов, как Надия зашипела:
– Что ты с ней любезничаешь, с этой распутницей? Никак тоже женоложицей заделалась? Я с ней и есть из одной тарелки побрезгую, а ты даже целовалась!
– Что ты такая злобная, Надия, кто тебе сегодня не дал? – говорю в сердцах. – Может, Умаллат и не дала?
Надия аж сплюнула от отвращения и не нашлась, что сказать. Надию хоть на минутку заткнуть – это вам не фунт изюму.
– Нет, правда, за что ты ее так не любишь? Ведь не за то, что она с женщинами спит?
– Это мерзость перед лицом Господа, – поджав губы, отвечает Надия. – Мужчины, что ложатся с мужчинами, и женщины, что ложатся с женщинами – как сорные травы среди доброй пшеницы, как зерна спорыньи в белоснежном рисе, это слова пророка нашего Махди Инхатмави...
– Кончай религиозную пропаганду, – оборвала я ее довольно грубо. – Фарри и так фанатики, а вы, банухиды, вообще чокнутые. Ничего, что мы в одной тарелке рис перебираем? Я вообще-то из страны, где мужики спят с мужиками. Ой, да вокруг посмотри, когда эутанги приезжают, в каждой второй палатке разврат.
Она говорит уже более мирно:
– Это мы избранный народ. Про другие народы пророк ничего не говорил. Вам необязательно его заветы соблюдать.
– Ну тогда и к Умаллат не цепляйся.
Надия как заржет:
– Ну, Танит, насмешила. Неужто эта дочь порока и разврата тебе не говорила? У меня-то глаз наметанный, я ворону в павлиньих перьях отличу от павлина.
– Ты о чем? – не поняла я.
– Она же родилась в Арислане, и отец ее был арисланец, по всему видать. Полукровка, ум-нарзи, дитя рабыни.
Вот это да! Никогда бы не подумала. Умаллат – полукровка? У нее же кожа светлая совсем. Ну, со смуглинкой, как у верлонцев и приморских жителей. Еще загар, поди разбери, какого она была цвета при рождении. И на всеобщем говорит чисто. А вот у Надии акцент арисланский так и прет, твердый выговор и сильный упор на «а». Примерно так: «И атэц ее был арисланэц, па всэму видат!»
– Ты посмотри на разрез глаз! На скулы! И брови, и ресницы южные. Она голову бреет, а так бы патлы кудрявые росли. Ум-нарзи, точно тебе говорю.
Слышала я леденящие душу истории, как девицы с севера, поддавшись на красноречие и богатство южных ловеласов, уезжали с ними в Арислан. А там попадали в положение «нарзи» – младших жен, прислуги для всего дома, бесправных, почти рабынь. Запирали их на женской половине, и даже весточку родичам не пошлешь. Бррр. По арисланским законам мужчине достаточно сказать: «Я женюсь на этой женщине!» – в присутствии ее отца или опекуна, и брак считается заключенным... Нет, я бы никогда не пошла замуж за фарри, даже если бы он обращался со мной, как северянин, и жил бы в Марранге. Все равно он из другой страны, из другой культуры. Иноземца всегда видно, как карася среди форели. Конечно, я вот встречаюсь с мужчиной из чужого народа. Уж верно, между марранцем и фарри разница меньше, чем между марранцем и степняком. Хорошо еще, он всеобщего не знает, а то недоразумений бы не обобрались. Про жить вместе я даже не помышляю. Где жить – в степи, в шатре, шкурами крытом? Премного благодарны. А как бы странно Кенджиро смотрелся среди виноградников и апельсиновых деревьев, в домике у моря...
Все-таки человек, покинувший родные места, подобен опавшему листку, гонимому ветром. Так я подумала, и во мне проснулось любопытство. Да и тему хотелось сменить.
– А где ты так навострилась на всеобщем говорить?
– Да я в Исфахане прожила лет десять. Муж у меня был аптекарь, я ему помогала за лавкой приглядывать, эликсиры составлять, и сама зелья варила. Так, слово за слово. Там народ-то всякий в Исфахане, кого только не встретишь. Бывало, месяцами родного языка не слышишь. Разве только служанке разнос устроишь. А муженек хорошо всеобщий знал, образованный он у меня. Даже дома на нем говорил, пока я ему не запретила.
Вот это карьера для девочки из пустыни! Все эти бану-того, бану-сего, их скопом банухидами обзывают, детьми пустыни – они же дикие и нищие еще похуже степняков. В степи хоть воды и травы вдоволь. А банухиды кочуют со своими верблюдами от оазиса к оазису, в племенах у них человек по триста, не больше, ну может, пятьсот. Численность не растет, потому что народ постоянно гибнет в стычках между племенами. Жить-то как-то надо. Говорят, они воины не хуже степняков. Еще говорят, банухид может уйти в пески на неделю совсем один и вернется живой и относительно здоровый. Дети пустыни? Я бы назвала их пасынками. Восточный Арислан – суровый край. Слабые там не выживают.
Надия даже читать не умеет, а вот поди ж ты, отхватила мужа образованного, городского, и не какого-нибудь завалящего – аптекаря, уважаемая профессия.
– Как это тебя занесло в Исфахан? Вы же типа избранный народ, городов не признаете.
– Да выгнали меня, – отвечает Надия совершенно будничным тоном, каким говорят: «Да за хлебом вышла». – Сказали, глаз у тебя дурной, дали воды на три дня и выгнали в пустыню.
– И что? – я уставилась на нее в прямо-таки суеверном ужасе.
– Ну, я легла и померла, – сказала она серьезно, но потом не выдержала и фыркнула.
– Да ну тебя! – я тоже рассмеялась. – А что же твой муж за тебя не заступился? Ты как-то говорила «первый муж», я помню.
– Милая моя, да я замужем пять раз была.
Тут я совсем рот разинула и вопросы задавать перестала. Потому что Надия – она как пойдет ля-ля травить, как разойдется, никаких наводящих вопросов не надо, и даже поддакивать необязательно.
– Ну вот, первый-то раз я была замужем за своим двоюродным братом. Очень мы друг друга любили. Года два вместе прожили, тут он в одночасье и умер. Уж как я горевала. Он даже ребеночка мне не оставил. А как – сына нет, мужа нет, давай снова замуж. Новый муж мне не очень-то был по сердцу, но делать нечего. Пришлось пойти. Он тоже ничего был, молодой, горячий, я уж привыкать начала, а тут его в сражении убили. Года мы с ним не прожили. Ладно, дело обычное, выдали замуж в третий раз, но совсем уж завалящего нашли – старого, некрасивого. И что ты думаешь, через месяц он возьми да и помри. Сын его давай шуметь, что я его отравила. И двух первых мужей мне припомнили. Второй-то ладно, а за Хариса обидно до слез. Чтобы я его, свет моих очей, розу сердца моего, отравила! Они все пошумели да и выгнали меня. А ведь сами дразнили «ходячей смертью», за худобу. Вот и сглазили. Еще говорят, у меня глаз дурной. Да у меня дар – защищать, охранять! Как я кляла этот дар, когда своего драгоценного не уберегла. И от змеиного укуса пологом укрыла, и от стрелы в бою, и от меча, и от жажды, и от львиной пасти, и от болезни. А он и не болел ни минуточки. Сказал: «Душно мне, ханум, жарко!» Прилег в шатре, руку на грудь вот так положил, я над ним с опахалом села, гляжу – не дышит уже...
Железная Надия смахнула слезу с ресниц и замолчала. Я тоже молчала – что тут скажешь! Но не сидеть же над этим клятым рисом сычами.
– Тогда ты и в Исфахан попала? – робко спрашиваю.
– Нет, не тогда еще. Тогда я к Джавдету попала, он разбоем промышлял со своей шайкой. В самом Исфахане, случалось, лавки жег и грабил. Он меня в пустыне подобрал, выходил и себе оставил. Я его тоже за мужа считаю, хотя какой тут муж, почитай, во грехе жили. Не любила я его, он меня неволил и колотил почем зря. А как убежать – догонит, и не спрячешься, найдет. Тут я подумала: чего мне терять, все равно убийцей ославили...
– И отравила? – ахнула я, глаза по блюдцу.
– Вот еще, руки марать. Я их пологом укрывала, когда на дело ходили. И вроде как рука у меня дрогнула, язык заплелся. Не удался полог. Они на стражников напоролись и все полегли. А я собрала добро, какое нашла, на верблюда навьючила и в город. У Джавдета еще тайник был, да только краденым я побрезговала. Поселилась в Исфахане, открыла лавочку, торговала чем придется – приворотными зельями, снадобьями разными. Тут и с аптекарем моим познакомилась. Долго он меня обхаживал. Сердце не камень – сдалась я. Уж он меня любил, души не чаял. Даже к бану сулайм поехал, меня в жены попросил, калым заплатил, по обычаю. Других жен не брал, кроме меня. Он вдовец был, сыновья уже взрослые.
– Почему был? Тоже умер? – с ужасом выговорила я.
– Потому что был вдовец, пока не женился. Мы с ним дольше всего прожили. Лет пять будет, наверное.
– А потом что?
– Ушла я. Остохренело мне там. Я в пустыне выросла, город мне поперек горла. Гнездо разврата, средоточие греха. Выпросила у мужа разрешение поклониться святым местам да и уехала. Он ведь как чувствовал, плакал, меня провожая, говорил: «Если что случится, я тебя всегда буду ждать и другой жены не возьму. Хоть через год возвращайся!»
Я прикинула: я сама тут больше года, лагерю года два, и Надия тут с самого начала. Два года, не меньше.
– Вернешься?
– Не знаю пока. Ты не подумай, я не такая змея, весточку ему пару раз присылала. Набрала тут в степи травок разных, какие ему нужны были, и тоже отправила. Ведь говорила же ему: оставь ты эту лавку сыну или продай, уедем в Курманкул или в Бисутун, садик разведем, верблюдов, козочек, я прясть стану... Нет, не соглашался. Аптека-то наша на улице Полумесяца, «Кзыл-Арслан» называется, Красный Лев. Аттаф мне объяснял, это из алхимии какое-то понятие, из рецепта, как свинец в золото обратить. Наша-то улица еще приличная, порядочная. А вот прочие, где иноземцы живут, срам один. Захожу я как-то раз в таверну «Ахмани аль-Рияд», а там...
И разговор перешел на бесстыдство молодых женщин и падение нравов в обществе. А там и жара спала, и время ужина пришло, и риса мы полмешка совместными усилиями перебрали.
После ужина ко мне зашла Умаллат, поточила ножи, как договорились. Как бы ее разговорить, думаю. Она же о своем прошлом вообще ни гугу. Хоть бы словечко обронила, что в Арислане родилась, что фарисская кровь у нее. Ладно, начну с божьей помощью, один раз прокатило и другой прокатит. Спрашиваю небрежно:
– А где ты так навострилась на всеобщем говорить?
Умаллат мою хитрость, конечно, разгадала. Что, говорит, эта бесноватая на меня настучала? Надию она иначе не называет. А Надия ее, соответственно, «эта женоложица» или «дочь порока». Я созналась, что таки да, разведка донесла. Умаллат была в благодушном настроении и поболтать не прочь. Рассказ ее был куда короче, чем у Надии, Умаллат вообще немногословна, но не менее выразительна.
– Мать у меня была северянка, из Криды. Дома со мной только на всеобщем говорила, хоть папаша запрещал. Я всеобщий лучше фарис знаю. Потом где только ни жила – в Верло, в Криде, в Марранге вашей. Кридане меня за свою принимают. Похожа на тамошних горцев, они тож чернявые.
Мать была младшей женой, папаша ее в бедной семье взял. Потом всю жизнь попрекал. Другие жены «белой швалью» честили. А меня в тринадцать лет замуж решили отдать. За папашиного ровесника. Не западло ли? Я шальная была с детства. Взяла и голову обрила. Страшный позор по местным понятиям. Женишку меня даже не показали, сказали, больна. А я и была больна, от порки, какую мне папаша задал. Он орет: все равно замуж отдам, когда волосы отрастут, ножи, бритвы отберу, под замок засажу! А я ему пригрозила, что себе туда ложку засуну. Без целки – порченый товар, калым не возьмешь! Ну, он нашел бы куда меня продать, только я дожидаться не стала. Отлежалась и деру. Голову так и брила, чтоб за мальчика принимали. На мальчика тоже охотник нашелся. Так я в первый раз человека убила. Потом прибилась к одной шайке, а там ремесло какое – либо воруешь, либо глотки режешь, либо ноги раздвигаешь. Выбор невелик. Я стала убивать за деньги. Пока опыта не было, возраст выручал. Кто девчонку заподозрит. А потом не только убивать, но и от убийц охранять случалось. На энкинов ходили, не все им нас грабить. У тангов с год пожила, очень мне их мальчики нравились. В армию нанялась, еще в Криде, но мне там не глянулось. Не люблю, когда мной командуют...
Я легла спать, а Надия с Умаллат все не шли у меня из головы. Такие разные и такие похожие. Я не знаю женщин более сильных, заслуживающих уважения и любви. А ведь для родичей, которые выжили их из дома, это было как паршивую овцу из стада изгнать.
Я вот что думаю: так Господь отделяет зерна от плевел, настоящих людей от быдла.