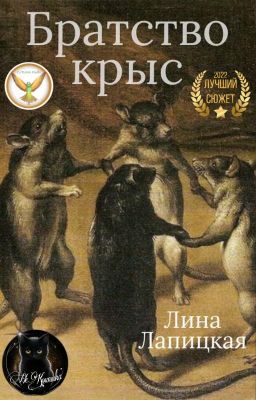Глава 8. Базилика Сан-Лоренцо
Просыпаемся рано, в одной постели с двумя детьми и пятью кошками. Отчаянно, едва не скатываясь с кровати, пытаюсь дотянуться до своих портков. Целомудренно натягиваю их под одеялом.
— У тебя столько шрамов, — шепчет Лукреция, приоткрыв глаза.
— Я ужасно неуклюжий. Часто натыкаюсь на острые предметы.
— Пожалуйста, будь осторожнее, — просит Лукреция, и я обещаю постараться. Луиджи перекатывается к нам через маму и теперь со всеми тремя можно потискаться, пощекотаться, побороться и даже немного покусаться. Дети захлебываются от смеха, Лоренца улыбается. В ее глазах столько любви и нежности, что мне становится не по себе — никто на меня так раньше не смотрел. Прикасаюсь к ее щеке, ее губы легонько целуют мою ладонь. Для себя решаю, что даже если Король крыс бессмертен, он все равно не жилец на этом свете. Я его достану.
За завтраком просматриваю планы склада и дома Бьянчи — пригодится. Дом как дом, недалеко от новых Римских ворот. Склад — другое дело: современное, трехэтажное здание у реки Арно. Два подъемника — внутренний и внешний. Внутренний работает на все этажи и подвал — удобно. На первом этаже просторное помещение для лавки и конторы, на втором и третьем хранятся товары. Окна на верхних этажах маленькие, под потолком и, скорее всего, снабжены решетками от воров. Если занимаешься темными делишками, лучше места не найти.
Передаю рисунки и чертежи Курту, который принес мою одежду. Лоренца дружески вручает ему булочку, чтобы скрасить изучение планов. Курт пристраивается на кушетке. Дожевывая булочку, он тыкает пальцем в склад. Хорошо, когда тебя понимают без слов. Лоренца тем временем сетует на то, что расстроились поставки устриц с побережья, а было бы недурно к завтраку. Увы, чума, да еще неблагоприятная политическая ситуация в Лукке, с которой опять поссорилась Флоренция. А ведь многие говорят, что надо решить этот вопрос военным путем раз и навсегда... Она бросает в мою сторону взгляд, в котором читается нечто большее, чем досада из-за отсутствия устриц.
— Раз и навсегда у вас ничего не решается, — возражаю, — тем более военным путем. Но, да, я понимаю, что в Италии я понимаю, что в Италии у меня всегда будет работа.
— А также полная независимость и свобода действий, — мило улыбается она, — что еще важнее.
Мысль собрать свою «Великую компанию» по образцу Вернера фон Урслингена и весело воевать с ним же и ему подобными за разные итальянские города заманчива. В первый раз я приехал во Флоренцию в составе войска герцога Франконского, нанятого Медичи, чтобы разбить Урслингена, которого наняла Пиза, мерившаяся силами с Флоренцией. С тех пор и не люблю подонка. Да и что хорошего можно сказать о человеке, чей девиз звучит: «Враг Бога, милосердия и сострадания»? Разве что признать за ним смелость, честность и прямоту.
— А где сейчас Урслинген?
Курт и Лоренца дружно закатывают глаза. Курт издает горловой звук, Лоренца горько вздыхает.
— У него кондотта кажется с Каэтани, если она еще не разорвана, потому что случилось несколько поражений. Забудь об Урслингене. Понимаю, что идея выпустить ему кишки, кажется тебе забавной, но его звезда угасает. Время взойти новой.
Лоренца не любит прямое давление, а потому мысль не продолжает, чтобы дать семенам пустить корни.
— Если бы он приехал на турнир было бы веселее, — говорю. — Да что вы на меня так смотрите? Люблю опасных и циничных соперников.
— Крысиного короля тебе мало, amore mio?
Курт одобрительно крякает и стучит пальцем по виску.
— Крысиный король мне славы в Италии не добавит, — возражаю я, — и сумму будущей кондотты не увеличит.
— Amore mio, — сладострастно шепчет Лоренца, — а ты даже практичнее, чем я думала. Хочешь я куплю Гварнерио для тебя? Не самая дорогая вещь в этом мире. По нынешним меркам — не дороже честной куртизанки. К сожалению, он не может находиться во Флоренции под страхом смертной казни, а вот это уже потребует серьезных затрат.
— Не надо мне ни кондотьеров, ни куртизанок... И я ещё ничего не решил, — предупреждаю я на всякий случай.
— Неужели? — смеётся она. — А я уже подыскиваю дом и придумываю имя для нашего первенца.
— Нам не нужны дети. У нас уже есть, — сгребаю мелюзгу в охапку.
— А я бы ещё завела одного или двух для надёжности.
Дети не упускают возможностей побаловаться, но к десерту относятся со всей серьезностью. Лоренца торопит их, потому что мы отправляемся к мессе в базилику Сан-Лоренцо, расположенную неподалеку от палаццо. Она продумала наш первый выход на люди в статусе почти помолвленных до мелочей. Верхнее платье из узорчатого черного аксамита схвачено золотым пояском, под ним бархатное платье глубокого винного цвета. Платьице Лукреции из такого же винного бархата. Луиджи в черном бархате, но в вырезах виднеется белый шелк. На голове шапочка в тон платью сестры. На мне пурпуэн из лучшего бургундского шерстяного бархата, который ничем не уступает флорентийскому — шелковому, пояс с золотыми бляхами и кинжал в красивых ножнах. Складки шаперона почти скрывают изуродованную часть лица. Лоренца напоминает мне про дареную золотую цепь с рубинами и торжественно ее застегивает — теперь хоть позируй на парадный семейный портрет.
Под звон колоколов, радостный и заливистый, пробираемся по узкой людной улочке — почтенное семейство Медичи с чадами и домочадцами и мы со скромным рыцарем фон Шварцбартом, наряженным бургундским графом. Дело это нелегкое, особенно для дам с их тяжелыми нарядами и шлейфами в заботливых руках пажей — древняя мостовая то вздыбливается, то проваливается под ногами. Процессия постоянно замедляется: из домов, мастерских и лавочек на первых этажах обязательно выходит кто-то — поздороваться, перекинуться парой слов, а то и присоединиться. Ближе к концу улица становится совершенно непроходимой из-за скопления людей. Нас пропускают, но приходится протискиваться бочком. Подхватываю Лукрецию на руки.
— Луиджи, — говорю, — возьми-ка маму за руку, чтобы ее у нас не украли — слишком она красивая.
Луиджи рад стараться.
— Слишком не бывает, — Лоренца берет меня под локоть.
Наконец улица выводит нас на площадь Сан-Лоренцо и мы любуемся древней, величественной и местами дряхлеющей красотой базилики. Простые линии, изъеденный веками, камень, широкая лестница, размашистые порталы без излишеств, одинокое окно-роза и рядок арочных бойниц под ним, покатый купол и громоздкая колокольня. Никакой роскоши — только мощь и сила духа.
На тесной площади у базилики, под ее лестницей, стенами и порталами, плотно жмутся друг к другу прилавки и палатки — торговля идет бойко. Торгуют всем подряд: между корзинами с апельсинами и кухонной утварью, разложенной прямо на булыжниках, приютился загончик с овцами. С безразличным неодобрением взирают они на покупателей, блеют по очереди, словно переговариваются. Из последних сил упирается в мостовую только что проданный баран, будто предчувствует свою горькую судьбину. Отчаянно верещат ягнята.
— Мама, купи ягненочка, — требует Лукреция.
Ягненок выбран немедленно — самый маленький и милый. Обещаем забрать его после мессы — не годится тащить животное в церковь. И его сожрут, наигравшись вволю, когда он станет взрослым бараном. Разве что шерсть окажется хороша, а вот к визжащим в сторонке поросятам жизнь не будет столь благосклонна.
Прихожане неспешно поднимаются по лестнице в базилику. Да и к чему тут спешка — надо и на людей посмотреть, и себя показать. Краски здесь такие же яркие, как в Бургундии, а вот фасоны попроще. Шлейфы и носки обуви короче, рукава узкие и не тащатся по мостовой. В Бургундии одежда — важнейшая вещь. Она говорит обо всем. У нас только по одежде и обуви легко отличить графиню от герцогини и барона от графа. Во Флоренции затруднительно даже отличить простолюдина от дворянина. Все заметно практичнее. Сразу видно, что местные богачи — торговый люд, к праздной жизни непривычный. Здесь всем некогда, у каждого есть какое-то дело, а если такового нет, то он наверняка политиканствует, что тоже находит отражение в одежде — надо же подчеркнуть партийную принадлежность.
А выбрать есть из чего! Гибеллинов, сторонников императора, из Флоренции изгнали, но есть паписты, гвельфы, которые тоже делятся на партии. Тех из них, кто относит себя к «умеренным» и поддерживает отношения с гибеллинами, тоже периодически изгоняют — даже самого Данте умудрились в свое время. Есть и чисто флорентийские партии: аристократы, «жирный народ» — богатые цеха и купцы, а также «тощий народ» — бедные цеха, мелкие лавочники и торговцы с рынка, ремесленники, работники мануфактур. Эту партию и возглавляют Медичи.
Всем здесь, в том числе и политикой, правит коммерция. Коммерцией заниматься не зазорно даже тем, кто ведет род от римских патрициев или Карла Великого. Ею не брезгуют дамы, особенно вдовы, которые продолжают дела мужей. Никого это не удивляет, никому не мешает, никто не осуждает. Бросается в глаза, что головы женщин едва покрыты. Всевозможные сеточки, крошечные шапочки, обручи, диадемы, невесомые и почти невидимые покрывала — не более того. Волосы здесь очень важны — их дерзко выставляют напоказ. Вырезы тоже очень глубокие — их, как правило, целомудренно прикрывают батистом нижних сорочек, но соски порой неудержимо рвутся на волю сквозь тонкую ткань.
— Смотрите-ка, — смущается Шварцбарт, замирая на ступеньке, — те милые дамы без конца шлют мне воздушные поцелуи.
Мы с Лоренцей поворачиваемся в указанном направлении. Видим желтые ленты и стриженые челки. Я в свою очередь собираю шквал воздушных поцелуев — вряд ли они адресованы Лоренце, которую эти дамы не жалуют.
— О, милый мессир Ральф, — похлопывает она рыцаря по плечу, — их ввел в соблазн ваш богатый наряд. На мессира Робара они уже давно ведут охоту. Кажется, даже пари на этот счет заключили. И ставка все время повышается.
— Черт возьми, как приятно слышать, что ты кому-то нужен.
— А мне приятно, что никто из них пока не выиграл, amore mio.
— У них нет шансов.
— А вот это еще приятнее.
— Да кто они? — волнуется Шварцбарт. — Я заметил, что никто из дам здесь не носит прически с челками. Только они. Но они так богато одеты, что просто не могут быть... продажными женщинами.
— Да бляди они, бляди, — врезается в наш разговор высокий худощавый мужчина лет тридцати пяти в алом шапероне. — Путаны. И для них отведено отдельное место в Дантовом аду. Нет, вы только посмотрите, наша маленькая Лукреция — просто ангелочек.
Он треплет девочку по щечке, приветливо кивает мне, и мы обмениваемся рукопожатием.
— Всем нам отведено место в Дантовом аду, синьор Боккаччо, — Лоренца протягивает руку для поцелуя. — Вам-то уж наверняка уготовано что-то особенное. И вы бы предупреждали, когда затыкать детям уши. Эти девушки всего лишь честные куртизанки.
— Честные? — возмущается синьор Боккаччо. — Вы знаете их расценки, мадонна?
— Мне хоть и без надобности расценки куртизанок, но я знаю, кто во Флоренции сколько зарабатывает. И вы в том числе, мой дорогой друг.
— Так о чем разговор?! Сколько бы не просили за чью-то задницу, она все равно остается задницей. Какая, к дьяволу, честность? Рад вашему возвращению, мадонна. Без вас Флоренция превратилась в скучное и безрадостное место... Впрочем, я слышал, что едва вернув, вас собираются похитить. Или вы хотите остаться с нами, мессер Робар?
— Мне почему-то кажется, что на одном месте мы не засидимся.
— Отличный выбор в свете последних новостей. Мессер...
— ... фон Шварцбарт
— ...тоже участвуете в турнире?
— Да, синьор.
— Об этом столько говорят, столько говорят... Вы, бургундцы, помешаны на турнирах, но у нас их тоже обожают.
— А как же скачки? — напоминаю я.
— И скачки, разумеется. Приятной вам мессы, дорогие мои, надеюсь я не буду очень громко храпеть во время проповеди. Это было бы возмутительно.
Боккаччо решительно протискивается вверх по лестнице, а мессир Ральф в недоумении смотрит на меня:
— Это ещё кто? Банкир? Купец?
— Писатель.
— Ничего у них не поймешь. И как принято держаться с писателями?
— Как с людьми, — отвечаю угрюмо. — «Посторонись, простолюдин!» здесь не в ходу.
— Ты нас идеализируешь, — возражает Лоренца. — Кстати, синьор Боккаччо в последнее время собирает всякие похабные истории, если вам, мессир Ральф, таковые известны, поделитесь с ним.
— А зачем ему похабные истории?
— Хочет книгу написать.
— И что? Это приносит деньги?
— Не такие, как честным куртизанкам, но все же приносит.
— Тогда я сам запишу все похабные истории, которые знаю. Без вашего Боккаччо обойдусь. Что мне еще делать долгими зимними вечерами? Я никого здесь не знаю, едва понимаю язык, а честные куртизанки, если верить писателю, мне явно не по карману.
— Ах, не прибедняйтесь, — улыбается Лоренца. — После турнира вы наверняка похитите чье-то сердце и не одно.
На лестнице мы встречаем и будущих участников турнира. Среди них несколько французов и немцев — я знаю почти всех и кое-кого из местных рыцарей тоже. А вот с шотландскими рыцарями я не знаком и имена их мне ни о чем не говорят. Скорее всего, тоже наемники из рыцарской бедноты, как Шварцбарт. Знакомимся со всеми, пожимаем руки и ступаем в прохладный, пропитанный запахом ладана, раскаленного воска и благородной вековой пыли, полумрак базилики. Полумрак этот милосердно скрывает и потрескавшиеся старинные фрески, отливающие потускневшей позолотой в дрожащем свете свечей, и потемневшие от копоти лики святых, и стертые полы, и облупившуюся местами штукатурку. Шумные флорентийцы, оказавшись внутри, замирают на мгновенье в благоговении и вновь спешат по делам — ведь у каждого своя торговля с Богом и свои сделки с совестью, за которые приходится платить. Люди огибают расписные пилоны, расходятся вдоль нефов к многочисленным алтарям святых, влиятельных семей и гильдий. Выбор, как на рынке: на любой вкус и кошелек. Святой Георгий — для воинов, Святой Николай — для торговцев, Апостол Петр покровительствует каменщикам, Пресвятая Дева оберегает матерей, детей и всех, кто нуждается в утешении, Мария-Магдалина благосклонна к молитвам грешников — важно знать к кому обратиться, кому какую свечку поставить, и не перепутать адресаты.
Первым делом мы подходим к украшенному мрамором, позолотой бархатом, парчой, свежими оливковыми ветвями и розмарином, алтарю Святому Лоренцо, покровителя Флоренции и рода Медичи. Жертвуем ему толстенную резную свечу в половину человеческого роста — помощь святого, очевидно, пригодится в ближайшее время. Отдав должное святому покровителю, мы занимаем почетное место поближе к главному алтарю. Иисус над ним изображен в старинной манере: будто парит на своем кресте, раскинув руки, а не свисает с него в бесконечном страдании. Благочестиво опускаю очи долу и замечаю почти неразличимую надпись на плите под ногами. Уважаемый человек обрел здесь покой, но время и тысячи подошв безжалостно стерли его имя. Чем не повод задуматься о бренности человеческого стремления увековечить себя. И что остается от нас, когда исчезает имя на камне?
Уткнув в открытый молитвенник, и исподтишка поглядываю по сторонам. Невольно замечаю слезы в глазах Лоренцы. Хоть я и не безбожник, а не дается молитва. «Отче наш», «Верую» и «Дева Мария, радуйся», когда надо изобразить из себя доброго католика, пробубнить могу, а вот молиться от души — и грехи не дают, и гадское двойное нутро мешает: глумится, насмешничает, выворачивает все наизнанку. Уж прости, Господи, есть — как есть. Дальше только хуже будет.
От тщетных попыток изобразить благочестие меня отвлекает отвратительная вонь, постепенно заполняющая базилику: запах мочи и гниющей плоти, щедро залитый мощнейшими благовониями. Так могло бы пахнуть от человека с застарелой подагрой, с богачами и аристократами это часто случается, или со смертельной опухолью на последней стадии. Но какая болезнь смердит крысами — я понятия не имею.
Мрак внутри клубится. Рычит просыпаясь. Верный признак, что без колдовства не обошлось. Загоняю тварь поглубже — не в церкви.
Опускаю голову так, чтобы край шаперона бросал тень на лицо, и оборачиваюсь в поисках источника зловония. Конечно же, я замечаю Гонфалоньера Бьянчи, входящего в церковь, — его легко отличить по алой мантии, высокому головному убору из красного фетра и должностной цепи. На вид это обычный дородный купец, но стоит ему поравняться с нашей скамьей и пренебрежительно кивнуть, я успеваю посмотреть ему в глаза. В них что-то такое чуждое, кромешное и совершенно нелепое на заплывшем жиром лице.
За ним следуют два парня славянской внешности ростом и статью с Гоше де Римона, если не больше. Я тут же отворачиваюсь, не стоит лишний раз встречаться взглядом с Гонфалоньером и его подручными. Они точно также высматривают новые лица в окружении Медичи.
— Вы заметили его? — спрашивает синьор Джакомо, внимательно глядя мне в лицо.
— Скорее учуял.
— У вас острый нюх. Мне еще не смердит. Он уйдет до того, как пробьет половину. Запах постепенно становится нестерпимым. Наш магистр считает, что королю трудно одновременно поддерживать чужой облик и избегать разложения.
— Ваш магистр?
— Ученый маг. Не желаете с ним встретиться?
— Может быть, — нехотя отвечаю я.
От большинства людей, именующих себя учеными магами пользы нет или она ничтожна. С другой стороны, вряд ли обычный шарлатан заинтересовал бы Медичи.
— Для начала я должен сам осмотреться... Эти два здоровяка — охрана Гонфалоньера?
— Хорваты из Далмации. Тоже братья-крысы. С Гонфалоньером Монгол не появляется. Странно бы выглядело, согласитесь. Другое дело — хорваты.
Пророчество синьора Джакомо сбывается в точности: когда тяжелые шаги Гонфалоньера стихают, звонарь отбивает полчаса. Отвратительный смрад к тому времени окутывает все вокруг. Кто-то чихает, кто-то кашляет, беременные женщины теряют сознание.
Сразу после мессы Джованни везет золото в Монетную башню. Дело требует охраны, среди которой нашлось место и нам с Куртом, ряженным в ливреи с гербами Медичи — пять красных пилюль и одна синяя на золотом фоне. Шварцбарта тоже прихватили, чтобы привыкал к службе. Ливрея говорит сама за себя и к лицам уже никто не присматривается, но я надвигаю шаперон поглубже, повязываю так, чтобы при движении не мелькал шрам, и смотрю по сторонам без боязни быть узнанным.
Флоренция живет своей обычной жизнью, люди суетятся. На площади Санта-Кроче шумок. Толпа замирает, расступается, пропуская людей в серых балахонах — вроде моншеской рясы, но до колен. Прохожие оглядываются на них в боязливом любопытстве: кто-то останавливается посмотреть, кто-то ускоряет шаг.
— Полюбуйтесь, мессиры, — говорит Джованни. — Вот они — крысы.
Один из серых устраивается у фонтана, воздевает руку, призывая к тишине и провозглашает:
— Ибо вот наступают дни, когда скажут: Блаженны неплодные...
Странное начало бередит душу, перекликаясь с общими страхами, но совершенно не вяжется с лучезарной жизнерадосностью проповедника. Прохожие подтягиваются, но держатся чуть поодаль.
— Как вы думаете, достопочтенные, что означают эти слова? Как неплодные могут быть блаженными? Вот ты, мадонна, — обращается он к почтенной матроне, — ты ведь мать?
— Уже и бабушка, синьор.
— Так что ты думаешь? Почему блаженны неплодные?
— Им не за кого бояться в трудные времена, — отвечает горожанка.
— Точно подмечено, — проповедник расплывается в улыбке. — Но у неплодных есть еще одна причина для радости — они свободны.
Было бы любопытно послушать дальше, но мы не можем задерживаться — груз в руках носильщиков слишком ценен.
Компании серых балахонов дважды попадаются нам на пути. Крысобратья ощущаются во Флоренции инородным телом, занозой, впившейся в кожу. На первый взгляд, они шумные и веселые, как все горожане. На второй замечаешь, что они веселые всегда — не в общении с другими, а сами по себе. Они будто присматриваются к окружающему миру и он кажется им невероятно смешным — куда там представлению уличных комедиантов.
Монетную башню слышно издалека — молоты стучат без устали. Чеканка флоринов мало чем отличается от чеканки гульденов в Дижоне или Вормсе, разве что мастеров и подмастерий гораздо больше, да и дело поставлено на широкую ногу. Громадная каменная печь глухо гудит и стонет, плавя золото в тиглях. Ее раскаленное жерло выдыхает жар и плюется искрами, когда сияющий металл вынимают и разливают в формы. Мастера златокузнецы расплющивают молотами слитки в широкие тонкие листы, а дело это непростое — монета должна выйти ровной. Подмастерья огромными ножницами нарезают квадратики заготовок, чтобы мастера-чеканщики, точными ударами молота об штамп могли выпустить в свет новехонькие флорины.
— Данте называл флорин проклятым цветком, — задумчиво говорит Джованни, запуская руку в бочонок с блестящими монетами. — Слишком многих он лишил разума и жизни, слишком пагубна любовь к золоту.
— Вольно вам размышлять о пагубности любви к золоту, синьор Медичи, — качает головой Шварцбарт, — вы-то пришли начеканить целый сундук проклятых цветков.
Джованни приходится ждать, пока его монеты будут готовы. Он говорит старшему из мастеров, сидящему за весами, что хочет прогуляться и делает мне знак. Курт безмолвной тенью следует за нами по мосту через Арно в башню Сан-Никколло. Отмечаю своеобразный символизм: сестра-близнец Монетной башни носит имя Святого Николая — покровителя купцов и странников. По ту сторону Арно раскинулся район Сан-Никколло, но башню-то могли назвать как-угодно. Странный каприз стихий делит город на две части ровно по реке: над Монетной башней светит яркое солнце, над башней Сан-Никколло нависли черные грозовые тучи.
— Только вымокнуть не хватало, — ворчит Джованни. — И ничего же не предвещало.
Ветер лупит в лицо, рвет шапероны и полы одежды, плащи тяжело хлопают, безнадежно цепляются за плечи — город словно хочет загнать нас обратно в Монетную башню.
— Лавка и склад Бьянчи, — указывает Джованни на новое четырехэтажное здание.
С башни отлично видно людей в серых балахонах, которые заходят в лавку, и выходят из нее. Некоторые из них вооружены и носят маски.
— Кто такие? — спрашиваю.
— Охрана Гонфалоньера.
— И много их?
— Сотни полторы. И еще набирают.
— Почти армия. А что же Подеста и Капитан народа так просто спускают это с рук? Ведь их обязанность — следить за порядком и пресекать подобные вещи?
— Да все не так просто, как кажется, — пожимает плечами Джованни. — Подеста и Капитан народа — чужаки во Флоренции, как вам известно. Все равно что временные наемники. С одной стороны, они беспристрастны, с другой — кто станет совать нос в дела Гонфалоньера? Да и подкуп никто не отменял — благородные господа Подесты и Капитаны любят возвращаться в родные края с полной мошной.
— И вы их не перекупили? — удивляюсь я.
— Разумеется, перекупили, что и наводит на мысль, что совесть этих господ расхожий товар.
— Расчетливый тип — этот ваш Крысиный король, — признаю я. — Все учел.
— Надеюсь, не все.
Накрапывает дождь, и мы спешим вернуться в Монетную башню.