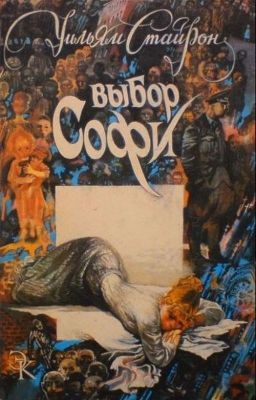Четвертое
– Когда я была маленькая, – рассказывала мне Софи, – мы жили в Кракове, в очень старом доме, на старой кривой улочке недалеко от университета. Это был очень древний дом – часть его, я уверена, была построена много веков назад. Знаешь, странно это – за всю свою жизнь я жила в настоящем доме только там да еще в доме Етты Зиммермен. Потому что, понимаешь, я там родилась и там росла и потом, когда вышла замуж, тоже там жила, только когда немцы пришли, я переехала и немного жила в Варшаве. Я обожала тот дом – мы жили высоко, на четвертом этаже, там было так тихо и тенисто, я была совсем маленькая, и у меня была своя комната. Через улицу, напротив, был другой старый дом с такими затейливыми печными трубами, и на них у аистов были гнезда. Я правильно сказала – аистов? Смешно, я всегда путала это слово: говорила вместо «аист» – «айва». В общем, я помню аистов на печной трубе напротив нашего дома, и они были совсем такие, как на картинках в моей книжке «Сказки братьев Гримм» – я ее читала по-немецки. Я помню очень, очень хорошо эти книжки – и какого они были цвета, и картинки животных, и птиц, и люди на обложке. Читать по-немецки я научилась раньше, чем по-польски, и, знаешь, я даже говорила по-немецки, а по-польски еще не умела, так что, когда я пошла в монастырскую школу, меня дразнили за мой немецкий акцент.
Знаешь, Краков – он очень древний город, и наш дом стоял недалеко от главной площади, там посредине такое красивое здание, которое есть построено в средние века: по-польски называется «Сукеннице», это по-моему, по-английски будет «Суконные ряды», там был рынок, где продавали всякие разные материи и ткани. А потом там есть башня с часами на церкви святой девы Марии, Мариацком костеле, очень высокая, и там нет колокола, но настоящие живые люди выходят на такую балюстраду, выходят и трубят каждый час. Ночью это очень красивый звук. Доносится как бы издалека и, знаешь, так печально – совсем как трубы в одной из сюит для оркестра Баха; я всегда в такие минуты думаю про древние времена и какая тайна есть время. Когда я была маленькая, я лежала в темноте в своей комнате и слушала, как цокают копыта лошадей на улице внизу – тогда в Польше ведь не было много автомобили, – а когда уже совсем засыпала, слышала, как те люди трубят на башне очень печально и так издалека, и думала про время – какая это тайна. Или лежала и думала про часы. В прихожей у нас стояли очень старые часы на такой подставке – они принадлежали еще моим дедушке и бабушке, и один раз я открыла их сзади и заглянула внутрь, а они ходили, и я увидела столько много рычажков, и колесиков, и камней – по-моему, почти все были рубины, – и они так блестели на солнце. И вот ночью я лежала в постели и думала, будто я там, внутри – представляешь себе, такой глупый ребенок! – и будто я лежу, покачиваюсь на часовой пружине и смотрю, как двигаются рычажки, и вращаются колесики, и рубины горят, такие красные и яркие и большие, как моя голова. И потом я наконец засыпала и видела во сне эти часы.
Ох, я столько много всего помню про Краков, столько много, не знаю, с чего и начать! Такие это были чудесные времена, эти годы между двумя войнами, даже для Польши, а ведь это есть бедная страна, и она, знаешь, очень много страдает от комплекс неполноценности. Натан думает, я преувеличиваю насчет того, как хорошо мы жили, – он столько много смешных историй рассказывает про Польша, – а я говорю ему про наша семья, про то, как чудесно, интеллигентно мы жили, право же, лучше просто нельзя. «А как вы развлекались по воскресеньям? – говорит мне Натан. – Бросали гнилую картошку в евреев?» Знаешь, он про Польшу только и считает, какие там все антисемиты, и разные шуточки про это выдумывает, а мне так больно. Потому что это правда – то есть все знают, что в Польша есть сильный антисемитизм, и мне от этого так ужасно стыдно – так же, как тебе, Язвинка, стыдно от этой misere с этими вашими цветными на Юге. Но я говорила Натану, что да, это правда, истинная правда, такое скверное дело есть в Польше, но он же должен понимать... vraiment, должен разуметь, что не весь польский народ такой, что есть там хорошие, приличные люди, как мои родители, которые... Ох, такая это мерзкая вещь – говорить не хочется. Мне грустно за Натана, он... это есть у него навязчивая идея, так что лучше, по-моему, переменить тему...
Да, так вот насчет моя семья. Мои мама и папа были оба профессоры в университете, поэтому почти все мои воспоминания про университет. Это один из старейших университетов в Европе – занятия там начались очень давно, еще в четырнадцатый век. Я была профессорская дочь – другой жизни я не знала, и, наверно, потому все мои воспоминания про то время такие приятные, интеллигентные. Надо тебе непременно поехать в Польша, Язвинка, увидеть ее и написать. Она такая есть красивая. И такая печальная. Представляешь, эти двадцать лет, пока я росла, только эти двадцать лет Польша была свободна. То есть столько веков была в рабстве! Наверно, потому я так часто слышала, как мой отец говорил: «Настали для Польши солнечные времена!» Потому что в университетах и школах, знаешь, впервые была полная свобода – можно было изучать что хочешь. И, наверно, то была одна из причин, почему люди получали так много радости от жизни – учились и набирались мудрости и слушали музыку, а весной и летом по воскресеньям выезжали за город. Иной раз мне, право, казалось, что я так много люблю музыку – почти как жизнь. Мы всегда ходили в концерты. Когда я была совсем маленькая, я лежала вечером в кроватке в этом доме, этом старинном доме, и слушала, как мама играет внизу на рояле – она играла Шуман или Шопен, или Бетховен, или Скарлатти, или Бах, она была замечательная пианистка, – так вот я лежала и слушала, как музыка замирает, потом так красиво взлетает вверх, разносится по дому, и мне было так тепло и уютно, и спокойно. Я думала, ни у кого на свете нет таких чудесных папы и мамы и самая замечательная жизнь – у меня. И я думала про то, как я вырасту и кем стану, когда уже не буду ребенком, – возможно, выйду замуж и стану учительницей музыки, как моя мама. Это будет такая прекрасная жизнь, думала я, – играть дивную музыку, и преподавать, и иметь мужа, такого же хорошего профессора, как мой отец.
Прежде всего мои родители – оба не из Краков. Мама была из Лодзь, а папа из Люблин. Они познакомились в Вена, когда оба были там студенты. Мой папа изучал право в Австрийской академии наук, а моя мама в Вене изучала музыку. Они оба были католики, очень религиозные, так что меня воспитали очень верующей, и я всегда ходила к мессе и в церковную школу, но это, знаешь, вовсе не значит, что я была фанатичка, чокнутая. Я очень много верила в бога, но мои мама и папа, знаешь, не были – как же это по-английски будет – dur... ах да, жесткие, непреклонные . Они были очень либеральные – даже можно сказать, почти социалисты – и всегда голосовали за рабочую партию или за демократов. Мой отец ненавидел Пилсудский. Он говорил, Пилсудский устроил в Польша такой террор, хуже, чем Гитлер, и в тот вечер, когда Пилсудский умер, выпил на радостях целый графин шнапса. Он был пацифист, мой папа, и, хоть он и говорил, что для Польши настали солнечные времена, я знала, что au fond ему не весело и он волнуется. Как-то раз я услышала его разговор с мамой – это было, наверно, году в тридцать втором, – и я услышала, как он сказал этим своим невеселым голосом: «Право же, долго так не может продолжаться. Будет война. Судьба никогда не дарила Польше счастье надолго». Я помню, он произнес это по-немецки. В нашем доме говорили чаще на немецком, чем на польском. Francais я выучила в школе и говорила почти безупречно, но еще легче мне было говорить по-немецки. Это, видишь ли, из-за Вены – ведь мои мама и папа столько много там прожили, ну а потом, папа был профессор права, а немецкий в ту пору был язык для ученых. Моя мама замечательно готовила по-венски. О, она готовила и несколько прекрасных польских блюд, но польскую кухню не совсем можно назвать haute cuisine, я помню, какие блюда она готовила в этой большой кухне у нас в Кракове: Wiener Gulaschsuppe и Schnitzel, а особенно я помню – ах! – этот удивительный десерт, который назывался меттернихский пудинг – в нем было столько много орехи, и масло, и апельсиновые корочки.
Я знаю, это, может, скучно, когда все время повторяю одно и то же, но мои мама и папа были чудесные люди. Знаешь, Натан сейчас о'кей, он есть спокойный, у него хорошее время – хороший период, так говорят? Но если у него плохое время – как в тот раз, когда ты впервые увидел его, – если на него налетает tempête, как я это называю, он начинает на меня кричать и потом всегда называет меня антисемитка, польская свинья. Ох, какой у него язык и как он меня обзывает, такие говорит слова и на английском, и на идиш, и по-всякому – я таких никогда не слыхала! Но всегда одно и то же: «Ты – грязная польская свинья, несчастная нафка, курва, ты же убиваешь меня, убиваешь – все вы, грязные польские свиньи, всегда убивали евреев!» Я пытаюсь что-то ему сказать, но он не желает слушать – совсем с ума сходит от злости, и я всегда знаю: бесполезно в такое время говорить ему, что есть хорошие поляки, как, например, мой отец. Папа ведь родился в Люблине, когда еще город принадлежал русским, и там было много-много евреев, которые так много страдали от этих ужасных погромов. Как-то раз мама рассказала мне – потому что папа никогда не стал бы такое рассказывать, – что, когда он был молоденький, они с братом – а брат у него был священник, – рискуя жизнью, спрятали у себя три еврейские семьи и спасли их от погрома, от казаков. Но я знала, скажи я Натану во время его tempête, он только еще больше станет на меня кричать и обзывать меня грязная свинья, польская врунья. Ох, в такие минуты мне надо быть так много терпеливой : я ведь знаю, Натан, тогда есть очень больной, он не в порядке, – и я просто отвернусь и молчу, а сама думаю о другом, жду, когда пройдет и он снова будет со мной такой добрый и такой милый, столько много в нем tendresse и любви.
Наверно, лет десять назад – за год или за два до война – я первый раз услышала, как отец сказал – Massenmord. Это было после того, как в газетах появились рассказы про то, как нацисты в Германии страшно разгромили синагоги и еврейские магазины. Помню, отец сначала что-то сказал про Люблин и какие он там видел погромы, а потом сказал: «Сначала шло с востока, теперь с запада. На этот раз это уже будет Massenmord. Я тогда до конца не поняла, что он хотел сказать, наверно, немножко потому, что в Кракове хоть и было гетто, но не так много евреев, как в другие места, и вообще я не считала, что они какие-то другие или что они есть жертвы или их преследуют. Я, наверно, очень мало знала, Язвинка. Я была тогда замужем за Казимеж – я ведь, знаешь, вышла замуж очень, очень молодая, и я, наверно, все еще была совсем девчонка и думала, что эта моя прекрасная жизнь, такая уютная, обеспеченная и спокойная, будет всегда такая. Мама и папа, и Казимеж, и Зося (Зося – это, знаешь, есть ласковое имя для Зофья, то есть Софи) – все будут так счастливо жить в большом доме, есть Wiener Gulaschsuppe, учиться и набираться знаний и слушать Баха – о, так будет всегда. Просто не понимаю, как я могла быть такая глупая. Казимеж был преподаватель математики, и я познакомилась с ним на вечеринке, которую моя мама и отец устроили для молодых преподавателей университета. Когда Казимеж и я – мы поженились, у нас были планы поехать в Вену, как мои мама и папа. Мы собирались, как они, учиться там. Казимеж – в Австрийской академии, чтоб получить степень superieur по математике, а я – учиться музыке. Я играла на рояле с восьми или девяти лет и собиралась учиться у этой очень знаменитой учительницы, то есть фрау Тайман, которая учила еще мою маму и продолжала давать уроки, хоть и была совсем старенькая. Но в тот год пришел аншлюс, и немцы заняли Вену. Стало очень страшно, и мой отец сказал – наверняка начнется война.
Я так хорошо помню тот последний год, когда мы все вместе были в Кракове. Почему-то я еще не верила, что эта наша жизнь вместе когда-нибудь изменится. Я была такая счастливая с Казимеж – Казик, – и я так много его любила. Он был такой щедрый и ласковый и такой интеллигентный – понимаешь, Язвинка, меня интересуют только интеллигентные мужчины. Не могу сказать, я любила Казика больше, чем Натана, или нет – я люблю Натана столько много, даже сердцу больно, – наверно, и не надо сравнивать одну любовь с другой. Словом, я любила Казик сильно-сильно, и мне просто невыносимо было думать, что война совсем близко и Казик может стать солдат. Так что мы это выкинули из головы и в тот год слушали концерты, и читали много книг, и ходили в театр, и подолгу гуляли по городу, и во время этих прогулок я начала учиться говорить по-русски. Казик ведь сначала жил в Брест-Литовске, который столько долго был русский, и он говорил на этом языке, как на польском, и совсем хорошо меня научил. Он был не как мой отец, который тоже жил при русских, но так много ненавидел их, что не желал говорить на этом языке, – пользовался им, только когда иначе нельзя. Словом, в то время я не желала думать, что эта наша жизнь кончится. Ну, я понимала, что будут перемены, но знаешь, перемены естественные – например, переезд из дома моих родителей, чтоб иметь свой дом и своя семья. Но это, я думала, случится после войны, если она будет, потому что война, наверное, будет очень короткая и немцев разгромят, и после этого Казик и я – мы скоро поедем в Вена и будем учиться, как все время собирались.
Я была такая глупая думать так, Язвинка. Совсем как мой дядя Станислав, который был брат моего отца и полковник польской кавалерии. Он был мой любимый дядя, такой был жизнерадостный, и так громко смеялся, и так чудесно, наивно считал Польша великая страна – la gloire, tu comprends, la patrie, etcetera, – точно Польша никогда не была под пруссаками, и австрияками, и под русскими столько много лет, а имела continuité, как Франция или Англия, или другие такие страны. Он приезжал к нам в Краков в своей форма, со своей сабля, и такие у него были гусарские усы, и разговаривал так очень громко, и много смеялся, и говорил, что немцы получат урок, если попытаются воевать с Польшей. Папа, по-моему, был всегда любезный с дядей – знаешь, старался под него подладиться, – но Казик, он имел такой прямой логический ум, и он по-дружески спорил с дядя Станислав и спрашивал, как это может конница одолеть немцев – у них же бронетранспортеры и танки. А мой дядя говорил, что главное тут местность: польская кавалерия умеет маневрировать на знакомой местности, а немцы совсем растеряются, потому что местность им незнакомая, и тогда польские войска заставят немцев повернуть назад. А что произошло, когда они столкнулись, сам знаешь: une catastrophe totale меньше чем за три дня. Ох, это было все так глупо, столько много доблести – и все напрасно. Все эти люди и кони! Это есть так грустно, Язвинка, так грустно...
Когда немецкие солдаты вошли в Краков – это был сентябрь тридцать девятого года, – мы все были в шоке и боялись, и, конечно, это все было нам ненавистно, но мы держались спокойно и надеялись на лучшее. В самом деле, Язвинка, это было еще не так плохо – то есть вначале, – потому что мы верили, что немцы будут пристойно обращаться с нами. Они не бомбили наш город, как Варшаву, и потому мы считали, что к нам отношение немножко особенное, что нас оберегают, щадят. Германские солдаты имели очень хорошее поведение, и я помню, мой отец сказал: это подтверждает то, в чем он был давно уверен. То есть что германский солдат воспитан в традициях старой Пруссии, где такой высокий кодекс чести и порядочности, так что солдаты никогда не причинят зло гражданским людям и не будут с ними жестокие. И потом, мы чувствовали себя спокойно, когда слышали, как эти тысячи солдат говорят по-немецки – ведь в нашей фамилии это был почти родной язык. Так что сначала у нас была паника, а потом все уже казалось не так плохо. Мой отец жестоко переживал то, что происходило в Варшаве, но он сказал: мы должны жить по-прежнему. Он сказал, у него нет иллюзий насчет того, что думает Гитлер про интеллигентов, но он сказал, что в других местах – например, в Вене или Праге – многие преподаватели в университетах продолжают работать, им это разрешили, и он думает, он и Казимеж тоже будут. А когда прошли недели, много неделей и ничего не случилось, мы поняли, что на этот раз в Кракове все будет о'кей, то есть жить можно.
Как-то утром в тот ноябрь я пошла в церковь святой девы Марии – ту самую церковь, где, знаешь, трубачи играют. В Кракове я совсем часто ходила к мессе и много ходила, когда пришли немцы, – помолиться, чтоб война кончилась. Может, это покажется тебе, Язвинка, эгоистично и ужасно, но, по-моему, я главным образом молилась, чтоб война кончилась и я могла поехать с Казик в Вене учиться. Ох, натурально был миллион других причин, чтобы молиться, но люди, знаешь ли, они эгоисты, а я была такая счастливая, что мою семью не тронули, оставили в покое, так что я просто хотела, чтоб война кончилась и жизнь была как в старые времена. Но в то утро на месса, когда я молилась, у меня появилось... как это... да, prémonition – появилось предчувствие и медленно стал подниматься страх. Я не знала, о чем страх, но вдруг молитва стоит у меня в горле, и в церкви и вокруг меня как ветер пронесся, очень сырой и холодный. И тут я вспомнила – точно меня озарила яркая вспышка, – почему у меня страх. Потому что я вспомнила: новый нацистский генерал-губернатор, человек по имени Франк, велел всем преподавателям университета собраться в то утро на cour de maison – то есть, знаешь, университетский двор – и там им скажут новые правила работы во время оккупация. Это было так, ничто. Просто собраться. Они должны быть там утром. Папа и Казик узнали об этом только накануне, и выглядело это, знаешь, вполне нормально, никто об этом даже и не думал. Но теперь, когда меня озарила эта вспышка, я почувствовала: что-то очень, очень нехорошо – и выскочила на улицу.
И – ох, Язвинка! – теперь я могу тебе сказать: никогда больше я не видела ни мой отец, ни Казик, никогда. Я побежала – это было недалеко, – и, когда добралась до университета, там у главных ворот во двор толпилось так очень много народа. Улица была закрыта для движения, и там стояли эти большущие немецкие фургоны и сотни и сотни немецких солдат с винтовками и пулеметами. И там был barriére, и эти немецкие солдаты не пускали меня, и тут я увидела эту пожилую женщину, которую я хорошо знала – госпожа профессорша Вохна, ее муж преподавал la chimie – ну, знаешь: химия. Она была в истерике и плакала; она кинулась ко мне на грудь со словами: «Ох, их уже нет никого – всех увезли! Всех-всех!» А я не могла этому поверить, не могла поверить, но тут подошла жена еще одного преподавателя, и она тоже плакала, и она сказала: «Да, это правда. Их увезли, и моего мужа тоже увезли – профессор Смолен». И тогда я начала верить, и я увидела эти закрытые фургоны, которые ехали вниз по улице, на запад, и тут я совсем поверила и заплакала, и у меня тоже началась истерика. И я побежала домой и рассказала маме – мы с ней заплакали и обнялись. Мама сказала: «Зося, Зося, где же они? Куда их увезли?» И я сказала, что не знаю, а узнали мы только через месяц. Моего отца и Казик увезли в концентрационный лагерь Заксенхаузен, и мы узнали, что их обоих расстреляли в Новый год. Убили только за то, что они были поляки и профессоры. Там было много преподаватели – по-моему, сто восемьдесят человек, и много из них тоже не вернулись. Скоро мы переехали в Варшава: мне нужно было найти работу...
Много лет потом – в сорок пятом году, когда война кончилась и я была в Швеции, в этом центре для перемещенных лиц, – я вспоминала о том времени, когда моего отца и Казик убили, и думала, сколько я тогда пролила слез, и удивлялась, почему после всего, что было со мной, я больше не могу плакать. И это правда, Язвинка, у меня не было никаких эмоций. Я ничего не чувствовала, точно у меня кончились все слезы. В этом лагере, в Швеции, я подружилась с одной еврейкой из Амстердам – она была со мной очень добрая, особенно после того, как я пыталась убить себя. Наверно, я не очень сильно пыталась – просто порезала себе запястье стеклом, и крови было не так много, но эта еврейка, которая была старше меня, очень со мной подружилась, и в то лето мы с ней много разговаривали. Она была в одном со мной концентрационном лагере и потеряла двух сестер. Я не понимаю, как она выжила, ведь там, знаешь, столько много поубивали евреев, миллионы и миллионы евреев, но она каким-то образом выжила, как и я, – таких нас было всего несколько человек. Кроме немецкого она говорила на очень хорошем английском – так я начала учить английский, потому что знала: скорей всего, я поеду в Америку.
Она была очень верующая, эта женщина; у них там была синагога, и она всегда ходила молиться. Она сказала мне, что очень много верит в бога, и один раз спросила, верю ли я тоже – в христианского Бога, – как она верит в своего бога, бога Авраама. Она сказала: после чуда, которое с ней случилось, она еще сильней в него поверила, хотя она знает евреев, которые считают, что Бог ушел из этого мира. И я сказала ей: да, я тоже раньше верила в Христос и в Матерь Божия, но теперь, после всех этих лет, я стала как те евреи, которые считают, что Бог ушел от нас навсегда. Я сказала, я знаю, что Христос отвернулся от меня, и я больше не могу молиться ему, как молилась раньше, в Кракове. Я не могла больше молиться ему, как не могла больше плакать. А когда она спросила меня, откуда я знаю, что Христос отвернулся от меня, я сказала – знаю, и все: только Бог, только Христос, у которого нет жалости и которому я глубоко безразлична, мог допустить, чтоб убили моих любимых, а я осталась жить с таким чувством вины. Ужасно уже и то, что они так умерли, а это чувство вины просто выше моих сил выносить. On peut souffrir, но страдать столько – и не больше.
Возможно, тебе, Язвинка, это кажется совсем маленькая вещь, но это ужасно тяжело – знать, что кто-то умер без прощания – без adieu, без единого слова утешения или понимания. Я написала моему отцу и Казик в Заксенхаузен много писем, но они всегда приходили назад с пометкой «адресат неизвестен». Я только хотела сказать им, сколько много я их люблю, особенно Казик – не потому, что я любила его больше папы, а потому, что в последний раз, когда мы были вместе, мы сильно поссорились, и это было самое страшное. Мы почти никогда не имели ссор, но ведь мы были женаты больше три года, и, наверно, это естественно, когда люди иногда спорят. В общем, накануне того страшного дня мы очень поссорились – я уже не помню даже из-за чего, правда не помню, и я сказала ему: «Spadaj!», что на польском значит «пошел вон», и он выскочил из комнаты и в ту ночь спал в другая комната. И я после этого ни разу больше его не видела. Потому мне и было так тяжело – что мы расстались не по-ласковому, не поцеловались, не обнялись – ничего. Ох, я знаю, Казик знал, что я по-прежнему его любила, и я знала, что он тоже меня любит, но это только еще хуже, потому что он, наверно, тоже страдал оттого, что не мог сказать мне это, что мы не могли сообщить друг другу про наша любовь.
Вот так, Язвинка, я уже долго живу с этим очень, очень сильным чувством вины, от которого не могу избавиться, хоть и знаю, что для этого нет причины, как сказала мне та еврейка в Швеции, она все пыталась мне внушить, что главное – мы же любили друг друга, а не то, что так глупо поссорились. Но во мне все равно сидит это сильное чувство вины. Знаешь, Язвинка, странная вещь – я снова могу плакать, и это, наверно, значит, что я снова стала человек. Наверно, хоть это во мне – человеческое. Кусочек человека, а все-таки человек. Я часто плачу одна, когда слушаю музыку, которая напоминает мне про Краков и про те годы. И знаешь, есть одна музыкальная пьеса – я просто не могу слушать ее без слез: так много плачу, что у меня нос закладывает, я не могу дышать, а из глаз текут ручьи. Это пластинка Генделя, которую я купила на Рождество – «Я знаю, жив мой Искупитель», я плачу потому, что столько на мне вины, и еще потому, что знаю: мой Искупитель не жив и мое тело съедят черви, а мои глаза никогда уже не увидят Бога...
В ту пору, о которой я пишу, в то лихорадочное лето 1947 года, когда Софи многое рассказала мне о своем прошлом и когда мне суждено было попасть, подобно злополучному майскому жуку, в немыслимую паутину разнородных чувств, из которых сплетались отношения между нею и Натаном, она работала на неполной ставке в приемной доктора Хаймана Блэкстока (né Бялысток) в дальнем конце Флэтбуш-авеню. К этому времени Софи находилась в Америке почти полтора года. Доктор Блэксток был хиропрактиком, давно приехавшим в Штаты из Польши. Среди его клиентов было много старых иммигрантов, а также евреев, недавно бежавших из Европы. Софи получила это место в начале прошлого года, вскоре после своего приезда в Нью-Йорк, куда ее привезла международная благотворительная организация. Сначала Блэксток (свободно владевший не только своим мамалошен идиш, но и польским) огорчился, увидев, что агентство прислало ему молодую женщину из гоев, которая знала всего несколько слов на идиш, подхваченных в лагере. Но он был человеком доброй души, да к тому же на него, несомненно, произвела впечатление красота Софи, ее бедственное положение и безукоризненное знание немецкого языка, и он нанял ее, а она отчаянно нуждалась в работе, ибо ничего, кроме легкой одежды, выданной в центре для перемещенных лиц в Швеции, у нее не было. Блэксток мог не волноваться: через несколько дней Софи уже болтала с пациентами на идиш так, будто только что вышла из гетто. Получив место регистратора, она почти сразу сняла дешевую комнатку у Етты Зиммермен – это был ее первый за семь лет настоящий дом. Работала Софи всего три дня в неделю, что позволяло ей, образно говоря, удерживать душу в теле; в то же время наличие свободных дней давало ей возможность посещать бесплатные занятия в Бруклинском колледже, чтобы совершенствоваться в английском и вообще попривыкнуть к жизни этого оживленного, большого и кипучего района.
Она сказала мне, что никогда не скучала. Она твердо решила забыть о безумии прошлого – в той мере, в какой легкоранимый, обуреваемый воспоминаниями мозг мог ей это позволить, – и огромный город стал для нее олицетворением Нового Света – и фактически, и в плане духовном. Она чувствовала, что физически еще не оправилась, но это не мешало ей получать удовольствие от того, что ее окружало, и она радовалась, как ребенок, которого привели в кафе-мороженое и разрешили брать что угодно. Прежде всего музыка : уже одно то, что можно вволю слушать музыку, сказала она, преисполняло все ее существо несказанным упоением – совсем как в предвкушении роскошного обеда. До встречи с Натаном ей не по средствам был патефон, но это не имело значения: она купила недорогой портативный приемничек и слушала дивную музыку, передаваемую всеми этими станциями со сложными сокращенными названиями, которые она никак не могла запомнить, а какие бархатные мужские голоса объявляли волшебные имена властителей и королей музыки, чьих творений она была так долго лишена; даже такие затасканные произведения, как Неоконченная симфония Шуберта или «Eine kleine Nachtmusik», вновь преисполняли ее восторгом. Ну и конечно, были концерты – в Академии музыки, а летом на стадионе Льюисона в Манхэттене, – дивная музыка, и так дешево, почти даром; например, однажды вечером Иегуди Менухин исполнил на стадионе Концерт для скрипки Бетховена с такою дикой, неуемной страстью и нежностью, что, сидя одна, высоко, почти у края амфитеатра, дрожа от холода под сверкающими звездами, она почувствовала, как на нее нисходит успокоение, некая внутренняя умиротворенность, поразившая ее вместе с осознанием, что есть на свете вещи, ради которых стоит жить, и что она, если хоть немного повезет, сумеет, пожалуй, собрать воедино осколки своей жизни и, склеив их, стать новым существом.
Те первые месяцы Софи много времени проводила одна. Из-за трудностей с языком (вскоре преодоленных) она стеснялась говорить, но в любом случае радовалась, что подолгу бывает одна, даже наслаждалась одиночеством, ибо последние годы страдала от отсутствия уединения. В те годы она была лишена и книг – всякой печатной продукции вообще – и теперь начала жадно читать: подписалась на американскую газету для поляков и частенько заглядывала в польский книжный магазин недалеко от Фултон-стрит, при котором была большая библиотека, где давали книги на дом. Ее интересовали главным образом переводы американских писателей, и она вспомнила, что первой книгой, которую она прочитала, был «Манхэттен» Дос Пассоса. За этим последовали: «Прощай оружие!», «Американская трагедия» и «О времени и о реке» Вулфа – последняя книга была так плохо переведена на польский, что Софи поневоле нарушила клятву, которую дала себе в лагере, закаявшись до конца жизни читать что-либо, написанное по-немецки, и прочла немецкий перевод, который сумела достать в филиале публичной библиотеки. Возможно, потому, что перевод оказался хорошим и сочным, или потому, что лирическое, трагическое и в то же время жизнеутверждающее, широкое видение Вулфом Америки было тем, что в тот момент требовалось душе Софи – она ведь была новичком на этих берегах и имела лишь весьма рудиментарное представление о природе страны и ее поистине гаргантюанских излишествах, – роман Вулфа показался ей наиболее интересным из всех книг, какие она прочла в ту зиму и весну. Вообще Вулф настолько завладел ее воображением, что она попыталась прочесть «Взгляни на дом свой, Ангел» по-английски, но быстро отказалась от своей затеи, обнаружив, сколь непосильная это задача. Язык наш нелегок для начинающего – его причудливая орфография и своеобразие стиля выглядят особенно нелепо на печатной странице, а умение Софи читать и писать всегда отставало от ее речи, пестревшей очаровательными, на мой взгляд, ошибками.
Все ее знакомство с Америкой сводилось к Нью-Йорку – главным образом к Бруклину, – и со временем она полюбила этот город, но в не меньшей степени и страшилась его. В своей жизни она знала всего два города: маленький Краков, дремлющий в своей готике, и позже – бесформенную груду щебня, какой была Варшава после блицкрига. Наиболее сладостные воспоминания – те, что ей хотелось перебирать, – были связаны с ее родным городом, застывшим на века во фризе из старинных кровель, кривых улочек и переулков. Годы между Краковом и Бруклином вынудили Софи – в общем-то чтобы сохранить рассудок – постараться вычеркнуть из памяти то время. Она, к примеру, рассказывала, что в первые дни жизни в меблированных комнатах Етты, проснувшись утром в незнакомой постели, среди странных розовых стен, вслушивалась сквозь дрему в грохот транспорта, слабо доносившийся с далекой Черч-авсню, и долгие секунды не могла ни вспомнить свое имя, ни понять, кто она и где находится, – ей казалось, что она заснула зачарованным сном, точно героиня сказок братьев Гримм, которые она читала в детстве, и за ночь перенеслась в новое, неведомое королевство. Затем, похлопав глазами, она окончательно просыпалась со странной смесью грусти и радости и говорила себе: «Ты не в Кракове, Зося, ты в Америке». И вставала, готовясь к встрече с толпами в метро и с больными доктора Блэкстока. А также с прекрасным, зеленым, и уродливым, и закопченным, и кишащим как муравейник, и непостижимым, огромным Бруклином.
С наступлением весны Проспект-парк, находившийся совсем рядом, стал для Софи излюбленным пристанищем – приятно вспомнить, что в те дни это было вполне безопасное место, где красавица блондинка могла гулять одна. В легкой дымке от летящей пыльцы, испещренной золотыми пятнышками света, пробивающегося сквозь листву, стояли на полянах и среди высокой травы огромные рожковые деревья и вязы, готовые приютить под своей сенью fête champêtre Ватто или Фрагонара, и вот под одним из таких величественных деревьев располагалась Софи в свои свободные дни или в конце недели и устраивала чудесный завтрак-пикник. Она потом призналась мне – не без легкого стыда, – что, приехав в Нью-Йорк, буквально помешалась на еде, совсем перестала владеть собой. А она знала, что есть должна осторожно. Доктор из шведского Красного Креста, лечивший ее в центре для перемещенных лиц, сказал, что столь сильное недоедание, по всей вероятности, вызвало более или менее стабильные и серьезные изменения в ее обмене веществ; он предупредил Софи, что надо есть не спеша и понемногу, особенно жиры, сколь бы ни был силен соблазн. Но это лишь превратило для нее еду в удовольствие, в своего рода игру, когда она в обеденное время по дороге в Проспект-парк заходила в один из великолепных гастрономических магазинов на Флэтбуш-авеню и выбирала себе закуски. Сам этот процесс уже рождал в ней до боли сладостное чувство. Еды было так много, такое обилие и разнообразие, что у Софи всякий раз перехватывало дыхание, глаза от волнения застилали слезы, и она медленно, тщательно и серьезно принималась выбирать из этого ароматного, пышного, грандиозного изобилия вот это маринованное яйцо, вон тот кусок салями, половинку черного ржаного хлеба с чудесной блестящей корочкой. Сосиски. Несколько сардин. Кусочек острой копченой говядины. Копченой семги. Сдобную булочку, пожалуйста. Крепко держа пакет из бурой бумаги, повторяя про себя как литанию: «Помни, что сказал доктор Бергстрем: не наваливаться на еду», она направлялась по обыкновению в один из дальних уголков парка или к заболоченному концу большого озера и там, осторожно пережевывая пищу, как бы заново вкушая ее, открывала 350-ю страницу «Стадса Лонигена».
Софи нащупывала свой путь в жизни. Пережив во всех смыслах слова новое рождение , она чувствовала известную усталость и, вообще-то говоря, немалую беспомощность – была как новорожденная. Она шагала по жизни, точно паралитик, заново учащийся ходить. Разные мелочи, всякая дурацкая ерунда еще ставили ее в тупик. Она не могла застегнуть молнию, когда ей выдали куртку: забыла, что надо соединить две полы. Собственная бестолковость потрясала ее: однажды она даже расплакалась, когда, желая выдавить лосьон из обычного тюбика, нажала, не раздумывая, с такой силой, что содержимое вылетело на нее и, обрызгав с ног до головы, испортило ей новое платье. Но дело налаживалось. Порою, правда, у нее начинали болеть кости, особенно колени и лодыжки, и ступала она еще как-то нерешительно, что, видимо, было связано с депрессией и усталостью, нередко нападавшими на нее, – она отчаянно надеялась, что со временем это пройдет. Но хоть Софи и не цвела будто маков цвет, как принято говорить о пышущих здоровьем людях, она уже находилась на вполне безопасном расстоянии от черной бездны, в которую едва не сверзилась. А ведь лишь немногим более года тому назад, в только что освобожденном лагере, в последние часы той жизни, о которое она не разрешала себе больше вспоминать, некий голос – низкий баритон, но резкий и такой хриплый, будто горло было обожжено кислотой, проник в ее бред, и, лежа в лихорадке и поту на грязных досках, накрытых жесткой соломой, она услышала, как он бесстрастно произнес по-русски: «По-моему, этой тоже каюк». И тем не менее даже тогда она знала, что ей не каюк – это подтверждалось сейчас, с облегчением говорила она себе (лежа на траве у озера), робкими, однако сладострастными позывами голода, предшествовавшими той блаженной минуте, когда она, поднося еду ко рту, вдыхала пряный аромат маринада и горчицы, и риса с тмином по-еврейски, купленного у Леви.
Но однажды утром, в июне, хрупкое равновесие, которого ей удалось достигнуть, чуть не нарушилось – и притом трагически. Одним из ее отрицательных впечатлений от города было метро. Она ненавидела нью-йорскую подземку за грязь и грохот поездов, но еще больше за вызывавшую клаустрофобию тесноту, когда в часы пик столько человеческих тел втискивается в вагоны, сдавливая друг друга и сводя на нет, если вообще не уничтожая, всякую возможность уединения, которого она так давно жаждала. Она понимала, что подобная реакция – подобная брезгливость, отвращение, вызываемое соприкосновением с чужой кожей, – противоречит всему, через что она прошла. Но так было, она не могла от этого избавиться, это стало частью ее нового, преобразовавшегося естества. В кишевшем людьми шведском центре для беженцев она твердо решила до конца жизни избегать скопления людей – тряские поезда подземки надсмеялись над этой абсурдной мыслью. Как-то ранним вечером, возвращаясь домой из приемной доктора Блэкстока, она попала в вагон, набитый больше обычного, – жаркий сырой вагон, заполненный, как всегда, толпою потных бруклинцев, этих трудяг всех видов и степеней покорности своей доле, в рубашках и открытых платьях, к которым на очередной остановке в центре добавилась шумная группа мальчишек-старшеклассников с причиндалами для бейсбола; они принялись грубо и бесшабашно, с такой силой протискиваться внутрь, что давка стала почти невыносимой. Упругие, как резина, торсы и липкие от пота руки безжалостно затолкали Софи в конец вагона; споткнувшись, она перешагнула порожек и очутилась на сырой и темной площадке, соединяющей два вагона, крепко зажатая между двумя человеческими существами, которых она – без всякой задней мысли – попыталась разглядеть; в этот момент поезд, вздрогнув, со скрежетом медленно остановился, и свет потух. Софи затошнило от страха. По вагону прокатилось сокрушенное «ох» и легкие вздохи огорчения, почти сразу потонувшие в ликующем хриплом «ура» мальчишек, столь оглушительном и протяжном, что Софи зажатая в беспросветной тьме, почувствовав, как чья-то рука лезет сзади ей под юбку, в мгновение ока поняла: кричи не кричи, никто не услышит. Единственным маленьким утешением, потом рассудила она, было то, что она не впала в панику, а это вполне могло произойти, учитывая тесноту, удушающую жару и стоящий в темноте поезд метро. Она, возможно, даже завздыхала бы, как остальные. Но рука с напряженным средним пальцем, орудовавшим с поистине хирургическим умением и поспешностью, до невероятия по-хозяйски искавшим дорогу и, наконец, проникшим, избавила ее от паники, преисполнив возмущения и ужаса, какой охватывает человека, неожиданно подвергшегося насилию. Ибо это было именно так – не случайная неловкая попытка пощупать, а самое настоящее – назовем вещи своими именами – вторжение во влагалище, которое палец парня, как некий злоумышленник, нашел и воткнулся на всю свою длину, вызвав боль, но в еще большей степени – состояние загипнотизированного изумления.
До сознания смутно дошло – чьи-то ногти царапают ее, и она услышала собственный голос: «Пожалуйста, не надо» – и тотчас поняла всю банальность, всю глупость своих слов. Это продолжалось не более тридцати секунд, и наконец мерзкая лапа отодвинулась; Софи стояла дрожа в удушливой тьме, которую, казалось, никогда больше не рассеет свет. Она понятия не имела, сколько прошло времени, пока не вспыхнули лампы, – пять, может быть, десять минут, – но, когда свет зажегся и поезд тронулся, качнув людей, Софи поняла, что так никогда и не узнает своего обидчика среди этой полудюжины мужских спин, и широких плеч, и торчащих животов. На ближайшей остановке она чудом выскочила из поезда.
Подвергнись она обычному грубому изнасилованию, думала потом Софи, это бы не сломило ее духа и самоуважения, не преисполнило бы такого омерзения и ужаса. Зверства, которые она наблюдала последние пять лет, издевательства, через которые ей самой пришлось пройти – а она превыше всякой меры познала и то и другое, – не притупили ее чувств, и она остро переживала такое надругательство над собой. Будь это классическим изнасилованием в открытую, она – при всей омерзительности этого акта – испытывала бы по крайней мере небольшое удовлетворение оттого, что знает в лицо своего обидчика, и он знал бы, что она его знает, не говоря уже о том, что она могла бы гримасой, или иозмущенным взглядом, или даже слезами выразить хоть что-то – ненависть, страх, желание предать проклятию, отвращение, быть может, даже вызов. А этот анонимный наскок в темноте был все равно что удар ножом в спину, нанесенный бессовестным грабителем, который так навсегда и останется тебе неизвестным... То, что произошло с Софи, было само по себе достаточно омерзительно, однако в другой период своей жизни она могла бы перенести это более стоически. А сейчас отчаяние, в которое повергла ее эта история, нарушило хрупкое равновесие, лишь недавно обретенное ее психикой, ибо это осквернение ее души (а она считала, что наряду с осквернением тела произошло и осквернение души) не только отбросило ее назад, в кошмар, из которого она медленно и осторожно стремилась выбраться, но и по своей преднамеренной жестокости было как бы проявлением самой сути этого кошмарного мира.
Она, столь долгое время чувствовавшая себя в буквальном смысле голой, незащищенной и за эти несколько месяцев в Бруклине так старательно пытавшаяся прикрыться былой броней уверенности и здравомыслия, сейчас поняла, что эта история снова лишила ее всех покровов. И она в очередной раз ощутила, как в душу заползает леденящий холод. Ничем не мотивируя своей просьбы – и не рассказав никому, даже Етте Зиммермен, о том, что произошло, – она попросила доктора Блэкстока отпустить ее на неделю и слегла. День за днем, в самую душистую пору лета, лежала она в постели за приспущенными жалюзи, сквозь которые в комнату проникали лишь тоненькие желтые полоски света. Она не включала радио. Ела мало, ничего не читала и вставала, только чтобы подогреть себе чаю на плитке. В полумраке затененной комнаты она слышала удары клюшкой по мячу и крики мальчишек на бейсбольных площадках парка, дремала, а потом вспоминала, как она девчушкой представляла себе, что вот заберется в напольные часы и, улегшись, словно во чреве, на стальной пружине, станет на ней качаться и разглядывать рычаги, рубины, колесики. И всегда где-то на краю сознания грозно маячила вполне определенная тень – видение лагеря, само название которого она почти исключила из своего лексикона и редко употребляла или думала о нем, ибо знала, что стоит дать лагерю завладеть ее воспоминаниями – и жизнь кончена, иначе говоря, придется с ней распроститься. Если лагерь снова завладеет ею, как это уже было в Швеции, достанет ли у нес сил противостоять искушению, или же она опять схватит что-нибудь острое, и уж на сей раз не оплошает? Этот вопрос часами занимал ее, пока она лежала тогда в своей комнате, уставясь в удручающе розовый потолок, по которому плыли, точно мелкие рыбешки, проникавшие снаружи полоски света.
По счастью, ее и на этот раз, как уже бывало, спасла музыка. На пятый или шестой день – Софи помнила только, что была суббота, – она проснулась после муторной ночи, полной страшных сумбурных снов, и, протянув как бы по привычке руку, включила маленький приемник «Зенит», стоявший у нее на ночном столике. Это был жест бессознательный, чисто рефлекторный: в эти дни тяжелой депрессии она отгородилась от музыки, чувствуя, что ей не вынести контраста между абстрактной, однако же безмерной красотой музыки и своим до боли осязаемым отчаянием. Но, сама того не ведая, она, видимо, способна была воспринять таинственную, исцеляющую силу В. А. Моцарта, этого величайшего лекаря, ибо первые же такты великой Sinfonia Concertante ми-бемоль мажор вызвали у нее дрожь неподдельного восторга. И внезапно она поняла, почему, почему эта звучная, благородная, утверждающая музыка, полная своеобразных, вызывающих трепет диссонансов, наполнила ее чувством облегчения и радостью узнавания. Это было не только произведение непреходящей прелести, – оно несло в себе то, что она искала десять лет. Она чуть с ума не сошла тогда, в Кракове, приблизительно за год до аншлюса, когда к ним приезжал струнный ансамбль из Вены. Она сидела в концертном зале и словно в трансе слушала это совсем новое для нее произведение, широко распахнув навстречу дивным, переплетающимся, журчащим мелодиям, перемежаемым резкими, бесконечно вдохновенными диссонансами, все окна и двери своей души. В пору своей юности, когда она непрестанно открывала для себя сокровища музыки, это было сокровище дивное, как будто только что отлитое. Однако она никогда больше не слышала этой вещи, ибо, как и все прочее, Sinfonia Concertante, и Моцарта, и этот сладостный жалобный диалог между скрипкой и виолой с включением флейты и струнных, и басовитых валторн – все унес ветер войны, оставив в Польше голую пустыню, где царили зло и разрушения, так что само понятие музыки выглядело нелепым излишеством.
Словом, за годы хаоса, проведенные Софи в разбомбленной Варшаве и потом – в лагере, это произведение выветрилось из ее памяти, даже название под конец смешалось с названиями других вещей, которые она знала и любила в давно прошедшие времена, и от всего этого осталось лишь смутное, но дивное воспоминание о минутах неповторимого блаженства, пережитых в Кракове, в другую эпоху. Но в то утро, когда у нее в комнате из пластмассового горла дешевенького приемничка весело зазвучали фанфары, сердце у Софи стремительно забилось, и она резко села в постели, чувствуя, как непривычно раздвигаются губы в улыбке. Не одну минуту просидела так Софи, застыв, слушая, улыбаясь, словно зачарованная, возвращая себе, казалось, невозвратимое, и горе ее постепенно начало таять. Затем музыка кончилась, и Софи тщательно записав название произведения, объявленное диктором, подошла к окну и подняла жалюзи. Глядя на бейсбольную площадку на краю парка, она поймала себя на мысли о том, сумеет ли когда-нибудь накопить денег, чтобы купить патефон и пластинку с Sinfonia Concertante, и тут поняла: раз у нее появилась такая мысль, значит, она выбирается из мрака.
Но при этом она сознавала, что ей предстоит еще долгий путь. Музыка оживила ее душу, но погружение во мрак привело к тому, что она ослабла и потеряла силы. Инстинкт подсказывал – это потому, что она так мало ела, чуть не морила себя голодом; все равно она не могла себе объяснить потерю аппетита, усталость, острые боли в ногах, – это ее пугало, а в особенности неожиданно начавшаяся менструация, на много дней опередившая сроки и обильная, словно кровотечение. «А не может так быть, – подумала Софи, – что это последствие случившегося в метро?» На другой день, выйдя на работу, она решила попросить доктора Блэкстока осмотреть ее и порекомендовать курс лечения. Софи достаточно разбиралась в медицине и понимала всю нелепость своего обращения к хиропрактику, но с предубеждением против его профессии пришлось покончить, раз она получила у него столь необходимую работу. Во всяком случае, она знала, что он практикует вполне легально и что из множества больных, проходящих через его кабинет (в том числе – немало полицейских), некоторым, во всяком случае, казалось, помогли его манипуляции – все эти растяжки, и разминки, и круговые движения, и прочие хитрости, которые он проделывал с больными в святая святых своего кабинета. Главное же, он был одним из немногих, кого она знала достаточно хорошо, чтобы обратиться за советом. Таким образом, не только скромное жалованье, а еще и это обстоятельство привязывало ее к нему. А потом, за это время у нее возникла к доктору известная симпатия – она подсмеивалась над ним и мирилась с его недостатками.
Блэксток, крупный, интересный мужчина с благородными залысинами, пятидесяти с липшим лет, был из тех отмеченных богом людей, кому судьба дала возможность выбраться из бедного каменного штетла в находившейся под Россией Польше и приобщиться к радостям жизни, какие может дать в Америке материальный успех. Великий модник, чей гардероб изобиловал расшитыми жилетами, и широкими, как шарф, галстуками, и гвоздиками в петлицу, большой говорун и рассказчик (главным образом анекдотов на идиш), он, казалось, купался в лучах оптимизма и доброго юмора и сам буквально излучал свет. Вкрадчивый соблазнитель, обожавший дарить безделушки и оказывать услуги, он любил демонстрировать перед пациентами, перед Софи, перед любым зрителем всевозможные занятные трюки и ловкость рук. В этот тяжкий и мучительный для Софи переходный период ее вполне могла привести в ужас его неиссякаемая, бьющая через край веселость, пошловатые шутки и затеи, но за всем этим она видела лишь такое поистине детское желание нравиться, что она просто не в состоянии была возмущаться, а кроме того, Блэксток, несмотря на вполне определенный характер своего юмора, был первым, кому за многие годы удалось ее рассмешить.
Он был поразительно откровенен насчет своего благоденствия. Пожалуй, только бесконечно добродушный человек мог без конца перечислять выпавшие на его долю земные блага и при этом не выглядеть одиозно, а он на своем гортанном гибриде английского и идиш, в котором, как уже различала Софи, преобладал бруклинский акцент, способен был сказать: «Доход – сорок тысяч долларов в год без учета налога; дом стоимостью в семьдесят пять тысяч долларов в самой элегантной части Сент-Олбенс, в Куинсе, не заложенный, весь выстланный мокетом, ярко освещенный; три машины, в том числе «кадиллак» модели «Флитвуд», оборудованный всем, чем только можно, и тридцатидвухфутовый «Крис-Крэфт», в котором можно удобно разместить на ночь шесть человек. Добавьте к этому замечательную, прелестную жену, какую только может послать господь Бог. И все это у меня – в прошлом голодного еврейского парня, несчастливого неббиша, который высадился на Эллис-Айленде с пятью долларами в кармане, не зная здесь ни одной живой души. Ну, скажите! Скажите мне, почему я не должен чувствовать себя самым счастливым человеком на свете? Почему мне не веселить людей, чтобы они тоже радовались, как я?» «В самом деле, почему – нет?» – подумала Софи, возвращаясь однажды зимой вместе с Блэкстоком в «кадиллаке» из его дома в Сент-Олбенс на работу.
Она ездила помочь ему разобрать бумаги в домашнем кабинете и там впервые увидела жену доктора – пышногрудую крашеную блондинку по имени Сильвия, которая вышла к ней в аляповатых, широких, как у турчанки – исполнительницы танца живота, шелковых шароварах и показала потом свой дом – первый американский дом, в который попала Софи. Воздушные занавеси из органди и обтянутая ситцем мебель поблескивали в этом лабиринте, где среди бела дня царил багровый полумрак мавзолея; розовые купидоны склабились со стен, глядя вниз, на красный, как пожарная машина, рояль; ручки мягких кресел блестели под чехлами из прозрачного пластика, а у фарфоровой ванны были черные краны. Затем, уже в «кадиллаке» с большущей монограммой «Х. Б.» на передних дверцах, Софи в изумлении увидела, как доктор снял трубку телефона, лишь недавно установленного в порядке эксперимента для связи с несколькими избранными клиентами, и воспользовался этим непревзойденным средством общения для излияний в любви. Впоследствии Софи вспоминала этот разговор – во всяком случае, то, что говорил доктор, когда соединился со своим обиталищем в Сент-Олбенс. «Сильвия, лапочка, это Хайми. Ты слышишь меня хорошо – громко, ясно? Я люблю тебя, милая ты моя кисонька. Целую, целую, детка. «Флитвуд» едет сейчас по Либерти-авеню, как раз проезжаем кладбище Бейсайд. Я тебя обожаю, детка. Целую мою детку. (Чмок, чмок! ) Через несколько минут позвоню еще, сладость моя.» И немного спустя: «Сильвия, детка, это Хайми. Я тебя обожаю, моя кисонька. «Флитвуд» сейчас у перекрестка – там, где Платановый бульвар пересекает Ютика-авеню. Такая пробка – просто ужас! Целую тебя, моя детка. (Чмок, чмок! ) Шлю тебе много-много поцелуйчиков. Что? Ты говоришь, хочешь поехать в Нью-Йорк, походить по магазинам? Купи что-нибудь красивое из одежды для Хайми, сладкая моя красавица. Я тебя люблю, моя детка. Ох, детка, совсем забыл: возьми «крайслер». У «бьюика» испорчен насос. Все, точка, милая моя кисонька.» И, взглянув на Софи, погладил трубку и добавил: «Потрясающее средство общения!» Блэксток был по-настоящему счастлив. Он обожал Сильвию больше жизни. Только одно обстоятельство, признался он однажды Софи, мешает ему быть безусловно счастливейшим человеком на земле – то, что у него нет детей...
Как станет со временем ясно (а это весьма существенно для данного повествования), Софи в то лето немало от меня скрыла. Возможно, она просто кое-что опускала – не могла об этом говорить, чтобы не растерять спокойствия. Или чтобы не лишиться рассудка. Я, несомненно, не виню Софи, ибо сейчас, задним числом, ее неправда выглядит вполне понятной, не требующей извинений. Пассаж о ее детстве и юности в Кракове, например монолог, который я попытался передать столь точно, сколь мог припомнить, был в основном, я теперь уверен, правдив. Но, как со временем выяснится, в нем есть два-три существенных искажения, равно как и несколько важных лакун. Собственно, перечитывая большую часть написанного, я обнаружил, что Софи солгала мне буквально через несколько минут после того, как мы впервые увидели друг друга. Это было после той страшной ссоры с Натаном, когда она, подняв на меня исполненный отчаяния взгляд, заявила, что Натан «единственный мужчина, с которым я, кроме мужа, спала». Хотя это не столь уж и важно, но она сказала неправду (много позже она призналась мне в этом, заметив, что, когда нацисты убили ее мужа – что было правдой, – у нее был любовник в Варшаве), и я указываю на это не из пуристского стремления к абсолютной достоверности, а чтобы подчеркнуть, что Софи не отличалась распущенностью. Отсюда ясно, что ей непросто было сказать Блэкстоку о своем недомогании, которое, как она считала, было следствием изнасилования в метро.
Она вся внутренне съеживалась при одной мысли о необходимости поведать эту тайну – даже Блэкстоку, профессионалу и к тому же человеку, которому, она знала, можно довериться. То, что с ней произошло, было настолько мерзко, что даже после двадцати месяцев пребывания в лагере – с его повседневным нечеловеческим унижением и незащищенностью – она не чувствовала себя столь запятнанной. В самом деле она чувствовала себя сейчас даже более беспомощной и запятнанной, потому что считала Бруклин «безопасным» местом; чувство стыда усугублялось в ней и тем, что она была католичка, и полька, и дитя своего времени и своей страны – иными словами, была молодой женщиной, воспитанной в пуританской строгости и считавшей, подобно любой девушке-баптистке из Алабамы, всякую половую связь табу. (Надо было появиться в ее жизни Натану, скажет она мне позже, Натану с его свободомыслием и страстным жизнелюбием, чтобы в ней взыграл эротизм, о существовании которого она и не подозревала.) К засевшему в ней чувству стыда примешивалось и то, что она подверглась такому необычному, мягко говоря, гротескному способу изнасилования, – словом, ее смущению при мысли о том, как она все это расскажет Блэкстоку, не было конца.
Однако в следующую свою поездку в «кадиллаке» Софи по пути в Сент-Олбенс сначала сухо и деловито сообщила Блэкстоку о своем беспокойстве по поводу здоровья – о слабости, ломоте в ногах и кровотечении, а потом почти шепотом рассказала об эпизоде в метро. И, как она и предполагала, Блэксток не сразу понял то, что она ему говорила. Тогда заикаясь, давясь словами, что лишь много спустя показалось ей комичным, Софи дала ему понять, что – нет, акт был совершен не обычным путем. Хотя это и было не менее мерзко и унизительно.
– Да неужели вы не понимаете, доктор? – прошептала она уже по-английски. Это же еще более мерзко из-за того, как все происходило, сказала она теперь уже в слезах, – если он, конечно, в состоянии представить себе, что она имеет в виду.
– Вы хотите сказать, – прервал ее Блэксток, – пальцем ?... Не пальцем же он... – И деликатно умолк, ибо в вопросах секса Блэксток был очень деликатен. И когда Софи снова подтвердила ему то, что уже сказала, он посмотрел на нее с состраданием и с необычной для него горечью прошептал: «Ох-вей, ну какой же фарштинкенер этот мир».
В результате Блэксток признал, что пережитое ею насилие – при всем его своеобразии – вполне могло вызвать появившиеся у нее болезненные явления, в особенности сильное кровотечение. Если же говорить о диагнозе, то он установил, что полученная ею травма повлекла за собой небольшое смещение крестцового позвонка, которое нельзя игнорировать, ибо это повлекло за собой давление либо на пятый поясничный, либо на первый крестцовый нерв, а возможно, и на оба сразу; во всяком случае этим вполне можно объяснить и потерю аппетита, и усталость, и боли в костях, на которые она жалуется, а кровотечение венчает все эти симптомы. Ей явно необходимо пройти курс позвоночной терапии, чтобы привести в порядок нервную систему и вернуть себе, как выразился доктор (достаточно живописно даже для неискушенного уха Софи), «все полноцветие здоровья». Две недели полечиться методом хиропрактики, заверил он ее, – и она будет как новенькая. Она стала ему совсем как родная, признался он, и он не возьмет с нее ни пенни. И, стремясь совсем уж ее развеселить, он настоял, чтобы она посмотрела его новый фокус: он взметнул вверх руки с букетом разноцветных шелковых платочков, и они исчезли в воздухе, а через мгновение уже вытягивал изо рта нитку с висевшими на ней флажками Объединенных Наций. Софи каким-то образом сумела выдавить из себя одобрительный смешок, но она была в таком отчаянии, так плохо себя чувствовала, что ей казалось – она сейчас сойдет с ума.
Рассказывая как-то о том, при каких обстоятельствах он познакомился с Софи, Натан заметил, что это было «точно в кино». Он хотел этим сказать, что они познакомились не как большинство людей, которые сталкиваются, вращаясь в одном кругу, учась в одной школе, на совместной работе или потому, что живут рядом, – они встретились удивительно и случайно, подобно романтическим незнакомцам из голливудских сказок, будущим любовникам, чьи судьбы неразрывно сплетаются после первой же пробежавшей во время случайного знакомства искры: Джон Гарфилд и Лана Тэрнер, были, к примеру, тотчас обречены, как только встретились взглядом в придорожном кафе; или взять более забавный случай, когда Уильям Пауэлл и Кэрол Ломбард стукнулись лбами, ползая на коленях по ювелирному магазину в поисках закатившегося брильянта. Софи же приписывала слияние их дальнейших путей просто тому, что ей не помогла хиропрактика. А ведь могло быть так, иной раз думала потом она, что манипуляции доктора Блэкстока и его молодого помощника доктора Сеймура Катца (приходившего после работы, чтобы помочь справиться с огромным потоком страждущих) подействовали бы; могло быть так, что цепь событий, развязанных пальцем вандала в метро и повлиявших на позвоночник, с последующим ущемлением пятого поясничного нерва и лечением методом хиропрактики, завершилась бы – после двухнедельных стараний Блэкстока и Катца, мявших, растягивавших и простукивавших ее измученную спину, – не подтверждением того, что этот метод лечения химера, а полным триумфом, вернувшим ей радость и здоровье.
Исцелись тогда Софи, и она, несомненно, никогда не встретилась бы с Натаном. Но вся беда была в том, что после интенсивного лечения она чувствовала себя только хуже. Настолько плохо, что, пересилив нежелание обидеть Блэкстока, сказала ему: ни один из симптомов не прошел, а, наоборот, приступы стали сильнее и неотступнее.
– Но, милая моя девочка, – воскликнул Блэксток, покачивая головой, – вы должны почувствовать себя лучше!
Прошли целые две недели, и, когда Софи весьма осторожно заметила Блэкстоку, что ей, пожалуй, следует показаться настоящему врачу-диагносту, тот пришел чуть ли не в ярость – она еще ни разу не видела этого поистине патологически добродушного человека в таком состоянии.
– Значит, вам понадобился дипломированный медик ! Модный газлин с Паркового Спуска, который оберет вас до нитки! Дорогая моя, в таком случае лучше уж идите к ветеринару!
И он предложил, к отчаянию Софи, полечить ее электросенсилятором – недавно выпущенным, сложным на вид прибором, похожим на маленький холодильник со множеством проводов и присосок; этот аппарат, который должен был перестроить молекулярную структуру клеток ее позвоночника, Блэксток только что приобрел («за хорошенькие денежки», – сказал он, пополнив тем самым запас ее английских идиом) в международном центре хиропрактики где-то и Огайо или Айове – она вечно путала эти штаты.
Утром того дня, когда Софи предстояло отдать себя в объятия этого жуткого электросенсилятора, она проснулась на редкость усталой и больной, чувствуя себя намного хуже, чем когда-либо. В этот день ей не надо было идти на работу и она продремала до полудня. Она отчетливо помнила, что в лихорадочном полусне, из которого тем утром никак не могла выбраться, в событиях, происходивших в далеком Кракове, сначала нелепо и бессмысленно участвовал улыбчивый доктор Блэксток, который вдруг принимался мять ее, как глину, своими руками, а потом с загадочной неизменностью возникал отец. Неулыбчивый, суровый, в крахмальном стоячем воротничке, профессорских очках с овальными, без оправы стеклами и черном шерстяном костюме, пропахшем сигарным дымом, он поучал ее по-немецки, с запомнившимся ей с детства напыщенным упорством; он словно бы предупреждал ее о чем-то – его тревожила ее болезнь? – но всякий раз, как она, точно нырялыцица, выбиралась на поверхность сна, слова отца, будто пузырьки воздуха, улетали из ее памяти и перед мысленным взором оставался лишь тускнеющий облик человека, не способного утешить и сурового, даже почему-то грозного. Наконец – главным образом чтобы избавиться от этого назойливого видения – она заставила себя вылезти из постели и увидела, что за окном стоит пышный и прекрасный летний день. Она еле держалась на ногах и опять-таки совсем не хотела есть. Она уже давно обратила внимание на свою бледность, но в то утро, взглянув в зеркало над умывальником, поистине ужаснулась, чуть ли не пришла в панику: в лице ее не было ни кровинки – словно один из тех выбеленных временем черепов, какие она видела в подземной усыпальнице древних монахов в одной итальянской церкви.
Зимний холод пробежал по ее костям, от пальцев рук – таких тощих, вдруг заметила она, и бескровных – до ледяных ног, и Софи крепко зажмурилась в полной уверенности, что умирает. И она поняла, как называется ее болезнь. «У меня лейкемия, – подумала она, – я умираю от лейкемии, как мой кузен Тадеуш, и все лечение доктора Блэкстока лишь милосердная маскировка. Он знает, что я умираю, и все его врачевание просто для видимости». У Софи началась истерика, в которой горе мешалось со смехом: какая ирония судьбы – умереть от незаметно подкравшегося, необъяснимого недуга после всех болезней, которые она перенесла, и после всего, что она бесчисленное множество раз видела, познала и вынесла. К этой мысли добавилась другая, вполне логическая, хотя и мучительная, вызывавшая отчаяние мысль, что такой конец, быть может, выбран самим ее телом, которое она не сумела уничтожить своей рукой.
Однако ей все же удалось каким-то образом совладать с собой и отогнать мрачные мысли в самый дальний уголок мозга. Немного отстранясь от зеркала, она, словно Нарцисс, уловила знакомый проблеск своей красоты, упорно сохранявшейся под бескровной маской, и на время почувствовала себя уютнее. В тот день у Софи были занятия по английскому в Бруклинском колледже, и, чтобы подкрепить силы перед страшившей ее поездкой в метро и самими занятиями, она заставила себя поесть. Тошнота волнами подступала к горлу, но Софи знала, что должна съесть и яйца, и бекон, и булку, и обезжиренное молоко – все, что она рассеянно поставила на стол в полутемной тесной кухоньке. И пока она ела, у нее родилась мысль – в какой-то мере навеянная симфонией Малера, которую как раз передавали в послеполуденном концерте по радио. Суровые аккорды в середине Andante почему-то привели Софи на память замечательное стихотворение, которое несколько дней тому назад, по окончании очередных занятий английским, прочел ей преподаватель, мистер Янгстин, как называли его ученики, пылкий толстяк, терпеливый и добросовестный студент последнего курса. Должно быть, благодаря знанию других языков Софи намного опережала остальных, с трудом постигавших науку учащихся – это была разношерстная языковая группа, основную массу которой, правда, составляли беженцы из всех разоренных уголков Европы, говорившие на идиш; успехи, которые делала Софи, бесспорно, привлекли к ней внимание мистера Янгстина, хотя едва ли Софи настолько не знала себе цену, чтобы не понимать, что само ее физическое присутствие не могло не смущать молодого человека.
Восторженный и застенчивый, он был явно покорен ею, но не делал никаких авансов – только всякий раз, запинаясь, предлагал немного задержаться после занятий, чтобы он мог почитать ей «репрезентативную американскую поэзию», как он это называл. Читал он взволнованно, медленно, нараспев – из Уитмена, По, Фроста и других поэтов, хрипло и немузыкально, но отчетливо произнося слова, а она старательно слушала, нередко глубоко тронутая этой поэзией, порою вносившей любопытные новые оттенки в значение знакомых слов, и неуклюжим, неуверенным ухаживанием мистера Янгстина, умоляюще смотревшего на нее, точно фавн, сквозь чудовищно толстые стекла очков. Ее одновременно грело и огорчало это чувство неопытного юнца, выражавшееся лишь взглядами, – отклик в ней находила только поэзия, ибо мистеру Янгстину было лет двадцать, значит, он был по крайней мере лет на десять моложе ее и к тому же не отличался привлекательностью: глаза у него смотрели в разные стороны и он был невероятно толстый. Но он искренне, глубоко любил американскую поэзию и стремился донести ее до слушателей – Софи особенно пленили завораживающие строки одного стихотворения, которое начиналось так:
Раз к Смерти я не шла – она
Ко мне явилась в дом –
В ее коляску сели мы
С Бессмертием втроем.
Софи обожала слушать, как мистер Янгстин читает это стихотворение, и ей захотелось самой прочесть его на английском – а она значительно преуспела в нем – и выучить вместе с другими произведениями поэта. Но получился небольшой конфуз. Когда преподаватель давал объяснения, Софи не все расслышала. Ей показалось, что это коротенькое стихотворение, эта дивная и одновременно такая простая зарисовка, в которой слышатся гулкие шаги вечности, принадлежит перу американского поэта с такой же фамилией, что и у одного из бессмертных романистов мира. И вот, слушая в тот день в своей комнате у Етты мрачные аккорды Малера, она вспомнила об этом стихотворении и решила до занятий заглянуть в библиотеку Бруклинского колледжа и полистать произведения этого поразительного художника, которого она по невежеству считала мужчиной. Эта невинная ошибка, как она потом заметила, рассказывая об этом мне, послужила основой для небольшого мозаичного панно, запечатлевшего ее встречу с Натаном.
Софи помнила все так ясно – как она вышла из пышущего жаром удушья ненавистного метро и очутилась на улице залитого солнцем студенческого городка, с его прямоугольниками сочной зеленой травы, высокими деревьями и обсаженными цветами аллеями, по которым текла толпа слушателей летней школы. Софи всегда почему-то было здесь покойнее, чем в других частях Бруклина; хотя этот колледж был так же не похож на Ягеллонский университет, знакомый ей с детства, как сверкающий хронометр на замшелые солнечные часы, однако эти поразительно небрежно одетые и беспечные толпы студентов, это кипение жизни между занятиями, этот академический вид зданий и сама атмосфера благотворно действовали на Софи, она расслаблялась и чувствовала себя как дома. Среди этого беспорядочно бурлящего Вавилона мирным цветущим оазисом лежали сады. В тот день, проходя по их краю к библиотеке, Софи мельком увидела сценку, которая так прочно засела в ее мозгу, что она потом даже думала, не было ли это каким-то таинственным образом связано с Натаном и неизбежностью его появления в ее жизни. То, что она увидела, даже по принятым в Бруклинском колледже нормам благопристойности, бытовавшим в сороковые годы вообще, никак не могло ее шокировать, да, собственно, и не столько шокировало, сколько возбудило: должно быть, подсмотренное ею быстрое и отчаянное слияние двух тел оказалось способно разворошить золу, под которой в ней тлел огонь, а она ведь считала его навсегда угасшим. Достаточно было мимолетного взгляда – и в ее мозгу осталась цветная фотография, на которой два смуглых, поразительно красивых молодых существа стояли, прислонясь к дереву; не выпуская из рук учебников и, однако же, подобно Давиду и Вирсавии, забыв обо всем на свете, они прильнули друг к другу и целовались, словно изголодавшиеся звери, пожирающие друг друга, – сквозь черную завесу волос девушки, волною низвергавшихся на плечи, то и дело проглядывала, мелькая, розовая плоть языка.
Оцепенение прошло. Софи оторвала от них взгляд: у было такое чувство, словно ее ударили ножом в грудь. Она заспешила дальше по заполненной людьми дорожке, ощущая, как лихорадочно горят у нее щеки и сердце бешено бьется в груди. Это было необъяснимо и страшно – такая жажда любви полыхала в ней. После того как она столько времени не чувствовала ничего , после того как столько времени не испытывала желания! А сейчас у нее горели даже кончики пальцев, огонь пробегал по всему ее телу, но главный очаг был внутри, где-то внизу живота – такого страстного желания она не ощущала столько месяцев и лет, что потеряла им счет.
Однако это невероятное волнение быстро испарилось. От него уже не осталось и следа, когда она вошла в библиотеку, – оно исчезло задолго до того, как она обнаружила за стойкой библиотекаря-нациста. Нет, он, конечно, не был нацистом – не только потому, что на белой дощечке черными буквами было выгравировано «мистер Шолом Вайс», но и потому... ну разве мог нацист выдавать книгу за книгой из собрания всей человеческой мудрости, хранившегося в библиотеке Бруклинского колледжа? Но Шолом Вайс, бледный угрюмый мужчина лет тридцати, в роговых очках, придававших ему воинственный вид, и с зеленым козырьком над глазами, был так разительно похож на тупоумного, непробиваемого, лишенного чувства юмора немецкого бюрократа, получеловека-получудовище, каких Софи знавала в прошлом, что у нее вдруг возникло страшное чувство, будто она снова очутилась в оккупированной Варшаве. И, несомненно, это впечатление déjà vue, это узнавание и породили в ней мгновенную беспомощность и растерянность. Ей снова стало плохо, и, с трудом преодолевая возникшее от слабости удушье, она застенчиво спросила Шолома Вайса, где находится каталог, в котором она могла бы найти перечень произведений американского поэта девятнадцатого века Эмиля Диккенса.
– В зале каталогов, первая дверь налево, – буркнул Вайс, даже не улыбнувшись, и после долгой паузы добавил: – Но такого вы там не найдете.
– Не найду? – озадаченно повторила Софи. И, помолчав немного, спросила: – А вы не могли бы сказать, почему?
– Чарльз Диккенс – английский писатель. А американского поэта по имени Диккенс – нет . – Голос прозвучал так резко и враждебно, точно полоснул ножом.
Борясь с подступившей вдруг тошнотой и головокружением, чувствуя, что мурашки, покалывая множеством иголочек, побежали по ногам и по рукам, Софи с отрешенным любопытством увидела, как голова Шолома Вайса, с застывшим на лице непреклонно-суровым выражением, оторвалась от шеи и сжимавшего ее воротничка и куда-то поплыла. «До чего же мне ужасно плохо», – мысленно произнесла она, словно обращаясь к невидимому заботливому доктору, и тем не менее сумела выдавить из себя библиотекарю:
– Я уверена , есть такой американский поэт – Диккенс.
Подумав затем, что те строки, те певучие, исполненные печальной музыки строки, говорящие о быстротечности времени и бренности всего живого, должны быть столь же хорошо знакомы американскому библиотекарю, как предметы домашнего обихода, или патриотический гимн, или собственное тело, Софи почувствовала, как губы ее приоткрылись, чтобы произнести: «Раз к Смерти я не шла...» Отвратительная тошнота подступила к горлу. И Софи не уловила момента, когда где-то в дальнем уголке безжалостного мозга Шолома Вайса произошло осознание того, что она глупо и нахально возражает ему. Она так и не успела произнести первую строку стихотворения – голос библиотекаря прорезал тишину, царящую обычно в библиотеке, так что вдали смутно зашевелились тени голов. Это был хриплый, царапающий по нервам шепот – вздорный, исполненный яда непонятной злобы ответ, в который было вложено все скудоумие и возмущение мелкого, наделенного властью обывателя.
– Послушайте, я же сказал вам, – произнес голос, – нет такого человека! Вы что, хотите, чтоб я вам это нарисовал ? Я к вам обращаюсь, вы меня слышите ?!
Шолом Вайс вполне мог решить, что сразил ее своими словами. Ибо, когда Софи через несколько мгновений очнулась на полу от глубокого обморока, в ее мозгу все еще рикошетом отдавались его слова, и она смутно поняла, что лишилась чувств как раз в тот момент, когда он умолк. Но в ее сознании все перекосилось, связи порвались, и она толком не соображала, где находится. В библиотеке – да, она, несомненно, находилась в библиотеке, но она неудобно лежала на каком-то диване или на подоконнике, недалеко от стойки, возле которой упала, и она чувствовала такую слабость, и такой омерзительный запах наполнял воздух – кислый запах, который она не могла определить, пока не почувствовала, что блузка у нее спереди вся мокрая; тогда она поняла, что ее стошнило. Влажная пленка блевотины отвратительным грязным слоем покрывала ее грудь.
Но не успела она осознать это, как ее внимание привлекло что-то еще, и она безо всякого интереса повернула голову на звук голоса, мужского голоса, звонкого, властного, яростно отчитывавшего потного субъекта, который, съежившись, стоял к ней спиной, но в котором она по съехавшему набок зеленому козырьку тем не менее смутно признала Шолома Вайса. А в голосе мужчины, которого она едва видела с того места, где лежала пластом, слабая и беспомощная, было столько суровости, властности и яростного возмущения, что странный приятный холодок пробежал по ее спине.
– Я понятия не имею, что вы собой представляете, Вайс, но вы плохо воспитаны. Я тут стоял рядом и слышал каждое ваше мерзкое слово – все, что вы говорили ей! – гремел голос. – И я слышал, как невероятно грубо и возмутительно вы разговаривали с этой девушкой. Неужели вы не могли понять, что она иностранка, вонючий вы момзер, шмок!
Вокруг собралась небольшая толпа, и Софи видела, как трясся, словно под порывами буйного ветра, библиотекарь.
– Вы, Вайс, кайк, настоящее кайк: вот из-за таких, как вы, поганых выродков и идет дурная слава о евреях. Эта девушка, прелестная, милая девушка, у которой еще не все ладно с языком, задает вам вполне нормальный вопрос, а вы относитесь к ней так, точно перед вами кусок дерьма, на который вы наступили. Мне бы следовало раскроить вам вашу дурацкую башку! Вам не книгами заниматься, а в водопроводчики идти!
Еще не вполне придя в себя, Софи вдруг, к своему изумлению, увидела, как тот человек дернул вниз зеленый козырек Вайса, и козырек повис у него на шее, точно ненужный целлулоидный придаток.
– Ах ты, мерзкий маленький поц, – продолжал голос, исполненный брезгливости и презрения, – да глядя на тебя, кого угодно вырвет!
Тут Софи, должно быть, снова потеряла сознание, ибо дальше помнила уже лишь то, как ласковые, сильные и удивительно заботливые пальцы Натана, перепачканные, к ее великому смущению, ее блевотиной, однако бесконечно утешительные и успокаивающие, легонько прикладывали ей ко лбу что-то влажное и прохладное.
– Все в порядке, детка, – шептал он, – вы будете в полном порядке . Только не надо ни о чем беспокоиться. Ах, какая же вы красавица , и как это вы умудрились родиться такой красивой? Лежите не двигаясь – вы в полном порядке, просто у вас был небольшой обморок. Лежите спокойно, предоставьте доктору позаботиться обо всем. Вот так, а теперь как мы себя чувствуем? Не хотите ли глотнуть водички? Нет-нет, ничего не говорите, лежите спокойно, через минуту почувствуете себя совсем хорошо. – Голос звучал и звучал, тихий монолог, убаюкивающий, умиротворяющий, наполнявший ее чувством покоя, – мягкий рефрен, снявший напряжение, так что Софи скоро даже перестала стыдиться того, что руки незнакомца перепачканы ее зеленоватой желчью, и лишь почему-то пожалела, что, едва открыв глаза, сказала ему первую пришедшую в голову фразу, невероятную глупость: «Ох, по-моему, я умираю».
Нет, вы не умрете , – твердо и бесконечно терпеливо повторил он сейчас, в то время как его прохладные пальцы освежали ее лоб, – вы не умрете, проживете до ста лет. Как зовут вас, милочка? Нет, не говорите сейчас – лежите спокойно, красотка. Пульс у вас хороший, ровный. Вот так, а теперь глотните немножко воды...