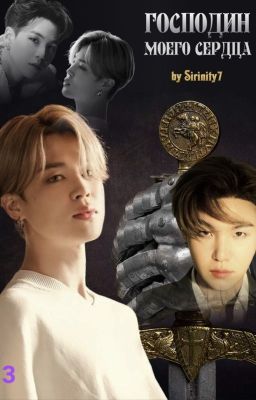Часть 7
========== Глава 7 ==========
Париж. Франция. 1202г.
Колокола Нотр-Дам-де-Шартра — величественного собора в пригороде Парижа, возвещают об окончании церемонии венчания дофина Франции герцога Анжуйского и графини Прованской. Великолепные витражи собора отбрасывали причудливые тени на холодный мрамор, пламя огромных свечей разбавляющих сумрак кафедры, играл бликами на лицах людей стоявших рядом друг с другом, отражаясь в драгоценных камнях их украшений и свадебных нарядов.
Бэкхён смотрел на что угодно — капители величественных колонн, барельефы каменных стен, продолговатые ряды нефа позади невесты, но не на неё саму. Пусть она и прекрасна в своей юной девичьей красоте, с распущенными длинными русыми волосам, с нежным цветочным венком на голове, в белоснежном подвенечном платье, но чужая для юноши. И, по видимому, Элеонора это почувствовала за все те месяцы, что была рядом с женихом.
Торжественные слова священника проносятся эхом под сводами собора, когда юная невеста протягивает кольцо для жениха и застывает, заметив, что на безымянном пальце уже есть кольцо с невероятным нефритом. Элеонора смотрит на Бэкхёна непонимающе, а тот лишь оттопыривает мизинец правой руки, и невесте ничего не остаётся, как надеть его, понимая смысл вложенный в этот жест — нежелание обзаводиться семьей.
Говорят, такова участь всех сильных мира сего — брак без любви и по расчёту, и так печально, что и эту пару она не миновала. И жених и невеста, а теперь уже муж и жена, выглядели, мягко говоря, не самыми счастливыми молодожёнами. Но у родни молодого герцога, да и юной теперь герцогини, были самые счастливые лица на свадьбе.
Чимин стоял рядом с женихом, улыбался мягко, поздравлял и желал счастья, а у самого сердце сжималось за друга. Прошло почти три месяца с тех пор, как Чанёль уехал, и юноше трудно вспоминать тот кошмар, пережитый его другом. Истерика и слёзы сменились такой апатией, что Бэкхён просто отказывался есть, разговаривать, вообще двигаться, пластом лёжа на постели и остекленевшим взглядом смотря в окно. А вокруг предсвадебная суета — портные, ювелиры, повара, герцогиня Бён, суетящаяся и контролирующая всё, хоть на сына не обращала никакого внимания.
— Эти страдания от дьявола, — говорила она Чимину, пытавшемуся уговорить её проявить хоть каплю участия к собственному сыну. — Мой сын расплачивается за свои грехи. Божья кара справедливого суда настигла его. Я могу лишь помолиться за его пропащую душу, чтобы Господь наставил его на путь истинный. Эта женитьба не только сделает его королём государства, но и спасёт его душу.
Жестоко слышать такие слова от родной матери, но чего ожидать от женщины, что была далека от сына после смерти мужа, а уж после его «греховного влечения» и вовсе чуть ли не отказалась от него.
Сейчас, находясь рядом с другом в величественном соборе, в такой красивый и торжественный день, когда колокола вокруг звенят, и радостные крики гостей приветствуют молодожёнов, Чимин тоже радуется, надеясь, что с этого дня Бэкхён всё же сможет поселить в сердце новые чувства и забыть о мужчине. Но только посмотрев в его печальные глаза, цвета тёмного мёда, и увидев всю глубину его боли, юноша понимает — не забудет, не сможет выбросить из сердца, ибо это самое сердце всё ещё в руках Чанёля.
*
Свадебный пир отшумел. Молодожёнов проводили в опочивальню для первой брачной ночи, держа высоко свечи над ними. Родные и близкие молодой супружеской пары, довольно выпившие и потому разнузданные, позволяли себе похабные шуточки и наставления — что да как делать муженьку. Бэкхёна воротило от всего, буквально отворачиваясь от пьяных лиц, и только ясный взгляд друга, да жёсткие, цепкие глаза матери, позволяли ему сдерживать себя от вновь грозящей нахлынуть истерики.
По традиции родня уложила их на мягкую перину, прикрыв до пояса пуховым одеялом, и с пьяным громким гоготом скрылась за резной дверью, пожелав счастливой и удачной брачной ночи.
Едва щеколда захлопнулась, Бэкхён отворачивается от супруги, закутываясь в одеяло.
— Спокойной ночи, — доносится из-под одеяла, обрывая все попытки новоиспечённой жены на дальнейшее общение.
Тишина повисла в супружеской комнате, лишь секундами позже Бэкхён слышит тихое «Спокойной ночи, мой господин», кутаясь от этих слов сильнее, чтоб больше не слышать и не видеть её. Никто из них не шелохнулся, словно боялись малейшим шорохом нарушить тишину. Бэкхён так и не заснул, смотря как догорает свеча у окна, как в этом самом окне появляются первые лучи рассветного солнца, думая о том, что за судьба у него такая — смеётся над ним, испытывает его, а он ни на что не решается, не сопротивляется, пустив всё по течению. Где он ошибся? Когда упустил момент, что привёл его к тому, что происходит сейчас? Почему отпустил его, не вцепился зубами и ногтями, не приказал запереть ворота и не выпускать из замка? «О, Чанёли! О, любовь моя!» — юноша готов выть в подушку, лежа рядом с законной супругой, думая о мужчине. Он слышит тихий, задушенный всхлип, понимая, что Элеонор тоже плачет, но ни утешить, ни приласкать её он не может... и не хочет.
*
— Бэки, прошу, не гневайся. Не стоит терзать сердце и мысли.
— Не стоит терзать?! — юноша понимает, что выплёскивать гнев на ни в чём не повинного друга последнее дело, но сдерживаться больше нет сил. — Меня тошнит от всего этого, этого фарса и показушности! Я чувствую себя жертвенным бараном, которого принесли в дар чужим желаниям и надеждам, напрочь лишив их меня самого.
— А ты не подумал, что и она чувствует то же самое? — робкий голос юноши заставляет поостынуть горе-жениху.
— Даже если моя новоиспечённая жёнушка будет, ломая руки, причитать о своей несчастной доле в замужестве, меня это не тронет. Она мне не нужна, Чимин. Как жена не нужна, как женщина не нужна! Я не могу смотреть на неё!
— От неё потребуют наследника, Бэк... от вас потребуют. Что ты будешь делать?
— Мне плевать от кого она родит, но не от меня точно, ибо я и пальцем к ней не притронусь.
А вокруг шумный праздник, который устраивает для молодой четы сам Людовик Французский. Гости шумно веселятся — едят, пьют, а Бэкхён мягко поглаживает нефрит на пальце, прикрывая глаза и вспоминая тот счастливый момент, когда Чанёль подарил его ему. «С тобой, ангел мой» — слова мужчины столь отчётливо звучат в голове, и Бэкхён прокручивает в мыслях снова и снова каждое мгновение того дивного утра его дня рождения. О, как он был счастлив тогда! И в своём нынешнем несчастии ему некого винить — он сам во всём виноват, ему и исправлять всё это.
— «Я верну тебя, Чанёли! Чего бы мне это нестоило, верну тебя, любимый!» — юноша поклялся сам себе в тот момент, крепко сжимая кольцо в руках, но когда его неожиданно касается нежная рука Элеоноры, он вздрагивает.
Робкое прикосновение жены вызвало большее раздражение, и Бэкхён неконтролируемо отпихивает руку Элеоноры, приводя её в полное замешательство. Больше попыток коснуться мужа она не предпринимала.
Снова ночь у молодожёнов, а родственники чуть ли не со свечками под дверью стоят. Элеонора почти что плачет, робко смотря слезливыми глазами, сидя на постели, к которой Бэкхён вообще не подошёл.
— Не смотрите на меня так, Элеонора. Я не возлягу с Вами, и не собираюсь быть Вам супругом в истинном его проявлении.
Девушка рыдает лишь сильнее, сжимая одеяло в руках:
— Что мне делать, мой господин? Я должна предоставить доказательство своей невинности. От меня ждут...
— Решайте это без меня!
— Но как?!
— Не мне говорить, на что способны женщины, чтобы показать следы своей невинности. Уверен, Ваша матушка всё Вам объяснила.
Элеонор затихает немного, поднимая заплаканный взгляд на мужа, сильнее сжимая пальцы, мгновенно краснея и тут же опуская глаза.
— У меня... есть пузырёк со свиной кровью, — совсем тихо шепчет девушка. — Кормилица дала на случай... если... сил не хватит у мужа, — последние слова она еле лепечет в одеяло, но Бэкхён всё равно слышал.
— Вот и славно, — выдыхает юноша, смотря на юную жену. — Хорошая кормилица, дай Бог ей здоровья.
— Я должна родить Вам ребёнка, мой господин, — снова прячется за одеялом Элеонора, — в течении года... иначе...
— Что? Иначе, что? — Бэкхён подходит ближе, не желая пропустить ни слова из откровений жены.
— Если я окажусь бесплодной, меня заменит моя сестра...
— Что за бред?
— Таковым был договор между королём Франкии и моим батюшкой. Король хочет наследника, — и девушка снова плачет.
— Луи! Я придушу тебя! — тихо шипит герцог, сжимая кулаки, гнев накатывает на него, заставляя наброситься на юную жену, цедя сквозь зубы. — Я вам не племенной бык-осеменитель, чтобы оплодотворять всех представительниц женского рода Вашей семьи. Ни Вы, ни Ваша сестра, ни кто-либо ещё, мне не нужны. Я разведусь с Вами при первом же благополучном случае. Ещё раз заикнётесь о ребёнке — вышлю Вас с позором домой. Мне уже терять нечего, кроме этой дурацкой короны, которая мне к чёрту не сдалась.
— Меня отправят в монастырь! — в сердцах кричит девушка сквозь слёзы, пытаясь докричаться до мужа в своём отчаянии.
— Вот и помалкивайте, и сидите тихо, не попадаясь мне на глаза. Хватит лить слёзы. Вы не разжалобите ими меня. Смиритесь, что это замужество будет для Вас несчастливым. И я даже не буду просить прощения, ибо заплатил за это слишком большую цену.
— Я знаю — Вы любите другую, и Вас разлучили с ней.
— С ним. Я люблю другого, — громко произносит юноша, чтобы у супруги не осталось сомнений в том, что слышит, а у бедной девушки округляются глаза, и слёзы от шока перестали литься. — Я потерял его так глупо, так жестоко. И всё внутри меня разрывается от бессильного гнева, что я ничего не могу исправить. Вам меня не понять.
— Понимаю... я Вас понимаю! — слишком быстро выдыхает девушка, пугаясь собственных слов.
Бэкхён сразу всё осознаёт, смотря пронзительно на свою побледневшую жену.
— И кто он? — криво усмехается герцог, видя как задрожали руки Элеоноры.
Она сглатывает нервно, осознавая, что сглупила невероятно, но пути назад нет.
— Он... оруженосец папеньки... в его свите.
— Его вассал?{?}[Вассал — в Средние века «слуга», человек, исполнявший в обмен на предоставление земли в держание определенную службу в пользу вышестоящего феодала, с которым он был связан клятвой верности]
— Нет, свободный наёмник. Он пришёл служить к папеньке... из-за меня. Но... мне выбрали в мужья Вас.
— Значит и Вы жертва этого, навязанного нам обоим, брака...
— Это участь всех женщин, я смирилась. Мы не имеем права выбирать тех, кого любит сердце. Только прошу Вас — не отсылайте меня в монастырь, где я буду укрыта от всего мира. В браке с Вами я могу хоть изредка видеть его.
Бэкхён почему-то молча, стремительно идёт к окну, вглядываясь в темноту двора через стекло. Он готов поклясться, что видит в непроглядной тени у противоположной стены, застывшую фигуру мужчины, и это точно не из стражи замка, где проходили свадебные празднества. У того мужчины глаза горели так, что невозможно было не заметить, и Бэкхён отходит от окна с неким облегчением.
— Не отошлю, не волнуйтесь. Обнадёжьте своего возлюбленного, скажите, что вы сможете быть вместе после развода, но обстоятельства держите в тайне, иначе Вы ничего не получите. После того, как я откажусь от Вас, Ваш отец отдаст Вас за кого угодно, хоть за рыцаря безземельного. А сейчас поспите, и надеюсь, мы больше никогда не вернёмся к этому разговору.
Бэкхён смотрит на судорожно кивающую молодую жену, а у самого на душе непонятно что творится. Вроде нужно бы оскорбиться, разгневаться на откровение жены, и наказать несостоявшегося её любовника, возможно, даже выставить перед её родственниками факты измены, которой и не было, но странное спокойствие, даже некое облегчение, поселилось в сердце юноши. И он просто лёг спать, моля Господа даровать ему силы выдержать всё это, сохранить жизнь его возлюбленному, а уж себе он его вернёт, хоть через молитвы к Дьяволу.
Шёл уже третий день свадебных торжеств, а мрачнее невесты и злее жениха ещё надо было поискать. Бэкхён ненавидел буквально всё вокруг, а ему приходилось проводить время на бесчисленных балах и празднествах, под руку со своей юной женой, и улыбаться... улыбаться как идиот, в то время, как хотелось рвать, метать и выть от безысходности. Казалось, этому не будет конца, но всё же, ясным декабрьским днём пышный свадебный кортеж выехал из столицы, чтобы вернуться в Анжу.
***
Долина Льежа. Фландрия. 1202г
Холодное осеннее солнце светило, но мало грело. Сокджин всё больше кутался в меховую походную мантию, глазами осматривая великолепные пейзажи Фландрии{?}[Фландрия — историческая область на территории современных Франции, Бельгии и Нидерландов], с её пологими холмами, покрытые густым лесом, величественными снежными вершинами, сверкающими своими ледниками в лучах утренней зари. Середина осени окрасила всё вокруг в мягкие золотисто-рыжие цвета, будь то листва деревьёв или бескрайние луга, уходящие к горизонту.
Дорога была лёгкой, и путь воинов был продуман так, что продвижение дивизионов было быстрым, без проволочек. Сокджин знает, что всё это дело рук лишь одного человека — его верного рыцаря. На каждом привале его ждёт уже поставленный шатёр, в котором горячие угли греют воздух и мягкую постель, вкусная еда и тёплая вода для омовения. Таких удобств нет ни у одного из знатных вельмож, что возглавляют поход, большинство из которых нередко ночуют под открытым небом. Намджун заботится о нём, зачастую лишая себя и остальных хоть мало-мальского комфорта. Вот и сейчас, после длительного ночного перехода по долине Льежа, подъезжая к небольшой деревеньке под Хассельтом, король видит огромный шатёр с королевскими гербом, разведённые костры, и склоненных перед ним дюжину прислужников. Кай помогает спешиться своему королю, улыбкой приветствуя его. Рядом с ним стоит Хосок, также склонившись перед королём.
— Мы хотели попрощаться с Вами, мой король, — виновато улыбается юноша, пряча погрустневший взгляд за чёрной отросшей чёлкой.
— Ты покидаешь нас, Кай? С лордом Лаутом? Скоро ль вернётесь?
— Я постараюсь вернуться как можно скорее, мой король. Буду молиться о Вашем благополучии, — Кай кланяется ещё ниже, давая понять, что большего он не может произнести.
Сокджин и сам всё понимает — у Белого рыцаря своя игра, которую он разыгрывает за спинами всех, и его в том числе, но король уверен в нём — всё, что делает Намджун, то лишь для его благополучия. Он верит ему больше, чем себе.
— Лёгкой дороги тебе, мой друг. Я буду молиться о благополучном исходе твоего дела, и жду тебя.
— Монсеньёр Сокджин, — Хосок снова склоняется перед ним, улыбаясь широко, распахивая полы мехового плаща, несмотря на холод, — я буду молиться о благополучном исходе нашего дела. Сама Судьба даёт мне возможность сделать это в Святая Святых.
— И Вам моё почтение, лорд Лаут. Я буду молиться о Вашем здравии.
— Лучше выпейте крепкого вина, или белого эля, — смеётся ирландец, — так точно Ваша молитва дойдёт.
— Хорошо, — легко соглашается Сокджин, — выпью за Ваше здоровье, — и улыбается ему самой мягкой улыбкой.
— Мы присоединимся к Вам уже в Венеции, мой король. Прощайте! — юноша кланяется почтительно, и смотрит преданно в глаза прежде, чем седлать коня и отбыть с отрядом воинов.
Сокджин лишь печально смотрит им в след, не торопясь пройти в шатёр, и краем глаза видит Намджуна, что спешит к нему.
— Мой король...
— Позже, я хочу отдохнуть, — юноша не дал договорить мужчине, что застыл в поклоне перед ним, сразу же исчезая за пологом шатра, а у рыцаря в который раз сердце разрывается — его не хотят видеть!
С того самого дня в Анжу, когда истосковавшийся король не нашёл отклика у мужчины, Намджун наказан — его лишили милости видеть прекрасные глаза, слушать чарующий голос наедине, прикасаться поцелуем к его божественной руке. Мужчина лишён всего этого. Сколько раз его не допускали в шатёр к монарху, ссылаясь то на усталость и сон, то на занятость, и так целый месяц. Того, что творится во влюблённом сердце Белого рыцаря не знает никто — его чувство — это тайна, которую он хранит бережно. Но прямо сейчас мужчина сходит с ума, он больше не выдержит этого равнодушия! Твёрдой рукой он отодвигает прислужника у входа в шатёр, решительно шагая вслед за королём.
Он застаёт его у огня, протягивающим к пламени дрожащие руки, и лицо, прекрасное в своей печали и отрешённости, застыло в усталых чертах. Намджун снова перед ним коленопреклонённый.
— Мой король, через два дня мы будем в Монферратии. У Вас будут какие-либо указания?
Сокджин оборачивается стремительно, и нежно-карий взгляд смотрит взволнованно на стоящего перед ним на коленях мужчину. Он молчит, не хочет говорить о том, что боится.
— Мой король?..
— Мой дом — место, где я хотел бы оказаться меньше всего. Я не уверен, что хочу снова лицезреть всё это.
— Ваш дом встретит Вас гостеприимно. Это Ваша земля, и там Ваши подданные, что будут встречать своего короля как истинного освободителя.
Сокджин лишь горько усмехнулся, понимая, что и «гостеприимный дом» и «радующихся» королю-освободителю подданных Намджун ему обеспечит.
— То, что моя мачеха и мой брат скрылись в Ахене под боком императора, оставив эти земли, не значит, что они мои. Увы, я король без королевства, — горькая усмешка мелькает на красивом лице юноши, и он снова отворачивается от мужчины.
— Это скоро будет исправлено, мой король. Вы единственный наследник этих земель, — но Сокджин слабо отмахивается от его слов, стягивая с плеч дорожный плащ.
— Отдохни, Намджун. Я верю — свой долг в этой священной миссии ты сможешь выполнить. Оставь меня.
Секунды мужчина ещё не шевелится, не спешит уходить, ждёт милости, но король снова отворачивается к огню, показывая, что разговор окончен. Сокджин слышит, как тихо вздыхает мужчина за его спиной, чувствует его смятение и некую обречённость. Когда глухо бряцает кольчуга о меч рыцаря, юноша понимает, что мужчина поднялся с колен, и с поклоном, уходит. И впервые за долгое время Сокджин думает, что лучше бы Намджун не спасал его, не освобождал из той башни, и он погиб бы там, зачахнув от одиночества и тоски, но с мыслями, что где-то там есть человек, любящий его. Лучше бы умереть с этой обманчивой надеждой, чем вот так всю жизнь мучаться от понимания, что его любовь безответна. Лучше бы он никогда не любил.
*
Огромная долина наполняется воинами, что дисциплинированными отрядами располагаются по корпусам. Главнокомандующий объявляет о двухдневной подготовке к переходу по германским землям, и тут же рассылает гонцов к командующим дивизионов и командиров.
Через час в шатре собрались чуть более двух десятков мужчин разных возрастов, титулов и происхождений — французов, британцев, фламандцев, ирландцев, англичан. Намджун смотрит на них пристально, никто и слова не произнесёт пока он не разрешит, а после докладов подчинённых рыцарь был явно раздасован и зол.
— При всей укомплектованности войско пилигримов насчитывает лишь семнадцать тысяч воинов, из которых пехотинцев лишь девять тысяч. Где ваши хвалёные отряды кавалерии, что должны были нас ожидать у Бурже? Где табуны боевых лошадей, что должны были быть предоставлены в Сент-Катене?
Все молчат, понимая, что это промах некоторых из них, а наказание за это получить реально.
— Молчите? А я скажу вам где! — продолжил мужчина, всё больше повышая голос. — Графы Шомон и Нанси, виконт Альби... все они трусливо поджали хвосты, предпочтя спрятаться в своих норах, лишив войско пилигримов десятой части своих доходов. Но ещё хуже поступили правители Тулузы и Лангедока, что решили выступить в поход обособленно от войска пилигримов и самостоятельно отплыть к берегам Египта. О, они не знают какой урон получат от своей необдуманной затеи — Египет давно откупился серебром, и ни один корабль не возьмет на борт крестоносцев.
— Мы не можем пополнять войско сверх того, что имеем, — один из командующих всё же берёт слово. — Все, кто принял Крест Папы прибыли...
— Но этого мало! Нужны ещё люди, лошади, оружие!.. — все снова замерли, понимая, что главнокомандующий готов огласить решение. — Поэтому я, как наместник Папы Римского, как предводитель похода крестоносцев, принял решение — мы наберём недостающее войско и оснащение на тех территориях, через которые мы будем проходить. Я даю полную свободу отрядам забирать всё, что посчитают необходимым для нужд войска, будь то золото, серебро, припасы, оружие, кони...
— То есть разбой? Называйте как есть, главнокомандующий.
— Называйте это как хотите, — цедит сквозь зубы рыцарь, взглядом буравя того, кто заговорил с ним в таком тоне. — Для меня всё верно, если оно служит нашей святой миссии и поможет нам добраться до Святой земли и освобождения Гроба Господня. И запомните все — пятая часть вашей добычи принадлежит лично королю Монферратскому, десятая часть должна пойти в казну войска, всё остальное — ваше. Через два дня выступаем в долину Савои, затем через маркграфство Монферратии и Лигурии, далее за две недели мы должны обойти Север Италии через Дженовию и Эмилию, и выйти к Венецианской республике. У нас не более месяца, чтобы увеличить войско и накопить необходимую сумму за корабли. За ослушание и самоуправство всех неминуемо ждёт наказание.
И всё же, большинство восприняли приказ главнокомандующего воодушевлённо. Рыцарь — это он называется благородно, но в большинстве своём, всё тот же свободный разбойник, только «голубых кровей».
Юнги слушал слова Белого рыцаря, понимая их оправданность — такие времена требовали соответствующего выбора, и обвинять их предводителя в принятии решений лишённых благородства, никто не имел права. Он остался с Намджуном когда остальные покинули место совещания — ему нужно было поговорить с предводителем, и понимал, что рыцарь почему-то доверяет ему чуть более, чем остальным.
— Ты тоже против «разбоя» благородных рыцарей? — усмехается мужчина, устало стаскивая кольчугу и взъерошивая белые пряди волос.
— Нет. В данной ситуации, это правильное решение.
— То есть ты не осуждаешь? — с подозрением спрашивает Намджун, смотря исподлобья.
— Не так много времени прошло с последнего похода крестоносцев{?}[Третий крестовый поход (1189—1192) был инициирован римскими папами Григорием VIII и (после смерти Григория VIII) Климентом III. В Крестовом походе приняли участие четверо самых могущественных европейских монархов — германский император Фридрих I Барбаросса, французский король Филипп II Август, австрийский герцог Леопольд V и английский король Ричард I Львиное Сердце.], десять лет не такой уж и большой срок. И, думаю, люди до сих пор помнят опустошающие набеги пилигримов, совершающих это во имя Господа нашего. А ведь тогда войска возглавляли благороднейшие правители мира, в храбрости и доблести которых ни у кого не было сомнений. Но и тогда грабежи были оправданы, что уж говорить сейчас.
— Ты меня пытаешься оправдать? — ещё более подозрительно косится Намджун, подзывая слуг для совершения омовения. — Разделишь со мной завтрак? — жестом приглашает к столу мужчину.
— С удовольствием, и мне нужно обсудить с тобой кое-что.
Намджун знает о чём будет разговор. Всё это время он видел спокойствие и сосредоточенность графа, понимая, что Юнги предпочёл путь наименьшего сопротивления — чем быстрее он выполнит свой долг в походе, который к чертям ему не нужен, тем быстрее он покинет это место. Вот только отпускать его Белый рыцарь не намерен.
Уже за столом, поедая холодную оленину, свежий рассыпчатый сыр и мёд, запивая его диковинным чаем, Юнги всё же озвучил то, что его волнует давно:
— У нас нет столько серебра, Намджун, — мужчина смотрит спокойно, но голос напряжён. — Двадцать тонн, как ты себе это представляешь? Даже если каждый участвующий в походе дворянин отдаст все свои ценности, даже если мы огнём и мечом пройдёмся по южно-германским территориям, у нас не будет столько денег.
— Не будет, — спокойно соглашается Намджун, пронзительно смотря на собеседника.
— Почему мне кажется, что к решению этой проблемы, я буду иметь непосредственное отношение? — чуть тише озвучивает Юнги, так же упрямо и твёрдо смотря на беловолосого.
— Ты должен поддержать меня, в том решении, которое я озвучу, даже когда все будут против. Если ты и твои отряды будут на моей стороне, остальные не посмеют пойти против.
— Хосок? — граф уверен, что и его друг не отступится от Белого рыцаря.
— Он со мной, — быстрый ответ рыцаря уверил Юнги в правдивости его предположений.
— Я поставлю условие...
— Знаю я твоё условие, — тихо смеётся Намджун, видя абсолютное нетерпение мужчины вернуться в Анжу.
— После Венеции, — начал вкрадчиво Юнги, — я оставляю тебе отряды и ухожу. И ты не остановишь меня.
— Хорошо, — после нескольких секунд тишины ответил беловолосый.
Ложь. Полный обман, а Намджун даже глаз не отводит, и ни один мускул на суровом лице не дрогнул. Так что, пусть пока и Юнги будет обманываться надеждами, которых у него нет.
***
Анжу. Франция.1202г.
Тоскливые осенние дни сменились не менее скучными зимними. Чимин не находил успокоения ни в чём — ничто не привлекало его интереса надолго: ни книги, ни стрельба, ни конные прогулки. Всё больше времени Чимин проводил в Анжу, или Бэкхён мог заявиться в Блуа, оставив в одиночестве свою супругу. Они находили друг в друге некое успокоение, и глаза Бэки, в которых, казалось, боль поселилась навечно, давали понять, что всё это было не сон — этот турнир, признание, Юнги...
Когда Чимин понял, что мужчина просто исчез, и его нет в замке, он испугался. Не описать то утро, когда он нашёл сломленного горем друга, что запинаясь и рыдая рассказывал обо всём. А после оба узнали, что и Юнги и Чанёль ещё накануне отбыли в лагерь крестоносцев и не вернулись. То, как стремительно ускакал Бэкхён в опустевший лагерь, и удручающую картину оставленного крестоносцами места, Чимин не забудет никогда. Тогда его собственное непонимание и обида померкли на фоне неподдельного горя его друга, что казалось потерял саму жизнь, ее смысл. Немного позднее Бэкхён получил письмо от Юнги, и Чимин узнал причины, из-за которых мужчине пришлось покинуть Анжу, но даже это не объясняло того, почему Юнги не оставил письма ему.
Обида сменилась злостью — на мужчину, что казалось просто обманул, поиграл, а может и посмеялся; на себя — за то, что дал себя утянуть в пучину непонятных чувств, хоть в глубине сердца Чимин понимал — всё это неправда. Юнги любил его. Невозможно смотреть такими глазами не любя искренне, шептать слова любви, идущие из самого сердца, целовать так, что ноги от слабости не держали. Так что юноша выдыхал печально, и скрепя сердце признавал — меньше всего ему нужно злиться на Юнги. Лучше на себя, за то, что слишком глубоко упал в него, в его прекрасное и нежное чувство, за то, что позволил себе влюбиться. Да, Чимин влюбился. Он признаётся себе в этом, находясь наедине сам с собою, в тишине и сумраке комнаты, когда мелкий снег за окном кружит и луна еле светит в тёмном небе. Тогда, лёжа в своей мягкой и тёплой постели, юноше показалось, будто всё это — жаркое лето, в которое они встретились словно в первый раз, турнир, что перевернул жизнь юноши с ног на голову, бал и торжество, где они танцевали так волнительно и ярко, тёплая река, в которой они купались и целовались, признаваясь друг другу в чувствах — всё это было в какой-то другой жизни, безвозвратно ушедшей. И теперь мысли разрывали его светловолосую голову — к чему всё это было, если судьба развела их друг от друга, если чувства так и остались неозвученными до конца? Может Юнги забыл уже о нём, или вспоминает с усмешкой? И что ему делать со своими собственными чувствами, что казалось лишь становились сильнее день ото дня?
В один из зимних холодных дней Чимин пришёл к реке, что помутнела и рябила под морозным ветром. Он видел небольшие лодки и вёсельные корабли, что проплывали вдалеке, и вспоминал, как они плыли на корабле с Юнги и Хёну. Тогда он боялся сильно, но помнит каждый момент рядом с мужчиной.
«Хочу показать тебе море... вот точно так же» — голос Юнги так отчётливо звучит в голове, что юноша жмурится от мурашек по коже, и жар протекает по телу несмотря на холод. «Я бы очень хотел... увезти тебя с собой... Показать мой Ла-Манш, силу его волн, суровость ветра. Ты бы полюбил его так же, как и я люблю.»
— Люблю... — тихо шепчет юноша, закрыв лицо руками, и так обидно и горько шептать столь долгожданные слова в пустоту, когда хотелось... впервые в жизни хотелось сказать их одному единственному человеку.
Наверное, именно тогда Чимин принял такое решение, что озвучил в тот же вечер перед своим другом, видя как загорелись его глаза, за долгое время.
— Я хотел бы поехать в Норфолк, — тихо, но твёрдо сказал тогда юноша. — Мы можем поехать туда вместе, Бэк? Хочу повидать Хёну. Хочу увидеть его дом. Я... хотел бы...
— Увидеть его? Увидеть Юнги? — Бэкхён смотрит, затаив дыхание, на своего прекрасного друга, в котором видит столь неприкрытые чувства.
— Очень, — выдыхает Чимин, словно признаётся в своей слабости. — Он говорил, что хотел бы отвезти меня с собой, в свой дом. Он обнимал меня... и шептал, что я обязательно полюбил бы его дом.
— Чимини, о, как мне жаль, что вам пришлось так расстаться. Боюсь даже представить, что пережил Юнги из-за вынужденного расставания с тобой, — Бэкхён порывисто обнимает друга, сам нуждаясь в утешении.
— Я не знаю, Бэки, Столько лет молчал, а потом нахлыну как ураган — ворвался в моё сердце, разбередил там всё, и исчез. А я здесь мучаюсь от непонимания и обиды — зачем всё это было, зачем все эти чувства, если теперь так больно? Но я очень хочу к нему домой, даже если его там нет, — слёзы прозрачными каплями стекают по бледным щекам, и юноша пытается спрятать их от друга, стесняясь своей слабости. — Ты хоть понимаешь до чего он меня довёл? — усмехается сквозь слёзы юноша, — Я влюбился в человека, которого боялся и ненавидел каких-то чёртовых полгода назад!
— Я так рад, Чимин, — Бэкхён тоже плачет и смеётся.
— Чему ты рад, дурак? — юноша сжимает друга сильнее, и сознание того, что он глубоко счастлив и несчастлив одновременно, заставляет его дрожать.
— Что ты влюбился, — выдыхает Бэкхён, — что в твоём сердечке есть тепло и желание, что ты счастлив.
Чимин начинает смеяться, пытаясь кивать головой на плече друга:
— Счастлив, очень счастлив, хотя радоваться нечему — мне кажется, он бросил меня.
— Нет. Здесь что-то не то. Не поверю, что Юнги мог не написать тебе. Да я готов поклясться, что он о тебе думает и днём и ночью, ищет возможности вернуться, в отличие от Чанёля.
Чимин затих, осторожно поглядывая на друга, искренне переживая, что истерика или апатия вновь накроют его.
— Бэки, я просто уверен, что Чанёль сожалеет о своём поступке, и непременно хочет вернуться к тебе, — но Бэкхён в ответ говорит такое, что мурашки идут по коже юноши.
— Это я его верну. Чего бы мне это не стоило. Из-за меня он ушёл, я его не удержал, позволил уйти, просто смотрел как он уходит... Я всё жду чего-то, хоть сам не понимаю чего именно. И мы поедем в Норфолк, нынче же. Можешь собираться, проведём там всю зиму.
Когда любовь захватывает сердце, а разум затапливает нежность к одному единственному человеку, все разговоры о нём, все желания и фантазии кажутся реальными, воплотимыми. И неважно где и как это произойдёт, неважно когда, важно что лишь с ним. И юноша замирает в ожидании этого момента новой встречи, что для юного сердца казался неизбежным — не может судьба просто так столкнуть двух людей так стремительно, крепко связав чувствами, не должно быть так, чтобы любовь, лишь коснувшись его сердца, исчезла без следа. И Чимин будет ждать, а то что судьба их снова сведёт у него не было сомнений.
— Видимо, это судьба.
***
Пустыня Эс-Сувейда. Айюбидское царство. 1202г.
Ночь накрывает барханы Сувейды, превращая их в чёрные холмы. Казалось бы в пустыне должна быть полная тишина, но она столь же многоязычна в своём постоянном движении барханов, в сухом шёпоте ветра, тихих перекатах курчавки — давно мёртвого кустарника, разбрасывающего свои семена. Но сейчас тишину сувейдской пустоши прорезают звуки мизхара{?}[Мизхар — барабан, мембрана которого крепится на большой раме], чьи глухие там-тамы задают ритм нашаткару{?}[Нашаткар — тип лютни с металлическими струнами] и скрипке. Музыка льётся по барханам, услаждая слух юного падишаха. Шатры стоят вокруг, шелестя тканью пологов и знамён, костры горят ярко в огромных медных чашах, мягкие ковры расстелены прямо на горячем песке, а на них — разнообразие блюд и напитков.
Тэхён полулежит на мягких подушках, наслаждаясь прохладой ночи. Сегодня, после долгого перехода из Эр-Раха в пустыню, юноша понял одно — он готов скитаться по миру босым и бездомным, если только рядом с ним — с мужчиной, от одного взгляда которого он плавится сильнее, чем от полуденного солнца пустыни.
Они объездили за эти два месяца бок о бок всю долину Идлиба, Хама и Дарья, направляясь через пустыню в Дамаск, а после им нужно направиться на север до Триполи. И Тэхён готов повторить этот действительно трудный переход, если Чонгук всё время будет рядом. Он никогда не был столь долгое время со своим наместником, не разговаривал с ним так много и по-разному, не сидел рядом, иногда позволяя себе уснуть на его широком плече, не смотрел так волнительно в эти бездонные чёрные омуты.
Чонгук присаживается рядом, сразу же протягивая молочный шербет и располагаясь на подушках вальяжно, словно большой, чёрный кот, вытягивая свои длинные ноги, опираясь на сильные руки, согнутые в локтях. Он улыбается падишаху широко, и открыто любуется юношей, что несомненно красив. Тэхён снял чалму, распустив свои каштановые кудри, оголил плечи, руки, сняв верхний дишдаш{?}[Дишдаш — длинная, до пят, свободная хлопчатобумажная рубаха.], и снял сандалии с ног, открывая изящные щиколотки в тонких золотых браслетах. Его яркие, охристого цвета шаровары, вышитые золотыми нитями, струились по бёдрам, тонкий белый жилет обхватывал узкую талию. Открытая шея и плечи сияли мягким загаром в свете пламени костров. Подведённые сурьмой глаза горели изумрудным огнём, высокие скулы подёрнуты лёгким румянцем, идеальный разлёт тёмных бровей застыл в задумчивости, заставляя маленькую морщинку появиться меж них. Губы блестят от влаги сладкого шербета. В ушах длинные золотые серьги, на запястьях золотые браслеты, в каштановых кудрях тонкие золотые нити, и весь он сам сияет золотой звездой.
— Ты прекрасен, Тэхён, — сорвалось с губ мужчины, заставляя вздрогнуть падишаха и посмотреть ему в глаза.
— Что? — непонимающе вскидывает брови юноша.
— О чём ты думаешь в столь дивную ночь, что даже моих слов о твоей красоте не слышишь? — Чонгук усмехается, как всегда.
— Я... я задумался, Чонгук. Мне кажется, нам нужно привлечь в союзники северные провинции Мадинат-эт Таурья. Мы можем направить послов в Ракка и Алеппо...
— Тэхён? Остановись, предоставь всё это мне. Ты не должен думать столько об этом.
— Сколько у нас конницы? На севере самые сильные лучники, нам нужно нанять их...
Мужчина цокает недовольно, слегка качая головой, поводит рукой в воздухе, давая знак своим слугам, что тут же подносят новые блюда, а вокруг костра высыпают гибкие танцовщицы, быстро и под ритм бубна перебирая босыми ногами.
— Не стоит, мой падишах, утруждать себя столькими заботами. Едва вернёмся в столицу, я снаряжу послов в северные провинции, а ты отдохнёшь. Лучше насладись вкусной едой и приятной музыкой, а твои дивные глаза усладят прекрасные танцовщицы, — Чонгук шепчет вкрадчиво, чуть придвинувшись поближе, мизинцем дотрагиваясь до тонкой щиколотки юноши.
Дрожь проходит по телу юноши от одного только этого лёгкого касания, и в горле пересыхает тотчас же. Он запивает шербетом волнение, стараясь не смотреть на мужчину, что присел, скрестив ноги, смотря на танцующих девушек.
— Принесите мне Кукки, — тихо озвучивает своё желание падишах, а Гела, всё это время стоявший невидимой тенью за спиной юноши, передаёт чуть подросший комочек рыжей шёрстки с тёмными пятнышками.
— Кукки, мой котёночек, — прижимает к себе ягуарчика Тэхён, — хочешь мяса? Хочешь покушать со мной, мой мальчик? Мой сильный и смелый малыш Кукки, — мурлычет юноша, а Гела прыскает со смеху, пряча улыбку ладонью от двусмысленности слов падишаха. — Куки, ты такой красивый, а вырастишь будешь опасно красивый, и только мой.
Тэхён цепляет своими длинными, тонкими пальцами кусочки жаренного на вертеле мяса, вскармливая своего зверёныша, а тот, довольный, облизывал своим шершавым язычком его пальцы, вызывая щекотку и смех у юноши. Падишах на время отвлёкся от всего, играясь с пушистым ягуарчиком, а тот перебирал лапками, пытаясь вскарабкаться на его плечи.
Музыка стала ритмичнее, и улюлюканья музыкантов громче. Языки пламени играли на полуобнажённых телах стройных танцовщиц, что двигались в хаотичном ритме, каждая стараясь привлечь внимание мужчин. Лишь долгие секунды спустя Тэхён замечает, что Чонгук глаз не сводит с танцующих девушек, откровенно любуясь ими, осматривая с ног до головы. А одна из них подходит, грациозно качая бёдрами, улыбаясь мужчине, привлекая всё его внимание.
Тэхёна аж молния прошибает насквозь от осознания, что Чонгук смотрит... не просто смотрит, любуется кем-то другим, и не просто кем-то, а грациозной, красивой девушкой. Ревность накрывает юношу удушливой волной, лишая разума и провоцируя на необдуманные действия. С секунду он смотрит как сияют восхищением глаза халифа, а после взрывается гневом, бросая в танцующих девушек кубок с напитком, а те с визгом, прикрывая лица руками, замирают.
— Пошли все вон! С глаз моих вон!..
Повторять не нужно, и с испугом девушки действительно разбегаются, прячась в шатре гарема, а музыканты убирают инструменты поспешно. От испуга прислужники падают ниц, не смея глаз поднять.
— Мой господин? — Гела взволнованно шепчет, склонившись перед падишахом, а сам Тэхён с искажённым от гнева лицом, замер, тяжело дыша.
Он кидает взгляд на Чонгука, что ухмыляется и смотрит с усмешкой в глазах, гордо вздёрнув подбородок. Тэхён не говорит ни слова, лишь поджав губы, сжимает Кукки в руках, пока тот не запищал от сильных тисков. Юноша поднимается стремительно, удаляясь в свой шатёр, а Чонгуку показалось, что в изумрудных глазах заблестели слёзы.
Эта была самая ужасная ночь в жизни юного падишаха — так он ещё не страдал от собственных чувств. Его выворачивало наизнанку от понимания, что Чонгук никогда не будет принадлежать ему, и он не имеет права так ревновать. Халиф сильный и здоровый мужчина, с потребностями, что продиктованы самой природой, так на что он надеется? Что мужчина выберет не красивую и здоровую девушку, а его — юношу, неспособного дать всего того, что может подарить женщина — страсть, удовольствие, потомство... А что может дать мужчине он, кроме никому не нужной любви, которую он и выразить не сможет, ибо страсть мужчины к мужчине грех, за который оба сгорят в аду, без права на возрождение души.
Судорожный вздох заставляет дрожать юношу, вперемешку с отчаянным всхлипом, что срывается с губ.
— Мой господин, — Гела смотрит жалостливо, не зная как помочь своему прекрасному и несчастному падишаху, — не нужно так выдавать себя, выказывая свою ревность...
— Думаешь, он не знает! — ещё отчаянней всхлипывает Тэхён, не скрывая своих слёз. — Знает, прекрасно знает и чувствует, что я... люблю его! Ненавижу!
— Так любите или ненавидите? — по-доброму усмехается синеглазый юноша, мягко обхватывая руку падишаха.
— Люблю, — беззвучно плачет тот, покусывая губы от бессилия. — Ненавижу это чувство, когда безысходность охватывает меня, когда понимаю, что нет надежды, и я никогда... не буду принадлежать ему, как и он мне. Нет хуже чувства, когда сгораешь от невозможной любви, от понимания, что ничего не будет.
— На всё воля Аллаха. Смиритесь, мой господин, пусть всё идёт своим чередом.
— Ты хочешь сказать, что столь греховное чувство даровано мне Всевышним? — горько усмехается юноша. — Что Он одарит меня своей милостью, внушив мужчине влечение к другому мужчине? Скорее это чувство от беса, чем от Всевышнего.
— Не говорите так, мой господин, — тихо смеётся Гела, а Тэхён по-детски жмётся к груди своего телохранителя, вытапливая слёзы. — Разве может быть от беса столь прекрасное чувство — любовь?! Разве может шайтан внушить нежность и заботу о любимом человеке? А ведь Вы делаете именно это — оберегаете его, защищаете, любите.
— Гела, я ревную его ужасно. Я умру если Чонгук посмотрит на кого-то другого! Это тоже от Всевышнего? Аллах покарает меня за столь чёрное чувство.
— Ревность — не зависть. Ревность — это беспокойство сердца, влюблённого сердца! А Ваше сердце любит без меры, вот и беспокойство столь же... необъятное.
Тэхён затих, откидывая голову на плечо своему телохранителю, что уже давно был не просто хранителем тела падишаха, но и верным стражем его сердечной тайны, его другом. Он думал о том, что Гела прав. Что его любовь к Чонгуку не может быть от дьявола, что столь нежное чувство есть дар небес, только сможет ли он его уберечь? Кошмары больше не мучили его за эти месяцы, но где-то в глубине души он понимал — это не конец, а лишь начало, и пророчество колдуньи он не забыл.
— Он здесь, — шепчет Гела тихо Тэхёну, отвлекая его от своих раздумий.
— Что? — непонимающе смотрит падишах, с дорожками высыхающих слёз на щеках.
— Чонгук сидит у Вашего шатра, мой господин, и не уходит.
— Ч-что ему нужно? — но Гела лишь пожимает плечами в непонимании. — Не хочу его видеть. Не пускай его сюда.
— Как прикажете, мой господин, — а синие глаза юноши смотрят в изумрудные, словно спрашивают, но Тэхён отворачивается от входа в шатёр, падая на подушки, показывая своим видом, что собирается спать.
Гела лишь усмехнулся тихо: «Сущий ребёнок, хоть и падишах», но присел всё же у входа, пальцем чуть отодвинув полог ткани. Чонгук сидел не шелохнувшись, в темноте невозможно было различить выражение его лица, но чуть сгорбленная фигура и поникшая голова говорили о глубокой печали и раскаянии. Юноше невероятно жаль обоих, что любят друг друга, только их любовь вызывает у Гелы лишь сожаление, ибо сколь сильна не была бы их любовь — она невозможна, ни здесь, ни где бы то ни было ещё. Но всё же он верил, что это чувство дано им не просто так, верил, что это действительно благословение Аллаха, иначе бы не сделал того, что делает прямо сейчас.
— Эй... — зовёт он мужчину, что вскидывает взволнованный чёрный взгляд на телохранителя, вот так запросто подзывающего его.
Он манит его пальцем, и Чонгук подчиняется, чуть ли не ползком пододвигаясь к пологу шатра. Гела ничего не говорит, лишь синим взглядом зыркает на лежащего спиной к ним юношу, и мужчина всё понимает, благодарно смотря на телохранителя.
— Не делайте ему больно, господин. Это единственное, о чём я Вас попрошу, — Гела шепчет тихо, боясь разбудить уснувшего падишаха, получая в ответ благодарный, красноречивый взгляд мужчины, обещающий все блага мира, и уходит бесшумно.
Чонгук замер на секунды, сидя на коленях перед своим любимым, а после ложится рядом, тихо опускаясь на подушки. Он не может коснуться его сейчас, но прикоснуться словами, окутать своей любовью, накрыть своей нежностью он может.
— Тэхён, — шёпот касается юноши совсем легко, не вызывая беспокойства спящего, — прости меня. Если бы ты только знал... насколько глубоко я в тебе одном. Прости меня. Я не могу сказать тебе этого, смотря в твоё прекрасное лицо, ни под солнцем, ни под луной, ибо это тогда будет признанием того, что я испытываю к тебе. Прости меня, пока ты спишь, пока мой голос звучит в твоём сне, пока я рядом с тобой так близко, и пока никто не видит. Но видит мой Бог, видит и знает, как я тону в тебе. Прости меня и за это, я же вижу, что я — причина всех твоих волнений, а я меньше всего хочу чтобы ты, прекраснейшее из творений Всевышнего, страдал по моей вине.
Чонгук выдыхает слишком громко, так, что от горячего дыхания чуть колышутся каштановые кудри, и мужчина не может отказать себе в слабости коснуться этих прядей, мягко пропуская меж пальцев, тут же убирая руки.
— Тэхён... — снова хриплым шёпотом, и столько отчаяния в голосе мужчины, что самому становится невыносимо жаль невысказанных слов, не озвученных до конца чувств. — Я буду рядом с тобой до конца моих дней, сколько бы мне не отвёл Всевышний на этом свете, я буду рядом.
Пусть тишина льётся меж них сейчас, лишь сердце мужчины отбивает ритм сладостного чувства, и лёгкий стрекот пламени от углей в медных чашах, прорезают молчание. Только душа всё не умолкает, всё шепчет и шепчет слова признаний другой душе, переплетаясь с ней крепко. Казалось, век бы так лежать рядом, забывая обо всём на свете, встречать рассветы и закаты, слушать голос и самому шептать.
Гела легко касается плеча халифа, лёгкой улыбкой и виноватым взглядом показывая, что время вышло, и Чонгук подчиняется, едва шелестя шёлковыми одеждами выходя из шатра падишаха.
Долгие секунды спустя Тэхён медленно оборачивается, смотря на своего прекрасного друга, сияющими счастьем глазами. Губы юноши дрожат, и сам он весь дрожит от невероятного ощущения.
— Я не знаю казнить мне тебя или наградить. Ты пропустил его ко мне, нарушив мой приказ, и сделал меня самым счастливым на земле. Я думал — я умру, захлебнусь от его голоса, от его теплоты и чувства... я так счастлив, Гела! — сбивчивое признание падишаха рассмешило синеглазого юношу, что тоже сидел перед своим повелителем с сияющими от радости глазами.
— Мой господин, всё ради Вашего блага, — кланяется юноша.
— Когда-нибудь я отблагодарю тебя, Гела, подарив такое же счастье.
— Я уже счастлив, находясь рядом с Вами, мой господин. Большего не надо.
Говорят ангелам дано право делать счастливыми людей — дарить тепло, давать надежду, обещать блаженство. И в этот момент Тэхёну показалось, что перед ним сидит действительно ангел, как иначе назвать этого прекрасного юношу, вернувшего ему, казалось, саму жизнь — Чонгук любит его! Пусть он это не сказал прямо, но по-другому не может и быть.
Рассвет над пустыней в то утро невероятно розовый, что вызвало изумлённые возгласы караванщиков. Ясное небо, словно розовый шёлк, расстилалось над ними, а барханы стали охристыми и белыми, превращая пустыню в сказочную картину.
Тэхён, весь в белом, закрывает лицо краем чалмы, пряча под тканью яркую улыбку, а под ресницами — сияющие счастьем глаза. И если это не любовь, тогда что? Что ещё может быть столь очевидным, сколько не прячь? Что ещё может быть столь сильным, сколько не сопротивляйся?