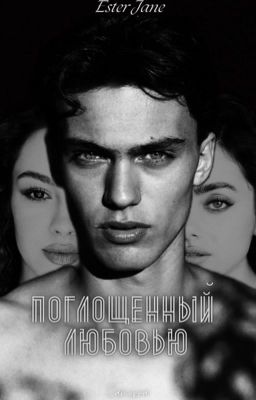Глава 12.
TEODORO
Я лежу смотря в потолок, и чувствую, как кожа зудит. Ощущать братские руки на своей шее не из приятных. Сегодня Андреа снова взорвался, и будь его воля, он бы придушил меня, но его взгляд, полный разочарования и боли говорил о том, что он не может сделать этого. По крайней мере, не своими руками. Вероятно, он бы выдохнул, если бы я погиб при перестрелке, или в какой-нибудь бойне с русскими.
Перевожу взгляд на пустое место рядом с собой. Почему я не могу выкинуть из головы мысль, что здесь должна лежать моя кошка? Она обязана лежать здесь, маститься к моему боку, говорить, что я воняю, но все равно лезть обниматься. Обязана щекотать мне подбородок своими шелковистыми волосами, болтать о том, что ей хочется на гонки, говорить, что моя мама не нравится ей, а я буду продолжать любить ее несмотря ни на что. Она обязана жить, блядь.
Выдыхаю. Вспоминаю день ее похорон, то, как Феликс рыдал, желая прыгнуть в ее могилу, как Адриана держала под руку Луку, что не соображал, что происходит, как Элиза и Сицилия всеми силами заставляли меня перестать рваться к ее телу, и повторять, что я хочу лечь с ней. Эта пустота пожирала меня день за днём с момента, как раздался ее последний вздох тогда, у машины, в снегу, в буре моих эмоций. Единственная женщина, которую я полюбил так сильно, что каждая клетка моего ничтожного существа желала быть с ней до конца, умерла на моих руках. Она умерла, и ее нельзя вернуть. Умерла так же как и те люди, который я беспристрастно лишал жизни только потому, что имел власть. Я грёбаный мясник. Я мудак и ублюдок, но я любящий. Любящий ее одну, и это невозможно вытеснить из моей головы. Невозможно.
Чешу синяк на шее, думая о том, что Андреа прав. Если я не перестану пить, то снова совершу ошибку, и больше никто не даст мне возможность исправить ее, как это происходит с Нерезой. Я был удивлен ее поступком, когда узнал, что она позвонила Андреа и попросила его привести меня в чувство, когда я захлебывался собственной рвотой после очередной интоксикации организма. Ещё чуть-чуть, и я мог бы умереть, избавив всех от страданий, в том числе и саму Нерезу. Но она чище меня, она невинна, благородна и слишком добра для такого, как я. Если Инесса была прямолинейной, и в нужных ситуациях жестокой и дерзкой, то Нереза казалась ангелом, который боится лишний раз произнести и слово. Но может быть, она лишь со мной такая? Я совершил непростительное, и если бы не дети, которых Нереза тяжким грузом на плечах, вынашивает, вероятно, я бы сделал все, чтобы исчезнуть из ее жизни, чтобы не делать ей больно.
Цербер запрыгивает на кровать, скручиваясь калачиком у моего бока. Я поглаживаю жесткую шерстку, и смотрю в его глаза.
—Скажи мне, что я совершил, и за что мне досталось все это? — спрашиваю я у пса, что стал моим единственным другом, который ни разу не осудил меня.
Все, включая Кассио, Элизу и Андреа осуждают меня, и правильно делают, но иногда хочется просто стать ребенком, лечь на чьи-то колени и получить любовь, которую мне когда-то давала Инесса. Прожив три десятка лет я так и не понял, за что вселенная наказывает меня.
Телефон вибрирует в кармане. Я не хочу поднимать, но делаю это, потому что вероятно, это кто-то по поводу работы.
—Да, — отвечаю я, даже не смотря на дисплей.
—Caro, как ты? — приятный шепот раздается по ту сторону, и в груди резко щемит.
Я сглатываю, а затем оторвав телефон от уха, смотрю на экран. Сицилия. На секунду, мне кажется, что это сон, потому что я не разговаривал с сестрой уже целую вечность. Невио был жестоким ублюдком, который не только не терпел меня и почти всю нашу семью, но и очень сильно оберегал Сицилию, поэтому наше с ней общение казалось чем-то редким и волшебным. Тиара боялся, что я могу причинить его жене вред.
—Я... я в порядке, — неуверенно отвечаю я, воспроизводя в голове образ своей невероятно красивой сестры. —Как ты, pione?
Я даже приподнимаюсь, будто с ней говорить лёжа не положено.
—Я хорошо, волнуюсь за тебя, — она все ещё говорит шепотом.
—Почему ты шепчешься? — спрашиваю я взволнованно. —Ты точно в порядке?
—Эй, не нервничай, просто Энзо спит рядом, — я будто бы слышу, как она улыбается.
Энзо. Мой племянник, которого я ещё ни разу не видел. Никто из Романо, кроме моей матери не видел его. Из-за войны Ндрангеты с Пятью Семьями, Тиара не доверяют никому, кроме самих себя, тем самым заставляя Сицилию отдаляться от ее настоящей семьи.
—Как он? Как Рози? — интересуюсь я, вспоминая маленькую девочку, которую я держал в руках лишь раз, два года назад, когда она была малышкой.
Ей передались наши гены, каштановые волосы, как у Сици, и бойкий характер, как у нас всех. Невио, конечно, уверен, что его принцесса похожа лишь на него, но мы все знаем, что кровь Романо сильнее.
—Все хорошо. Роза уже ходит в садик, а малыш Энзо иногда болтает на итальянском. Ты не представляешь, как сильно он похож характером на Андреа, — тихо смеётся Сици. —Розе повезло, она копия своего отца.
Я хмыкаю.
—Невио, наверное, чертовски рад, что выращивает свою копию.
—Она определенно папина дочь. Даже сейчас, пока я укладывала Лоренцо спать, она издевалась над педикюром Невио. Только тихо, никому не говори, что он позволяет дочери красить ему ногти.
Я заливаюсь смехом, чувствуя приятную радость в груди.
—Я скучаю по тебе, Сици, — признаюсь я, думая о том, как было весело в детстве, когда она была такой маленькой, постоянно желающей нашего с Андреа внимания.
Она так радовалась, когда я желал ей спокойной ночи и доброго утра, и всегда ждала меня, будто я был единственным, кто ей нужен.
—Я тоже, caro, — незамедлительно произносит Сицилия.
Повисает тишина, но она не вызывает дискомфорта. Я бы хотел снова оказаться в том времени, где Сицилия была Романо, где мы жили в особняке, и все было хорошо, не считая нашего отца.
—В новостях я узнала, что у тебя появилась женщина, — вдруг, говорит Сици, и сердце пропускает удар. —Я рада, что ты живёшь дальше.
Но я не жил. Андреа явно хочет скрыть все подробности от других кланов, и я не должен разглашаться, потому что Сицилия хоть и была нашей сестрой, сейчас ее приоритет — Ндрангета и Тиара. Даже она участвует в некоторых решениях Невио, и это ни для кого не секрет.
—Многое изменилось, — вру я, нервно сжимая одеяло рядом с собой. —Действительно, нужно жить дальше.
—Ты встретил хорошую девушку?
Я смотрю на Цербера, будто жду, когда он подскажет мне, что ответить. Выдыхаю.
—Да. Одна из сестер наших солдат. Младше меня, но... хорошая, правда.
Ложь так и льется из моего рта, сжимая сердце.
—Умница, — тон Сицилии смягчается до невозможного. — Вероятно, в следующем месяце я приеду к вам, чтобы повидаться с мамой, тогда ты и познакомишь меня со своей дамой, хорошо?
—Хорошо, — сцепив зубы, проговариваю я, а затем слышу детские крики на фоне.
—Я пойду, caro, мне нужно доделать некоторые документы, и помочь Невио заставить Розу лечь спать, — проговаривает сестра. —Я люблю тебя.
Я улыбаюсь.
—Я тоже люблю тебя, Сици.
Звонок обрывается. Они все любят меня... Все любят и ждут, когда же я стану нормальным. Может быть, стоит хотя бы попытаться сделать это?
***
Алекс говорит быстро, не отвлекаясь на дорогу. Я слушаю молча, почти не моргая. Он рассказывает, как двоих наших солдат приняли копы — как всегда, не вовремя и не к месту. Говорит, что смог их вытащить, но в следующий раз может быть сложнее. Мол, нам стоит получить хотя бы одно разрешение на оружие, чтобы он мог хоть как-то ссылаться на закон. Это смешно, но я не улыбаюсь. Киваю, признавая его правоту, но не давая лишних обещаний. Алекс не ждет, что я заговорю, и сам открывает дверь. Выходит, хлопнув ею, и растворяется в темноте.
Я трогаюсь с места, направляясь в любимое место. Город мерцает огнями, но мне плевать. Два месяца без алкоголя. Два месяца, как я держу себя в руках. Два месяца, как я перестал быть шутником, жалким пьющим ублюдком, с которым можно было либо смеяться, либо сочувствовать, либо осуждать. Теперь я — холодная глыба, и все это заметили. Люди смотрят иначе: с опаской, с непониманием, некоторые — с неподдельным страхом. Особенно Нереза.
Она уже не дрожит при виде меня, не пытается давить на мое чувство вины, будто смирилась со своей участью — беременной жены консильери, которого больше никто не узнает. И в этом смирении есть что-то пугающее. Я стискиваю зубы и сильнее сжимаю руль. Боль и страх давно под замком, глубоко внутри. И если когда-нибудь этот замок сломается — лучше бы мне этого не дожить.
Я не перестал думать об Инессе. Не перестал ее любить. Не перестал почитать ее память. Прошло уже столько времени, а я все так же оказываюсь на кладбище, стою перед статуей, которую возвел для нее. Она смотрит на меня каменными глазами, не обвиняя, не прощая, просто есть — вечное напоминание о том, кого я потерял.
Я давно перестал быть мудаком в глазах Андреа и остальных. Им кажется, что я исцелился, что стал лучше, что смог оставить прошлое позади. Они не понимают, что я просто перестал делать так, чтобы они страдали от моих поступков. Они видят лед, спокойствие, собранность — и ошибаются, принимая это за исцеление.
Но помимо кошки, в моем разуме есть и другая женщина. Нереза. Я замечаю, как она с каждым днем смотрит на меня иначе. С интересом, с каким-то молчаливым изучением, словно пытается понять, что же на самом деле происходит в моей голове. Я приношу ей сладости или то, о чем она просит, будучи беременной. Порой это абсурдные вещи, порой простые, но я никогда не отказываю. Это стало ритуалом. Я захожу, ставлю перед ней коробку или пакет, киваю и ухожу, оставляя за собой тишину. Она не благодарит, но всегда смотрит мне в спину, будто хочет что-то сказать.
Я смотрю на ее живот, который растет слишком быстро, слишком заметно. Там трое. Целых трое детей. Это пугает и... Что-то еще. Что-то, чего я никогда раньше не ощущал. Будто бы я обязан защищать ее. Защищать их. Будто бы они — часть меня, и я не имею права допустить, чтобы с ними что-то случилось. Это новое, чуждое чувство, но оно сидит глубоко внутри, наравне с болью и страхами, которые я давно запер. И оно становится сильнее с каждым днем.
Я возвращаюсь с кладбища, двигаясь на автомате. Машина идет ровно, мотор урчит глухо, но я едва его слышу. В голове все еще отголоски мыслей об Инессе, о ее каменном взгляде, о пустоте, которая не исчезает, сколько бы времени ни прошло.
Когда вхожу в дом, вижу силуэт у порога. Цербер. Он раскинулся прямо передо мной, лениво разметав лапы, как будто считает себя полноправным хозяином этого места. Лишь поднимает на меня тяжелый взгляд, но даже не двигается, когда я прохожу мимо.
Пройдя дальше, чувствую странный запах. Резкий, химозный, он врезается в нос, вызывая легкое недоумение. Что-то знакомое, но не сразу понятно что. Я нахмуриваюсь, стараясь уловить, откуда он идет. Вроде не кухня, не гостиная. Двигаюсь дальше, ориентируясь на запах, пока не оказываюсь у гостевой ванной. Дверь приоткрыта. Я толкаю ее шире и замираю, наблюдая картину, которая не укладывается в голове.
Нереза стоит, окруженная кучей гелиевых ручек. Кучей — это еще мягко сказано. Пластиковые тюбики валяются повсюду, некоторые разломаны пополам, с других сняты стержни. В раковину вылито содержимое — густая, липкая масса разных цветов, растекшаяся по керамике. А она просто сидит и нюхает ее, глаза прикрыты, выражение лица задумчивое, почти блаженное. Это выглядит... странно.
Я смотрю на нее, потом на пасту, потом опять на нее. Нереза даже не замечает моего присутствия. Ее кудрявые волосы склонились так низко, что еще немного — и окажутся прямо в этой цветной липкой жиже. И почему-то это меня развлекает. Я усмехаюсь, коротко, негромко, но в тишине это звучит достаточно отчетливо.
Нереза вздрагивает, словно ее окатили ледяной водой, и резко поднимает голову. Глаза широко распахнуты, дыхание сбито. Она явно не ожидала меня здесь увидеть.
—Ты... в норме? — спрашиваю я, уперевшись плечом в косяк.
Она кивает.
—Мне захотелось их понюхать, — пожимает плечами Нереза, а затем оглядывается. —Кажется, уже не хочется.
Она переступает через ручки, затем останавливается неподалеку от меня, поглаживая свой живот. Нереза делает это постоянно, и я замечаю, как с каждым днём ей становится все тяжелее ходить.
—У тебя колени в земле, — хрипло проговаривает она, и проходит мимо, покидая ванную.
Пара фраз — это все, что мы можем себе позволить в диалоге. Я не осуждаю ее, потому что понимаю, что она не может простить мне того, что произошло. Последствия чего она вынашивает уже пятый месяц.
—Завтра нужно посетить врача, — выкрикиваю я ей вслед, и понимаю, что нужно вызвать клининг после того, что она устроила с ручками.
—Я знаю, — кричит она в ответ, а затем я слышу, как раздается хлопок двери.
Диалоги на сегодня окончены. И если бояться она меня перестала, то считать меня человеком явно не начала.
Утро начинается рано. Я веду машину к больнице, а Нереза сидит рядом, тихая, спокойная.
В холле больницы пахнет антисептиками, чистотой и чем-то стерильным, неприятным. Мы уже привыкли к этому месту. Очередные анализы, очередные осмотры. Нереза привычно закатывает рукав, позволяя медсестре взять кровь. Она даже не морщится, просто смотрит в сторону, пока тонкая игла прокалывает кожу. Потом кабинет доктора.
Миссис Сандерсон, пролистывает ее карту, задает пару вопросов, сверяется с показателями и, наконец, отрывает взгляд от бумаги.
— Хотите узнать пол? — предлагает она, спокойно, почти небрежно, словно не говорит о чем-то важном.
Я перевожу взгляд на Нерезу. Ее глаза загораются мгновенно.
— Да, — отвечает она, не раздумывая.
Доктор кивает и жестом приглашает нас пройти в кабинет для УЗИ. Кабинет темноватый, свет приглушен, на стенах какие-то диаграммы, которые мне неинтересны. Нереза ложится на кушетку, задирает кофту, обнажая округлый живот. Я сажусь рядом, чуть ближе, чем обычно. Сандерсон наносит холодный гель, и Нереза дергается, морщится, но ничего не говорит. Он берет ультразвуковой датчик и начинает водить им по коже, вглядываясь в монитор.
Я тоже уставляюсь в экран. Черно-белое изображение, размытые контуры, но доктор точно знает, на что смотрит.
— Вот они, — говорит он, чуть повернув монитор.
Я чувствую, как внутри поднимается странное чувство. Волнение.
Краем глаза замечаю, что и Нереза напряжена. Она сосредоточенно смотрит на изображение, её пальцы сжаты в кулак. Если раньше её пульс подскакивал от одного моего присутствия, то сейчас... Сейчас она спокойна. Мы оба смотрим в экран, затаив дыхание.
Никогда ещё осознание того, что у меня будет трое детей сразу, не окутывало меня так сильно, как сейчас.
—Так, — проговаривает миссис Сандерсон. —Мальчика вижу...
У меня перехватывает дыхание, я воодушевленно смотрю на Нерезу, чьи волосы спутались на ее лбу. Рефлекторно смахиваю их, тем самым вызывая у нее удивление, смешанное с тревогой. Она сначала смотрит на меня искоса, будто я сделал что-то неправильное, а затем возвращает взгляд к монитору.
—Еще один мальчик, — проговаривает доктор. — Видите?
Она указывает на экране в определенное место, и улыбка выступает на моих губах. Сыновья, черт возьми.
—А вот это у нас лапочка дочка, — с улыбкой, проговаривает доктор, — малышка.
Я вздрагиваю, не веря качая головой. Дочь. У меня будет дочь, как у Андреа, у Сицилии, и у Кассио.
—Сын, выдыхаю я, смотря на монитор. — Два сына.
—И дочь, — Нереза смотрит на меня через живот.
Я даже знаю, что сейчас вертится у нее в голове. Знаю, что хочет сказать. Хочет снова напомнить мне, что я сделал с ней, и что тоже самое может случиться с нашей дочерью, которую я буду защищать ценой своей жизни.
—Дочь, Теодоро. Девушка, которая...
Я хватаю ее за руку, сплетая наши пальцы, от чего она вздрагивает, но не отстраняется.
—Я знаю, — уверенно говорю я, смотря в ее карие глаза. —Знаю, Нереза.
Она сглатывает, метнувшись взглядом к монитору.
—Я буду защищать ее, — с особой интонацией проговаривает Нереза. —Ото всех, если понадобится.
И я понимал, о чем она говорит. Она будет защищать ее даже от меня...
Я отстраняюсь, и встаю с места. Обида зарождается в груди, но я сохраняю холодное выражение лица, а затем покидаю кабинет.
Я стою в коридоре, прислонившись плечом к стене, и наблюдаю за тем, как врачи и медсестры мелькают туда-сюда. Где-то дальше, за дверью кабинета, Нереза все ещё делает УЗИ.
Я знаю, что в глубине души она все еще ненавидит меня, и я не виню её за это. Она будет пытаться защитить нашу дочь от меня. Глупо.
Потому что я знаю — никогда не причиню ей боль. Ни сейчас, когда она еще не родилась, ни позже, когда появится на свет. Я знаю это так же твердо, как свое имя, как вес оружия в руках. Дверь открывается, и Нереза выходит. В руках у нее снимок, который она прижимает к груди, будто он самое ценное, что у неё есть. Я молча киваю ей, и мы вместе идем к машине. Мы садимся. В салоне тишина.
— Тебя обидели мои слова? — вдруг спрашивает она, не глядя на меня.
Я не сразу отвечаю.
— Ты думал, что я позволю тебе обидеть детей, которых я вынашиваю?
Злость разрастается внутри, тяжелая, густая. Я стискиваю зубы, но не даю ей прорваться наружу.
— Я не собираюсь обижать наших детей, — произношу я ровно, но голос звучит жестче, чем хотелось бы.
Нереза поворачивает голову, смотрит прямо мне в глаза, и в её взгляде — холод.
— То, что ты их зачал, не делает тебя их отцом, — говорит она тихо, но отчётливо.
Я чувствую, как что-то внутри сжимается.
— Знай, что если после их рождения хоть один твой поступок будет противоречивым, — продолжает она, — я заберу детей и уеду. И даже ты, со своей властью и силой, не сможешь остановить меня.
Тишина накрывает нас, давит, впечатывает в сиденья. Я смотрю прямо перед собой, руки крепко сжаты на руле. И понимаю, что она говорит правду.
—Кто сказал, что я или Андреа позволим тебе это сделать? — ядовито выпаливаю я, чувствуя обиду в груди.
—А кто сказал, что я буду спрашивать? Эти два месяца ты был адекватным, но это не сделало тебя лучше в моих глазах, Теодоро. Ты все ещё на...
Я не даю ей закончить.
—Я не хотел этого, повторяю в тысячный раз, — шиплю сквозь зубы. —Это неосознанный поступок, он не снимает ответственности, но не делает меня насильником, черт возьми! Нереза, я не могу слышать это от тебя.
—То есть я могла слышать то, что я выхожу замуж за того, кто воспользовался мной, могла слышать то, что я должна жить с тобой, могла помогать тебе тогда, когда совершенно не хотела этого делать, а ты не можешь слышать правду? — ее голос становится все громче, а дыхание прерывестее. — Если бы не беременность Ренаты, и моя любовь к Оттавио, я бы давно уже избавилась от детей, понятно? Я бы убила их.
Агрессия становится невыносимой. Два месяца. Два месяца я гасил в себе все чувства, запирал их глубже, укрощал их, как дикого зверя в клетке. Я держался, учился контролировать себя.
Но сейчас это рвется наружу. Я с силой бью по рулю. Глухой удар разрывает тишину салона. Машина вздрагивает, и вместе с ней вздрагивает Нереза.
— Это наши общие дети! — выкрикиваю я, почти срываясь. — И ты не имела права даже думать о том, чтобы избавиться от них!
Голова шумит, дыхание сбивается.
Нереза широко распахивает глаза. На секунду она просто смотрит на меня, затем уголки ее губ дрогнут, и она криво улыбается. Это не радость, это усталость, это горечь, это то, что за эти месяцы въелось в нее так же глубоко, как во мне — злость.
Слезы выступают в ее карих глазах, но она не моргает, не смахивает их. Просто смотрит прямо мне в лицо.
— "Общие дети" — это когда люди мечтают об этом, когда думают о том, чтобы завести их, когда хотят их, — говорит она, голос дрожит, но не от страха. — Наверняка, ты думал об этом, когда был женат на Инессе, да?
Я стискиваю зубы, но ничего не говорю. Это было гребаной мечтой для нее после того, как она потеряла нашего малыша.
— Но я не Инесса, — продолжает она, — и у нас нет сладкой истории любви, после которой ты пребывал в депрессии несколько лет, верно?
Её голос не звучит обвиняюще. Это просто констатация факта.
— У нас нет ничего, Теодоро. Ничего, кроме взаимной ненависти и непринятия друг друга.
Слезы уже текут по её щекам, но она даже не пытается их стереть.
— У нас нет ничего, кроме троих детей, — произносит она медленно, пристально глядя на меня. — Троих детей, которых мы будем растить, ненавидя друг друга.
Тишина в машине снова становится плотной, давящей. Я смотрю на неё, она смотрит на меня. И впервые за долгое время я не знаю, что сказать.
—Я не ненавижу тебя, Нереза, просто...
Она перебивает меня резким голосом, полным глухого отчаяния:
— Просто тебе нужны дети, и ничего более, потому что ты любишь свою покойную жену и никого более.
Я закрываю глаза. Её слова, словно ножи, входят в грудь, но я не могу отрицать, что в них есть правда. Как я могу возразить, если даже себе боюсь признаться в этом?
— Это нормально, — продолжает она, и в её голосе уже нет ни злости, ни слёз, только усталость. — Но ты не думаешь о том, что если ты можешь спрятаться в воспоминаниях о любимой женщине, я не могу спрятаться от тебя нигде, кроме мыслей о том, что дети — последствие твоего непростительного поступка.
Я открываю глаза, чтобы встретиться с её взглядом, но она не смотрит на меня. Говорит, как будто с самой собой.
— Я буду винить тебя всегда, даже когда перестану вспоминать о том дне, когда ты схватил меня, а потом...
Она замолкает, но я уже знаю, что она хотела сказать. Этот день — он в ней, как пепел от пожара, который уже не горит, но всё ещё покрывает землю чёрной пеленой. Я не выдерживаю. Слова рвутся из меня, я сам не знаю, зачем, ведь что могут изменить слова?
— Я не хотел, Нереза, — голос дрожит, я хватаю её за руки, но она не отвечает мне ни движением, ни взглядом. — Прости, умоляю...
Она молчит. Только губы её сжимаются крепче, и тишина между нами становится тяжелее самого страшного крика.