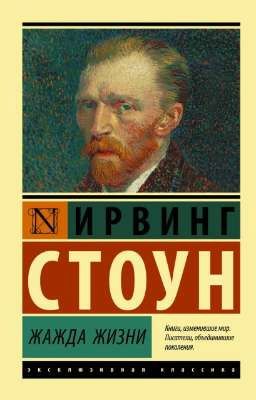8-14.
8
Операция прошла благополучно, но за лечение надо было платить. Винсент отослал двенадцать акварелей дяде Кору и ждал тридцать франков. Ждать пришлось долго: дядя Кор имел обыкновение высылать деньги когда ему вздумается. Поскольку доктор из лейденской больницы, делавший операцию, должен был принимать у Христины ребенка, нужно было сохранить с ним добрые отношения. Винсент послал ему свои последние двенадцать франков задолго до первого числа. Старая история началась сызнова. Сперва кофе и черный хлеб, потом только черный хлеб, потом одна вода, а за ней истощение, лихорадка, и жар, и бред. Христину кормили дома, но принести Винсенту она ничего не могла: не оставалось ни крошки. Наконец Винсент, собрав последние силы, с трудом слез с кровати и в каком—то кровавом тумане, застилавшем ему глаза, поплелся в мастерскую Вейсенбруха.
У Вейсенбруха была уйма денег, но он считал, что жить надо по– спартански строго. Мастерская у него была на четвертом этаже, с верхним светом на север. Здесь не было ничего лишнего, что мешало бы работать: ни книг, ни журналов, ни диванов, ни мягких кресел, ни этюдов на стенах, ни окон с видом на улицу – одни только орудия художнического ремесла. Не было даже свободного стула, чтобы усадить гостя; поневоле люди здесь не задерживались.
– А, это вы? – проворчал Вейсенбрух, не выпуская из рук кисти. Он не стеснялся мешать другим художникам, но бывал не более гостеприимен, чем лев, попавший в капкан, когда кто—нибудь мешал ему.
Винсент изложил свою просьбу.
– Ох, нет, мой мальчик, нет! – воскликнул Вейсенбрух. – Вы обратились не по адресу, совсем не по адресу! Я не дам вам и десяти сантимов.
– У вас нет свободных денег?
– Разумеется, есть! Уж не думаете ли вы, что я такой же проклятый богом дилетант, как вы, и не могу ничего продать? Да у меня в банке денег больше, чем я могу потратить за три жизни.
– Тогда почему же вы не хотите одолжить мне двадцать пять франков? Я в ужасном положении! У меня не осталось ни крошки хлеба.
Вейсенбрух с торжеством потер руки.
– Чудесно! Чудесно! Это именно то, что вам надо! Вам это очень полезно. Из вас еще может выйти художник.
Винсент прислонился к стене, он уже не в силах был стоять без опоры.
– Что же тут чудесного, если человек голодает?
– Это для вас самое лучшее, что только может быть, Ван Гог. Это заставит вас страдать.
– Почему вы так хотите, чтобы я страдал?
Вейсенбрух уселся на единственный стул, скрестил ноги и кистью, на которой была красная краска, ткнул чуть ли не в лицо Винсента.
– Потому что это сделает из вас истинного художника. Чем больше вы страдаете, тем больше вам надо благодарить судьбу. Только в горниле страданий и рождаются подливные живописцы. Запомните, Ван Гог, пустой желудок лучше полного, а страдающая душа лучше счастливой!
– Вы несете вздор, Вейсенбрух, и сами это знаете.
Вейсенбрух тыкал кистью в сторону Винсента.
– Тому, кто не был несчастным, не о чем писать, Ван Гог. Счастье – это удел коров и коммерсантов. Художник рождается в муках: если ты голоден, унижен, несчастен – благодари бога! Значит, он тебя не оставил!
– Нищета губит человека.
– Да, она губит слабых. А сильных – никогда! Если вас погубит бедность, значит, вы слабый человек, туда вам и дорога.
– И вы пальцем не шевельнете, чтобы помочь мне?
– Нет, даже если я буду убежден, что вы величайший живописец в мире. Если человека могут убить голод и страдания, значит, он не заслуживает спасения. Только тем художникам место на земле, которых не может погубить ни бог, ни дьявол, пока они не сделали всего того, что должны сделать.
– Но я голодаю уже много лет, Вейсенбрух. Я жил без крова над головой, бродил под дождем и снегом почти голый, валялся в лихорадке, одинокий, покинутый. Все это я уже испытал, мне нечему тут учиться.
– Вы едва коснулись страдания, Винсент. Это еще только начало. Говорю вам, боль – единственное в мире, что не имеет конца. А теперь идите домой и беритесь за карандаш. Чем сильнее вы страдаете от голода и лишений, тем лучше вы будете работать.
– И тем скорее публика отвергнет мои рисунки!
Вейсенбрух весело рассмеялся.
– Ну конечно, отвергнет! Иначе и быть не может. И это тоже хорошо для вас. Это сделает вас еще несчастнее. А ваше очередное полотно окажется еще прекрасней, чем предыдущее. Если вы будете терпеть голод и лишения, а вашу работу станут поносить и презирать много лет, то в конце концов вы можете создать – заметьте, я говорю: можете создать, а не создадите – такое произведение, что его не стыдно будет повесить рядом с полотнами Яна Стена или...
– Или Вейсенбруха!
– Вот, вот. Или Вейсенбруха. Если же теперь я ссужу вам денег, я ограблю вас, лишу вас шансов на бессмертие.
– Провались оно к дьяволу, это бессмертие! Я хочу рисовать сейчас, здесь. И я не могу работать с пустим желудком.
– Чепуха, мой мальчик. Все стоящее было написано на голодный желудок. Когда ваше брюхо набито, вы работаете как бы на холостом ходу.
– Что—то не похоже, чтобы вы так уж много страдали.
– У меня богатое творческое воображение. Я могу достичь страдание, даже не испытав его.
– Вы просто старый лгун!
– Ничего подобного. Если бы я убедился, что пишу так же пресно и вяло, как Де Бок, я плюнул бы на свои деньги и жил бы как последний бродяга. Но факт остается фактом: я могу создать совершенную иллюзию страдания, но пройдя через него. Вот почему я великий художник.
– Вот почему вы великий хвастун! Слушайте, Вейсенбрух, будьте человеком и дайте мне двадцать пять франков.
– И двадцати пяти сантимов не дам! Вы что думаете, я шучу? Я о вас слишком высокого мнения, чтобы портить вас, одалживая вам деньги. Придет день, и вы напишете что—нибудь блестящее, если не спасуете перед судьбой; гипсовая нога в ведре у Мауве убедила меня в этом. Ну, а теперь ступайте да съешьте по дороге миску бесплатного супа в столовой для бедных.
Винсент молча посмотрел на Вейсенбруха, повернулся и пошел к двери.
– Постойте—ка! – окликнул его Вейсенбрух.
– Уж не хотите ли вы сказать, что сдаетесь и переменили решение? – насмешливо осведомился Винсент.
– Слушайте, Ван Гог, я не скряга, я поступил так из принципа. Если бы я считал вас дураком, я дал бы вам двадцать пять франков, чтобы отвязаться от вас. Но я уважаю вас, уважаю как собрата—художника. Я дам вам нечто такое, чего не купишь ни за какие деньги. И я не показал бы этого никому во всей Гааге, разве только Мауве. Подойдите—ка сюда. Сдвиньте эту штору, откройте верхний свет. Вот так. Теперь взгляните на этот этюд. Вот как я намерен его разработать и разместить все на полотне. Господи боже, да что вы можете увидеть, если заслоняете окно?
Винсент вышел от Вейсенбруха через час, радостный и окрыленный. Он узнал за короткое время гораздо больше чем мог бы усвоить за целый год учебы в художественной школе. Он шел довольно долго, прежде чем вспомнил, что он голоден, болен, измучен, что у него пусто в кармане.
9
Через несколько дней, бродя по дюнам, Винсент внезапно наткнулся на Мауве. Если он еще надеялся помириться со своим учителем, то его ждало разочарование.
– Кузен Мауве, я хочу попросить прощения за то, что произошло в мастерской. Я поступил как глупец. Можете ли вы простить меня? Не зайдете ли как—нибудь ко мне посмотреть мои работы и поговорить?
Мауве отказался наотрез.
– Я к тебе больше никогда не приду.
– Неужели вы потеряли всякую веру в меня?
– Да, потерял. У тебя порочная натура.
– Если бы вы сказали мне, что я сделал порочного, я постарался бы исправиться.
– Мне теперь все равно, что ты делаешь.
– Я только ел, спал и работал, как всякий художник. Что же тут порочного?
– Ты называешь себя художником?
– Да.
– Какая чушь. Ты не продал ни одной картины за всю жизнь.
– Разве быть художником значит продавать картины? Я думал, что художник – это человек, который всегда ищет и никогда не находит. Для него не существует слов: «я знаю, я нашел». Когда я говорю, что я художник, это значит лишь: «я ищу, я стремлюсь, я отдаюсь этому всем сердцем».
– И все же у тебя порочная натура.
– Вы в чем—то подозреваете меня, это сразу видно, вам кажется, я что– то скрываю: «У Винсента какая—то тайна, которой он стыдится». В чем дело, Мауве? Скажите откровенно.
Мауве отвернулся к своему мольберту и стал водить кистью по полотну. Винсент медленно поплелся прочь.
Да, он не ошибся. Над его головой действительно собирались тучи. В Гааге узнали о его связи с Христиной. Первым принес эту новость Де Бок. Он пришел в мастерскую с гаденькой улыбкой на своих сложенных бутоном губах. Христина позировала Винсенту, и он заговорил по—английски.
– Ну, ну, Ван Гог, – сказал он, сбрасывая свое тяжелое черное пальто и закуривая длинную папиросу. – Весь город говорит, что вы завели любовницу. Я слышал это от Вейсенбруха, Мауве и Терстеха. Вся Гаага ополчилась против вас.
– А, так вот оно что, – отозвался Винсент.
– Надо быть осторожнее, старина. А это кто, натурщица? Мне казалось, я знаю их всех.
Винсент взглянул на Христину, сидевшую у печки со своим рукоделием. На коленях у нее лежала шерсть, глаза были устремлены на какой—то узор, который она вышивала, во всей ее фигуре было что—то необычайно уютное и милое. Вдруг Де Бок бросил папиросу на пол и вскочил с места.
– Бог мой, – воскликнул он, – неужели это и есть ваша любовница?
– У меня нет любовницы, Де Бок. Но я полагаю, что речь идет именно об этой женщине.
Де Бок сделал вид, будто вытирает пот со лба, и пристально взглянул на Христину.
– Не понимаю, как вы можете спать с ней?
– Почему это вас интересует?
– Мой дорогой, но ведь это какая—то старая ведьма! Настоящая ведьма! О чем вы только думаете? Не мудрено, что Терстех так шокирован. Если вам нужно завести любовницу, почему вы не взяли какую—нибудь миленькую натурщицу? Их так много в Гааге.
– Я уже сказал вам, Де Бок, что эта женщина мне не любовница.
– Так кто же она?
– Она моя жена!
Де Бок сложил свои губы так, что рот его стал похож на бутоньерку.
– Ваша жена!
– Да. Я на ней женюсь.
– Боже мой!
Де Бок еще раз с ужасом и отвращением взглянул на Христину и выбежал из мастерской, даже не надев как следует пальто.
– Что вы говорили там обо мне? – спросила Христина.
Скрестив руки на груди, Винсент секунду смотрел на нее.
– Я сказал Де Боку, что ты будешь моей женой.
Христина долго молчала, пальцы ее были заняты работой. Рот у все был приоткрыт, и в нем быстро—быстро, как у змеи, шевелился язык, облизывая пересохшие губы.
– Ты и вправду женишься на мне, Винсент? Зачем?
– Если я не женюсь на тебе, то честнее сразу же бросить тебя навсегда. Я хочу пройти через все радости и печали семейной жизни, чтобы изображать их по собственному опыту. Когда—то я любил одну женщину, Христина. Когда я пришел к ней, мне сказали, что я ей ненавистен. Моя любовь была настоящей, честной и глубокой любовью, Христина, и, покинув ее дом, я знал, что моя любовь убита. Но после смерти наступает воскресение; мое воскресение – это ты.
– Ты не можешь жениться на мне! У меня же дети! Твой брат перестанет посылать тебе деньги.
– Я уважаю в тебе женщину и мать, Христина. Твой будущий ребенок и Герман будут жить с нами, а остальные могут остаться у матери. А Тео... да. .. он может прямо—таки снять с меня голову. Но я напишу ему всю правду, и, надеюсь, он не оставит меня.
Он сел на пол у ее ног. Теперь она выглядела куда лучше, чем в то время, когда он встретил ее впервые. В ее печальных карих глазах появился едва приметный счастливый блеск. Все ее существо словно бы ожило. Позирование давалось ей нелегко, но она была прилежна и терпелива. Когда он в первый раз увидел ее, она была грубой, больной, несчастной женщиной; теперь она стала гораздо бодрее и спокойнее. Она вновь обрела здоровье и вкус к жизни. Глядя на ее некрасивое, тронутое оспой лицо, в котором теперь появился слабый проблеск нежности, он опять вспомнил слова Мишле: « Comment se fait—il qu'il y ait sur la terre une femme seule desesperee?»
– Син, мы будем беречь каждый сантим, не правда ли? Боюсь, что наступит время, когда я окажусь совсем без средств. Я буду помогать тебе, пока ты снова не ляжешь в больницу, но когда ты вернешься, не знаю, будет у меня хлеб или нет. Но все, до последней корки, я разделю с тобой и ребенком.
Христина соскользнула на пол, села рядом с Винсентом, обняла его за шею и положила голову ему на плечо.
– Позволь только остаться с тобой, Винсент. Больше я ничего не прошу. Если у нас будет хотя бы хлеб и кофе, этого довольно. Я люблю тебя, Винсент. Ты первый мужчина, который был добр ко мне. Можешь не жениться на мае, если не хочешь. Я буду позировать, работать, буду делать все, что ты скажешь. Только бы быть вместе в тобой! В первый раз в жизни я счастлива, Винсент. Мне ничего не нужно. Я разделю с тобой все и буду счастлива.
Винсент чувствовал, как шевелится в ее животе ребенок, теплый, живой. Он нежно провел пальцами по ее некрасивому лицу, целуя каждую морщинку, каждую оспину. Он распустил у нее на спине волосы, ласково поглаживая их жидкие пряди. Она прижала раскрасневшуюся от счастья щеку к его бороде и тихонько терлась о жесткую щетину.
– Ты меня любишь, Христина?
– Да, Винсент.
– Как хорошо, когда тебя любят. Пусть люди называют это порочным, если хотят.
– Плевать на людей, – сказала Христина просто.
– Я буду жить как мастеровой, это мне по душе. Мы с тобой понимаем друг друга, и нам все равно, что о нас скажут. Нам незачем притворяться, беречь свое положение в обществе. Люди моего круга давным—давно изгнали меня. Лучше довольствоваться коркой сухого хлеба в бедной лачуге, чем жить без тебя.
Они сидели на полу, греясь у раскаленной печки, крепко обняв друг друга. Идиллию нарушил почтальон. Он вручил Винсенту письмо из Амстердама. В письме было сказано:
"Винсент!
Я только что узнал о твоем постыдном поведении. Будь любезен, забудь о моем заказе на шесть рисунков. Твоя работа меня более нисколько не интересует.
К.—М. Ван Гог".
Теперь судьба Винсента была целиком в руках Тео. Если он не сумеет объяснить брату истинный характер своих отношений с Христиной, Тео тоже будет вправе отказать ему в ста франках. Винсент может обойтись без своего учителя Мауве, может обойтись без торгаша Терстеха, он может обойтись без родных, друзей и коллег – пока у него есть работа и Христина. Но ему никак не обойтись без этих ста франков в месяц!
Винсент писал длинные, страстные письма брату, старался все ему объяснить, просил Тео войти в положение и не оставлять его. День проходил за днем. Винсента терзало предчувствие беды. Он уже не осмеливался взять в магазине рисовальных принадлежностей больше, чем мог оплатить, боялся начать новую работу акварелью и продолжать начатую.
Тео выдвинул свои возражения, их было немало, но он не осудил Винсента бесповоротно. Он дал ему совет, но в его письме не было и намека, что если Винсент не согласится, то не получит больше денег. В заключение Тео, хоть и выражал недовольство поступком Винсента, заверял его, что будет помогать ему, как прежде.
Наступил май. Доктор сказал Христине, что возьмет ее в больницу в июне. Винсент решил, что будет лучше, если она переедет к нему после родов: он рассчитывал за это время снять свободный домик на Схенквег рядом с мастерской. Христина целые дни проводила у него, но вещи ее оставались у матери. Было решено, что они официально поженятся после того, как она окончательно оправится.
Винсент отвез Христину в больницу. Схватки начались в девять вечера, но ребенок родился лишь в половине второго ночи. Его тянули щипцами, но он остался невредим. Христина сильно страдала, но, увидев Винсента, забыла о боли.
– Скоро мы опять начнем рисовать, – сказала она.
Винсент смотрел на нее со слезами на глазах. Он и не думал о том, что этот ребенок не его, а другого мужчины. Нет, это его жена, его ребенок, – от счастья у него перехватывало дыхание.
Вернувшись на Схенквег, Винсент застал у себя владельца соседнего дома и примыкавшего к нему дровяного склада.
– Ну, как насчет того, чтобы снять дом, минхер Ван Гог? Он будет вам стоить всего—навсего восемь франков в неделю. Я велю все там заново выкрасить и оштукатурить. Если вы подберете обои, какие вам нравятся, я оклею ими комнаты.
– Дайте срок, – отвечал Винсент. – Мне нужен будет новый дом, когда приедет из больницы жена, но сначала я должен написать об этом брату.
– Ну что ж. А оклеивать комнаты все равно надо, так что выбирайте обои, какие вам по вкусу. Даже если вы не сможете снять дом, обои все равно пригодятся.
Тео знал об этом свободном доме по соседству уже несколько месяцев. Это был просторный дом с мастерской, гостиной, кухней и спальней в мансарде. Платить нужно было на четыре франка в неделю дороже, чем за старую мастерскую, но теперь, когда на Схенквег перебирались Христина, Герман и новорожденный, места требовалось гораздо больше. Тео написал, что ему повысили жалованье и Винсент может рассчитывать на сто пятьдесят франков в месяц. Винсент без промедления снял дом. Через неделю должна была вернуться Христина, и ему хотелось, чтобы она приехала уже в обжитое гнездо. Хозяин дал ему двух рабочих со склада, которые перетащили из прежней мастерской все вещи. Мать Христины навела в их новом жилище чистоту и порядок.
10
Новая мастерская стала теперь реальностью – гладкие светло– коричневые обои, чисто вымытые деревянные полы, этюды на стенах, в каждом углу мольберт, длинный сосновый стол для работы. Мать Христины повесила на окна белые муслиновые занавески. В мастерской была ниша, Винсент хранил там свои рисовальные доски, папки и гравюры; в углу было отведено особое место для бутылок, банок с красками и книг. В гостиной стоял стол, несколько простых стульев, керосиновая печурка, у окна – большое плетеное кресло для Христины. Рядом с креслом Винсент поставил железную кроватку с зеленым пологом, а над ней повесил на стене офорт Рембрандта: две женщины сидят у колыбели, одна из них при свете свечи читает Библию.
Он купил все необходимое для кухни, чтобы Христина; вернувшись из больницы, могла приготовить обед за несколько минут. На случай, если приедет в гости Тео, Винсент купил лишний ножик, вилку, ложку и тарелку. В мансарде он поставил большую кровать для себя и Христины, и здесь же – свою старую койку вместе с постельным бельем для Германа. Мать Христины помогла Винсенту раздобыть соломы, водорослей, тюфяки, и они вместе набили их здесь же, в мансарде.
Когда Христина выписывалась из больницы, проститься с ней пришли и доктор, и няня, и старшая сестра. Винсент еще острее почувствовал, что Христина, будь у нее иная судьба, заслуживала бы любви и уважения самых серьезных, умных людей. «Ведь она не видела в жизни ничего хорошего, – говорил он себе, – как же она может быть хорошей?»
Мать Христины и Герман встретили Христину в доме на Схенквег. Христина была приятно удивлена: Винсент ничего не говорил ей об их новом жилище. Она ходила по комнате и трогала все – детскую кроватку, плетеное кресло, горшок с цветами, который Винсент поставил на подоконник перед этим креслом. Она была радостно возбуждена.
– Этот профессор такой чудак! – громко рассказывала она. – Он мне говорит: «Скажи, ты любишь джин и пиво? А сигары ты куришь?» – «Да», – говорю. «Я это спрашиваю только так, – говорит он, – тебе бросать пить и курить не надо. Но ты, говорит, не употребляй ни уксуса, ни перца, ни горчицы. А мясо тебе, говорит, нужно есть по крайней мере раз в неделю».
Спальная сильно напоминала корабельный трюм – она была обшита досками. Железную кроватку младенца Винсенту приходилось каждый вечер переносить наверх, а каждое утро – вниз, в гостиную. Так как Христина была еще слаба, Винсент сам делал всю домашнюю работу, – он стелил постель, топил печку, носил дрова, подметал пол; у него было такое чувство, словно он живет с Христиной и ее детьми уже давным—давно, что это его родная семья. Христина еще не оправилась после операции, но чувствовала себя как бы обновленной и помолодевшей.
Винсент вернулся к своей работе, в душе у него снова наступил мир. Хорошо иметь свой очаг, видеть вокруг себя хлопотливое семейство. Жизнь с Христиной давала ему силы и решимость продолжать свой труд. Он не сомневался, что, если только Тео не оставит его, он непременно будет хорошим художником.
В Боринаже он был рабом бога; теперь у него появился новый, более реальный и осязаемый бог, новая религия, сущность которой можно было определить несколькими словами: фигура работника, борозды на вспаханном поле, кусок песчаного берега, моря и неба – это серьезнейшие темы, столь трудные и в то же время столь прекрасные, что стоит не задумываясь посвятить всю свою жизнь тому, чтобы выразить скрытую в них поэзию.
Однажды под вечер, возвращаясь после работы в дюнах, он увидел у своих дверей Терстеха.
– Рад тебя видеть, Винсент, – сказал Терстех. – Решил вот зайти к тебе, узнать, как идут дела.
Винсент ужаснулся: какая разразится буря, когда Терстех войдет в дом! Он постоял на улице, разговаривая с Терстехом, чтобы собраться с духом. Терстех был любезен и дружелюбен. Винсента била дрожь.
Когда они вошли в комнату, Христина, сидя в своем плетеном кресле, кормила ребенка. Герман играл у печки. Терстех долго с изумлением глядел на них. Потом он заговорил по—английски.
– Что это значит – эта женщина и ребенок?
– Христина – моя жена. А на руках у нее наш ребенок.
– Неужели ты женился на ней?
– Нет, официальной свадьбы еще не было, если вы об этом спрашиваете.
– Как же ты можешь жить с этой женщиной и ее детьми, когда она...
– Рано или поздно мужчины женятся, не правда ли?
– Но у тебя нет денег. Тебя содержит брат.
– Ничего подобного. Тео платит мне жалованье. Все, что я вишу, принадлежит ему. Когда—нибудь он вернет все свои деньги.
– Ты с ума сошел, Винсент! Только настоящий безумец может сказать такое!
– Человеческие поступки, минхер, имеют много общего с живописью. Стоит отступить на шаг, как меняется вся перспектива, так что впечатление зависит не только от объекта, но и от зрителя.
– Я напишу твоему отцу, Винсент. Он должен знать обо всем.
– А не будет ли это смешно, если они получат от вас возмущенное письмо и вслед за ним другое, от меня, с приглашением приехать за мой счет сюда в гости?
– Ты им хочешь написать сам?
– А вы как думали? Конечно! Но согласитесь, что сейчас для этого неподходящее время. Отец перебирается в новый приход в Нюэнене. Жена моя еще не понравилась, и всякое беспокойство или напряжение сил для нее равносильно убийству.
– В таком случае я, разумеется, не стану писать. Мой мальчик, ты безрассуден, как человек, который Готов сам себя утопить. Я хочу лишь спасти тебя от этого.
– Я не сомневаюсь в ваших добрых намерениях, минхер Терстех, и только поэтому стараюсь не сердиться на вас за ваши слова. Но весь этот разговор мне крайне неприятен.
Когда Терстех уходил, лицо у него было недоуменное и расстроенное. А вскоре Винсент получил от Вейсенбруха первый настоящий удар. Вейсенбрух заглянул мимоходом однажды вечером, чтобы удостовериться, жив ли еще Винсент.
– Добрый день, – сказал он. – Я вижу, вы сумели выкарабкаться и без моих двадцати пяти франков.
– Как будто.
– Теперь вы, наверное, рады, что я не потакал вам тогда?
– Помнится, во время нашей встречи у Мауве первое, что я сказал вам, было: «Катитесь к черту!» Так вот, теперь я повторяю это напутствие.
– Если вы будете продолжать в том же духе, из вас выйдет второй Вейсенбрух; у вас есть задатки настоящего человека. Почему вы не представите меня вашей хозяйке? Я не имею чести быть с ней знакомым.
– Издевайтесь надо мной сколько вам угодно, Вейсенбрух, но ее не трогайте.
Христина качала железную кроватку, завешенную зеленым пологом. Она чувствовала, что над нею смеются, и смотрела на Винсента со страдальческим выражением лица. Винсент подошел к ней и стал рядом с детской кроваткой, как бы защищая мать и ребенка. Вейсенбрух взглянул на них, потом на офорт Рембрандта, висевший над кроваткой.
– Ей—богу, прекрасный сюжет для картины! – воскликнул он. – Вот бы написать вас всех. Я назвал бы картину «Святое семейство»!
Винсент с проклятиями бросился на Вейсенбруха, но тот благополучно выскользнул за дверь. Винсент вернулся к Христине и ребенку. На стене, рядом с офортом Рембрандта, висело маленькое зеркальце. Винсент увидел в нем Христину, себя, ребенка и с ужасающей ясностью взглянул на все это глазами Вейсенбруха... Ублюдок, шлюха и добросердечный благодетель!
– Как он назвал нас? – спросила Христина.
– Святое семейство.
– А что это такое?
– Изображение девы Марии, Иисуса и Иосифа.
Из глаз ее покатились слезы, она уткнулась лицом в пеленки. Желая ее утешить, Винсент опустился на колени рядом с кроваткой. Через северное окно вползали сумерки, погружая комнату в спокойный полумрак. Винсент вновь взглянул на свою семью со стороны, словно издалека. Сейчас он смотрел на нее глазами своего сердца.
– Не плачь, Син, – сказал он. – Не плачь, дорогая. Подними голову и вытри слезы. Вейсенбрух был прав!
11
Винсент открыл для себя Схевенинген и начал писать маслом почти в одно и то же время. Схевенинген – маленькая рыбачья деревушка, приютившаяся в лощине между песчаными дюнами на берегу Северного моря. Близ деревни вереницей стояли на якоре одномачтовые рыбачьи барки с темными, потрепанными непогодой парусами. На корме у них были прилажены грубые, прочные рули, тут же лежали наготове сети, а на мачте развевались треугольные флажки, ржаво—красные и голубые. Были тут синие повозки с красными колесами, на которых перевозили рыбу с берега в деревню; жены рыбаков в белых клеенчатых чепцах, заколотых спереди двумя позолоченными булавками; семьи, толпами выходившие к морю встречать барки; курзал с разноцветными стягами – увеселительное заведение для иностранцев, которым нравилось чувствовать вкус моря на губах, но не хотелось задыхаться от соленого ветра.
Море у берега было седым от пены, потом постепенно становилось зеленым, потом тускло—синим; по сероватому небу плыли причудливые облака, лишь кое—где проглядывала голубизна, как бы напоминавшая рыбакам, что над Голландией еще светит солнце. В Схевенингене жил трудовой люд, крепкими узами связанный с этими берегами и морем.
Винсент написал немало акварельных этюдов на открытом воздухе и понял, что акварель хороша для передачи лишь беглого впечатления. У нее не было глубины, плотности, не было той фактуры, которая нужна была Винсенту. Он мечтал работать маслом, но боялся за него взяться, так как знал, что много художников загубили свой талант, начав работать маслом, прежде чем овладели рисунком. В это время в Гаагу приехал Тео.
Тео в свои двадцать шесть лет уже стал вполне солидным торговцем картинами. Он много ездил по делам своей фирмы и всюду был известен как один из самых способных молодых людей. Парижское отделение фирмы Гупиль перекупили Буссо и Валадон (в деловом мире эта фирма была известна под названием «Месье»), и, хотя они оставили Тео в прежней должности, торговля шла теперь далеко не так хорошо, как при Гупиле и дяде Винсенте. Новые владельцы старались продавать картины как можно дороже, независимо от их достоинств, и благоволили только к преуспевающим живописцам. Дядя Винсент, Терстех и Гупиль считали своим первым долгом находить и поддерживать новых, молодых художников; теперь же внимание оказывалось только признанным мастерам. Новое поколение живописцев – Мане, Моне, Писсарро, Сислей, Ренуар, Берта Морнзо, Сезанн, Дега, Гийомен и более молодые – Тулуз—Лотрек, Гоген, Съра и Синьяк – стремились сказать свежее слово, а не повторять Бугро и академиков, но никто не котел их слушать. Ни одно полотно, принадлежавшее кисти этих смельчаков, не было выставлено или продано фирмой «Месье». Тео питал глубокое отвращение к Бугро и академикам, все его симпатии были ни стороне молодых бунтарей. Не было дня, чтобы он не путался склонить своих хозяев выставить новую живопись и убедить публику покупать ее. «Месье» считали молодых безрассудными юнцами, которые совершенно не владеют техникой. Тео же видел в них будущих корифеев.
Когда братья встретились в мастерской, Христина была в спальне наверху. После первого обмена приветствиями Тео сказал:
– Я приехал сюда по делам, но должен тебе признаться, что моя главная цель – убедить тебя, чтобы ты не связывал свою судьбу с этой женщиной. Какова она собой?
– Помнишь нашу старую няню в Зюндерте, Леен Ферман?
– Помню.
– Син такого же типа. Она обыкновенная женщина из народа, но я нахожу в ней нечто возвышенное. Когда любишь ничем не замечательного, обыкновенного человека и он тоже любит тебя – это счастье, какой бы тяжкой ни была жизнь. Меня воскресило сознание, что я кому—то нужен. Я не искал этого чувства, оно само нашло меня. Син мирится с горестями и неудобствами жизни художника и позирует мне так охотно, что, живя с ней, я, пожалуй, стану лучшим художником, чем если бы я женился на Кэй.
Тео прошелся по мастерской и наконец сказал, не отрывая взгляда от одной из акварелей:
– Одного я не пойму, – как мог ты влюбиться в эту женщину после такой страстной любви к Кэй.
– Я не влюбился в нее, Тео, то есть влюбился далеко не сразу. Если Кэй отвергла меня, значит ли это, что все человеческие чувства во мне должны угаснуть? Вот ты приехал ко мне и видишь, что я не падаю духом, не тоскую, у меня новая мастерская, семья, свой дом; и мастерская моя не какая—то таинственная келья, нет, она открыта для жизни, в ней стоит колыбель и высокий детский стульчик, здесь нет затхлости, все живет, побуждает работать. Для меня ясно как день, что художник должен чувствовать то, что он пишет, что надо иметь семью, если хочешь глубоко показать семейную жизнь в своих произведениях.
– Ты знаешь, Винсент, я никогда не придавал значения классовым предрассудкам, но неужели ты считаешь разумным...
– Нет, – перебил его Винсент, – я не считаю, что унизил иди опозорил себя, если мое дело влечет меня в самую гущу народа, если я должен держаться ближе и земле, схватывать самую суть жизни и пробиваться вперед вопреки нужде и лишениям.
– С этим я не спорю. – Тео быстро подошел к брату и взглянул ему в лицо. – Но почему ты обязательно должен жениться?
– Потому что мы дали друг другу слово. Я не хочу, чтобы ты смотрел на нее как на мою любовницу или случайную женщину, перед которой у меня нет никаких обязательств. Мы обещали друг другу две вещи: во—первых, вступить в гражданский брак, как только это станет возможным, и, во—вторых, помогать друг другу, заботиться друг о друге, как муж и жена, делить все пополам.
– Но ты, конечно, подождешь немного, прежде чем вступить в гражданский брак?
– Подожду, если ты этого хочешь. Мы будем ждать до тех пор, пока я не начну зарабатывать полтораста франков, и твоя помощь станет не нужна. Обещаю тебе не жениться, пока не смогу жить на свои средства. Постепенно я буду зарабатывать, ты сможешь посылать мне все меньше, а потом я и совсем смогу обходиться без твоих денег. Тогда поговорим и о гражданском браке.
– Пожалуй, это будет самое разумное.
– Тео, вот она идет. Ради меня, постарайся смотреть на нее только как на жену и мать! Ведь так оно и есть на деле.
Христина спустилась по лестнице в мастерскую. На ней было аккуратное черное платье, волосы тщательно зачесаны назад, а слабый румянец, выступивший на щеках, делал оспины почти незаметными. Вся она была такая милая, уютная. Любовь Винсента придала ее облику уверенность, в ней теперь проглядывало невозмутимее удовлетворение. Она спокойно пожала руку Тео, предложила ему чашку чая и стала уговаривать его остаться ужинать. Потом она села в свое кресло и, покачивая детскую кроватку, взялась за шитье. Винсент в волнении бегал по мастерской и показывал рисунки углем, акварели, групповые этюды, словно отчеканенные плотничьим карандашом. Ему хотелось, чтобы Тео увидел, каких успехов он достиг.
Тео верил, что когда—нибудь Винсент станет великим живописцем, но все же до сих пор работы Винсента не очень ему нравились... по крайней мере пока. Тео был тонким знатоком искусства, он прошел хорошую школу, но свое отношение к работам Винсента он никак не мог определить. Ему казалось, что Винсент постоянно находится в процессе становления и никогда не создает ничего по—настоящему зрелого.
– Если ты чувствуешь потребность работать маслом, почему бы тебе не начать? – заметил он, после того как Винсент, показав ему все, что мог, признался в своем желании. – Чего ты ждешь?
– Жду, чтобы мой рисунок стал по—настоящему хорош. Мауве и Терстех говорят мне, что я не добился...
– А Вейсенбрух говорит, что ты добился... И судить об этом в конце концов должен только ты. Если ты чувствуешь, что должен выразить себя в более звучной цветовой гамме, значит, время настало. Действуй!
– Ах, Тео, а сколько надо денег! Эти тюбики продаются чуть ли не на вес золота.
– Приходи завтра в десять утра ко мне в гостиницу. Чем скорее ты начнешь присылать мне полотна, написанные маслом, тем скорее я выручу свои деньги.
За ужином Тео и Христина оживленно разговаривали. Когда Тео уходил, он обернулся на лестнице к Винсенту и сказал по—французски:
– Она милая, право же, милая. Я и не ожидал!
На следующее утро они шли рядом по Вагенстраат, такие не похожие друг на друга: младший брат был одет с иголочки, ботинки у него сверкали, рубашка была накрахмалена, галстук повязан безукоризненно, костюм отутюжен, черный котелок небрежно сдвинут набок, мягкая каштановая бородка аккуратно подстрижена, и шел он размеренным, ровным шагом; старший – в стоптанных башмаках, в залатанных брюках, по цвету совсем не подходивших к его узкому пальто, без галстука, на макушке – нелепая крестьянская шапка, борода завивается буйными рыжими кольцами, – шел сбивчивым шагом и без умолку говорил, размахивая руками.
Они и не подозревали, как странно они выглядели со стороны.
Тео привел Винсента в магазин Гупиля купить тюбики с красками, кисти и холст. Терстех очень уважал и любил Тео; он хотел бы полюбить и понять также и Винсента. Услышав, зачем они пришли, он, несмотря на их возражения, самолично подобрал все требуемое и разъяснил Винсенту достоинства различных красок.
Пройдя шесть километров вдоль дюн, Тео и Винсент добрались до Схевенингена. К берегу причаливал рыбачий баркас. У моря, близ каменного столба, стоял деревянный навес, под которым сидел дозорный. Завидев подходившее судно, дозорный махнул большим флагом. Вокруг дозорного толпились ребятишки. Через несколько минут после того, как он махнул флагом, к нему подъехал человек на старой кляче, чтобы подтянуть якорь к берегу. По песчаному склону из деревни встречать рыбаков бежали мужчины и женщины. Когда судно приблизилось, человек, сидевший на лошади, въехал в воду и подтащил к берегу якорь. Затем молодые парни в высоких резиновых сапогах стали переносить рыбаков на берег, и каждого из них толпа приветствовала веселыми криками. Когда все рыбаки очутились на суше и лошади вытащили баркас на берег, толпа, растянувшись, подобно каравану, над которым, словно призрак, маячил верховой, поднялась на песчаный склон.
– Вот что мне хотелось бы написать масляными красками, – сказал Винсент.
– Присылай мне свои полотна, как только почувствуешь, что чего—то достиг. Может быть, я найду в Париже покупателей.
– О Тео, прошу тебя! Ты должен найти покупателей на мои картины!
12
Когда Тео уехал, Винсент попробовал писать масляными красками. Он сделал три этюда: написал подстриженные ивы за мостом в Геесте, беговую дорожку и огород в Мердерфорте, где мужчина в синей блузе копал картофель. Земля на огороде была белая, песчаная, местами взрытая и усыпанная сухой ботвой с зеленеющими кое—где стеблями. Поодаль виднелись крыши домов и темная зелень деревьев. Глядя на свою работу в мастерской, Винсент ликовал; как ему казалось, никто и не догадается, что это его первые опыты маслом. Рисунок – основа живописи, скелет, на котором держится все, – был точен в верен. Винсент даже удивился, так как ожидал, что его первые попытки кончатся неудачей.
Он с увлечением писал склон лесного оврага, засыпанный сухими буковыми листьями. Земля тут была коричневая, светлых и темных оттенков, вся испещренная тенями деревьев: эти тени подчас совсем изменяли ее цвет. Надо было уловить и передать всю глубину цвета, всю огромную силу земли, ее весомость, ее плоть. Только теперь он впервые понял, какое изобилие света заключено в этих темных тонах. Он стремился перенести на полотно этот свет и в то же время передать все богатство и насыщенность колорита.
В лучах предзакатного осеннего солнца, слегка приглушенных листвой деревьев, земля казалась темным красновато—коричневым ковром. Молодые березки тянулись вверх и, освещенные сбоку солнцем, сверкали яркой веленью, а затененные стволы отливали густой зеленоватой чернью. Вдалеке за деревьями и кустами над красно—коричневой землей виднелось нежное—нежное небо, голубовато—серое, теплое, насквозь пронизанное светом. На его фоне рисовалась зыбкая полоса зелени, сплетение тонких стволов и желтеющих листьев. По лесу бродили сборщики хвороста, их одинокие фигуры казались сгустками каких—то таинственных теней. Рядом с жирной коричневой землей резко выделялся белый чепец женщины, нагнувшейся за сухой веткой. В густом кустарнике темнел силуэт мужчины, на фоне неба он казался огромным, исполненным поэзии. Накладывая на холст краски, Винсент говорил себе:
«Я не уйду отсюда, пока не исчезнет это очарование осеннего вечера, эта таинственность, это величие». Но свет быстро мерк. Винсент торопился закончить этюд. Фигуры людей он писал моментально, несколькими сильными и решительными ударами кисти. Его поразило, как крепко сидят корнями в земле молодые деревца. Он пытался передать это, но краски на холсте так загустели, что кисть попросту увязала в них. Винсент с ожесточением снова и снова пытался прописать землю, торопясь, так как надвигались сумерки. Наконец он убедился в своем бессилии: эти тона жирного суглинка немыслимо было написать кистью. В безотчетном порыве он отбросил кисть и, выдавливая краску на холст прямо из тюбиков, вылепил корни и стволы, потом снова схватил кисть и стал моделировать жирные сгустки рукояткой.
– Да, – воскликнул он, когда в лесу совсем стемнело. – Теперь они у меня прочно сидят корнями в земле. Я добился того, чего хотел!
Вечером к нему зашел Вейсенбрух.
– Идемте со мной в «Пульхри». Там будут живые картины и шарады.
Винсент не забыл последнего визита Вейсенбруха.
– Спасибо, мне не хочется оставлять жену.
Вейсенбрух подошел к Христине, поцеловал ей руку, справился о ее здоровье и весело поиграл с младенцем. Он, видно, уже не помнил того, что сказал здесь в прошлый раз.
– Покажите мне ваши новые работы, Винсент.
Винсент охотно согласился. Вейсенбрух отобрал несколько этюдов: рынок после воскресной торговли, когда торговцы убирают товар; очередь у столовой для бедных; три старика в приюте для умалишенных; рыбачий баркас в Схевенингене с поднятым якорем и, наконец, набросок, сделанный Винсентом в грязи, на коленях, среди дюн, во время бури.
– Они продаются? Я хотел бы купить их.
– Снова ваши дьявольские шуточки, Вейсенбрух?
– Когда речь идет о живописи, я не шучу. Эти этюды великолепны. Сколько вы хотите за них?
– Назначьте цену сами, – смущенно пробормотал Винсент, боясь, что Вейсенбрух сейчас же его высмеет.
– Прекрасно. Что вы скажете, если я предложу по пять франков за штуку? Итого двадцать пять франков.
Винсент широко раскрыл глаза.
– Это чересчур много! Дядя Кор платил мне по два с половиной франка.
– Он надул вас, мой мальчик! Торгаши всегда нас надувают. Когда– нибудь они будут продавать ваши вещи по пять тысяч франков. Ну, так как, по рукам?
– Вейсенбрух, иногда вы прямо ангел, а иногда – сущий дьявол!
– О, это для разнообразия, чтобы не наскучить друзьям.
Он вынул бумажник и положил перед Винсентом двадцать пять франков.
– А теперь идемте в «Пульхри». Вам надо немножко развлечься. Посмотрим фарс Тони Офферманса. Посмеетесь, это вам будет на пользу.
Так Винсент оказался в «Пульхри». В клубе было полно народа, все курили дешевый, крепкий табак. Первая картина была поставлена по гравюре Николаса Мааса «Хлев в Вифлееме»; характер и колорит артисты выдержали прекрасно, но экспрессия пропала решительно вся. Вторая картина была по Рембрандту: «Исаак благословляет Иакова», с великолепной Ревеккой, которая с волнением ждала, удастся ли ее проделка. От спертого воздуха у Винсента разболелась голова. Он ушел из клуба, не дождавшись фарса, и по дороге домой сочинял письмо отцу.
Он сдержанно сообщил ему о своих отношениях с Христиной и пригласил его приехать в гости в Гаагу, приложив к письму двадцать пять франков Вейсенбруха.
Через неделю отец приехал. Его голубые глаза потускнели, походка стала медлительной. С тех пор как Теодор выгнал сына из дома, они больше не виделись. Время от времени они лишь обменивались довольно дружелюбными письмами. Теодор и Анна—Корнелия иногда посылали сыну белье и платье, сигары, домашнее печенье или десяток франков. Винсент не знал, как его отец отнесется к Христине. Порой люди бывают чуткими и благородными, а порой, наоборот, – слепыми и злобными.
Но он был все—таки уверен, что вид детской колыбели тронет сердце отца и он смягчится. Колыбель – вещь совсем особенная, это не шутка. Отец вынужден будет простить его, несмотря на прошлое Христины.
Теодор приехал с большим свертком под мышкой. Винсент развернул его и увидел теплое пальто для Христины – теперь было ясно, что все уладилось. Когда Христина ушла наверх в спальню, Теодор и Винсент остались одни в мастерской.
– Винсент, – сказал отец, – ты ничего не написал нам о ребенке. Он твой?
– Нет. Она была беременна, когда я с ней познакомился.
– А где же его отец?
– Он бросил ее. – Винсент решил не говорить Теодору, что отец ребенка вообще неизвестен.
– Но ты ведь женишься на ней, Винсент, правда? Так жить не годится.
– Согласен. Я хотел вступить в законный брак как можно скорее, но мы с Тео договорились, что лучше подождать до тех пор, пока я стану получать за свои рисунки сто пятьдесят франков в месяц.
Теодор вздохнул.
– Да, пожалуй, так будет лучше. Винсент, твоя мать просит тебя приехать как—нибудь погостить домой. Я тоже прошу. Нюэнен тебе понравится, сынок, это одно из самых красивых мест во всем Брабанте. Церковь там крошечная, похожа на эскимосское иглу. Представь себе, там не усядется и сотни прихожан! Вокруг дома у нас изгородь из боярышника, а на кладбище за церковью много цветов, песчаные могилки и старые деревянные кресты.
– Деревянные кресты! Белые?
– Белые. Имена написаны черной краской, но почти смыты дождем.
– А есть на церкви высокий, красивый шпиль?
– Есть, Винсент. Тоненький, хрупкий, но тянется в самое небо. Бывают минуты, когда я думаю, что он доходит почти до бога.
– И бросает узкую тень на кладбище. – Глаза у Винсента заблестели. – Хорошо бы написать это!
– Там и заросли вереска, и сосновые леса рядом, а на полях работают крестьяне. Приезжай поскорее, сынок.
– Да, я должен непременно увидеть Нюэнен. Маленькие кресты, церковный шпиль и крестьяне на полях. Это Брабант, настоящий Брабант!
Теодор вернулся домой и успокоил Анну—Корнелию, рассказав ей, что дела у их мальчика обстоят не так уж плохо, как можно было ожидать. Винсент с еще большим рвением погрузился в работу. Все чаще ему вспоминались слова Милле: «L'art c'est un combat; dans l'art il faut y mettre sa peau» ["Искусство – это сражение; в искусстве надо жертвовать своей шкурой" (фр.)]. Тео верил в него, мать и отец не отвергли Христину, никто больше не беспокоил его в Гааге. Он был совершенно свободен, он мог целиком отдаться своей работе.
Хозяин дровяного склада посылал позировать ему всех людей, которые просили работы. И если кошелек Винсента тощал, то папки его пухли от рисунков. Много раз рисовал он малыша в колыбели, стоящей у печки. Когда начались осенние дожди, он работал под открытым небом на промасленной бумаге торшон, ловя интересовавшие его эффекты. Он скоро понял, что истинный колорист, видя цвет в природе, должен тут же разложить его на составные элементы: «Этот серо—зеленый тон надо передавать желтым с черным, добавив чуть—чуть голубого».
Рисовал ли он человека или пейзаж, он стремился выразить не сентиментальную меланхолию, а подлинную печаль. Он хотел, чтобы зритель понял его настроение и сказал: «Он чувствует глубоко и тонко».
Он знал, что люди смотрят на него как на странного, малоприятного бездельника, не нашедшего себе места в жизни. Ему хотелось показать в своих работах, чем переполнено сердце этого бездельника и чудака. В самых жалких лачугах, в самых грязных углах ему виделись картины и рисунки. Чем больше он писал, тем больше терял интерес ко всякой другой работе. И по мере того как он отдалялся от посторонних дел, глаза его все острее схватывали в жизни яркое, живописное. Искусство требовало упорной работы, несмотря ни на канве трудности, оно требовало неусыпной наблюдательности.
Только одно мешало теперь Винсенту – масляные краски стоили ужасно дорого, а он накладывал их на холст очень толстым слоем. Когда он выдавливал из тюбика на полотно обильную струю краски, ему казалось, что он швыряет франки в Зейдер—Зее. Он работал быстро и должен был оплачивать огромные счета за холсты; за один день он расходовал столько красок, сколько Мауве хватило бы на два месяца. Что ж, он не мог писать тонким слоем, не мог работать медленно; деньги его таяли, а мастерская наполнялась грудами картин. Как только приходили деньги от Тео – брат посылал ему по пятьдесят франков первого, десятого и двадцатого числа каждого месяца, – он опрометью бежал к торговцу и закупал большие тубы охры, кобальта, берлинской лазури, маленькие тюбики неаполитанской желтой, сиены, ультрамарина и гуммигута. Счастливый, он вдохновенно работал, – пока, обычно за пять—шесть дней до очередного перевода из Парижа, не кончались краски и франки и снова не начинались заботы.
Он удивлялся, видя, как много вещей приходится покупать для ребенка; удивлялся, что Христине постоянно нужны лекарства, новые платья, особая еда; что Герману надо покупать книги и письменные принадлежности, так как мальчика отдали в школу; что домашнее хозяйство – это какая—то прорва, беспрерывно поглощающая лампы, горшки, одеяла, уголь, дрова, занавески, ковры, свечи, простыни, ножи и ложки, тарелки, столы, стулья и невероятное количество продуктов. Было мучительно трудно распределить очередные пятьдесят франков между живописью и тремя душами, которых он содержал.
– Ты как мастеровой, который бежит в кабак, как только получит деньги, – съязвила однажды Христина, когда Винсент вынул пятьдесят франков из конверта и сразу же принялся собирать пустые тубы.
Он сам сделал себе инструмент для определения перспективы – это приспособление на двух длинных ножках хорошо стояло на песке в дюнах, – и заказал кузнецу железные угольники для рамы. Схевенинген с его морем, песчаными дюнами, рыбаками, барками, лошадьми и сетями поистине пленил его. Нагруженный тяжелым мольбертом и своим неуклюжим инструментом, он каждый день бродил по дюнам, стараясь уловить изменчивый блик моря и неба. Осень вступала в свои права, художники укрылись под теплым кровом своих мастерских, а он все ходил и писал и при ветре, и под дождем, и в туман, и в настоящую бурю. В ненастную погоду его сырые полотна нередко покрывались песком и соленой морской водой. Дождь мочил его без пощады, туман и ветер пробирали до костей, песок забивался в глаза и ноздри... но он упивался каждой минутой работы. Остановить его теперь могла только смерть.
Как—то вечером он показал свою новую картину Христине.
– Винсент! – удивленно воскликнула она. – И как это у тебя все получается так похоже?
Винсент забыл, что он разговаривает с простой, неграмотной женщиной. Ему казалось, будто он говорит с Вейсенбрухом или Мауве.
– Сам не знаю, – отвечал он. – Я сажусь с чистым холстом возле того места, которое меня поразило, и говорю себе: «Из этого чистого холста надо сделать некую вещь». Я долго работаю, возвращаюсь домой недовольный и бросаю свое полотно куда—нибудь в чулан. Немного отдохнув, я со страхом иду снова взглянуть на него. Я недоволен им и теперь, потому что перед моим внутренним взором еще не поблек тот чудесный оригинал, с которого я работал, – мне пока трудно примириться со своей картиной. Но в конце концов я нахожу, что моя работа – это как бы отголосок того, что меня поразило. Природа что—то сказала, поведала мне, и я это застенографировал. В моей стенограмме могут оказаться слова, которые не расшифруешь, могут быть ошибки и пропуски, но все равно – в ней есть нечто от того, что сказали мне и леса, из пески, и люди. Ты меня понимаешь?
– Нет.
13
Христина вообще мало что понимала в его работе. Ей казалось, что его страсть рисовать разные предметы – просто разорительная причуда. Она видела, что это краеугольный камень, на котором держится вся его жизнь, и никогда не пыталась мешать Винсенту, но цель его работы, его медленные успехи и болезненная выразительность его картин – все это ее совершенно не трогало. Она была хорошей спутницей в повседневной жизни, но Винсент отдавал этой жизни лишь малую частицу своей души. Когда ему хотелось поделиться с кем—нибудь мыслями, он вынужден был писать Тео: в длинных страстных письмах он почти каждый вечер рассказывал ему обо всем, что он видел, рисовал и думал. Когда ему хотелось насладиться чужим творчеством, он читал французские, английские, немецкие и голландские романы. Христина разделяла с ним лишь часть его существования. Но он был доволен; он не жалел, что Христина стала его женой, не пытался навязать ей интеллектуальные занятия, к которым она была явно не подготовлена.
Все шло как нельзя лучше летом и осенью, когда он уходил из дома в пять или шесть утра и возвращался лишь с наступлением вечера, ковыляя в холодных сумерках по дюнам. Но когда первая свирепая метель ознаменовала годовщину их встречи в кафе напротив вокзала Рэйн и Винсенту пришлось работать дома целыми днями с утра до вечера, поддерживать добрые отношения стало труднее.
Он вновь взялся за рисунки, экономя таким образом на красках, но натурщики грозили пустить его по миру. Люди, охотно соглашавшиеся на самую тяжелую и унизительную работу за ничтожную плату, требовали больших денег только за то, чтобы посидеть перед ним. Он просил разрешения рисовать в приюте для умалишенных, но ему ответили, что такого у них никогда не бывало и к тому же в приюте перестилают полы, так что работать можно только в приемные дни.
Единственная надежда оставалась на Христину. Теперь она чувствовала себя хорошо, и он думал, что она будет позировать ему так же старательно, как и раньше, до появления ребенка. Но Христина смотрела на это иначе. Сначала она говорила:
– Я еще не совсем поправилась. Подожди немного. К чему тебе спешить?
А потом, выздоровев окончательно, она заявила, что слишком занята.
– Теперь ведь совсем не то, что раньше, Винсент, – говорила она. – Я кормлю ребенка. И в доме мне надо убирать, и готовить на четыре рта.
Винсент вставал в пять часов утра и делал всю работу по дому, чтобы днем Христина могла ему позировать.
– Какая я тебе натурщица? – возмущалась Христина. – Я твоя жена.
– Син, ты должна мне позировать! Я не могу нанимать модель каждый день. Это одна из причин, благодаря которым ты здесь.
Христина разразилась той бешеной, неудержимой бранью, которой Винсент немало наслушался в первые дни знакомства с ней.
– Вот зачем ты меня держишь! Ты экономишь на мне деньги! Я для тебя паршивая служанка! Если я не буду позировать, ты меня выставишь за дверь!
Винсент подумал немного и сказал:
– Это твоя мать тебя так настроила. Сама ты так не думала.
– А что, если думала и сама? Ведь это истинная правда, разве нет?
– Син, ты туда больше не пойдешь.
– Это почему же? Выходит, по—твоему, я не должна любить маму?
– Эти люди испортят всю нашу жизнь. Ты снова станешь такой же, как они. Как же тогда наша свадьба?
– А разве ты сам не посылаешь меня к ним, когда в доме нечего жрать? Зарабатывай больше денег, и я не буду туда ходить.
Когда в конце концов он упросил ее позировать, из этого ничего не вышло. Она делала все те ошибки искоренить которые ему стоило такого труда год назад. Иногда он подозревал, что она притворяется, делает неловкие движения нарочно, чтобы отвязаться от него, чтобы он оставил ее в покое. И он, действительно, вынужден, был прекратить работать с нею. Нанимать натурщиков теперь приходилось все чаще. Все чаще семья сидела теперь без сантима на хлеб, и все больше времени Христина должна была проводить у матери. Всякий раз, когда она приходила оттуда, Винсент видел едва заметную перемену в ее манерах и ее отношении к нему. Это был какой—то порочный крут: если тратить все средства на жизнь, то Христина выйдет из– под влияния матери, и он сумеет с ней поладить. Но тогда ему придется бросить свою работу. Для того ли он спас ей жизнь, чтобы убить себя? Если же Христина не будет ходить по нескольку раз в месяц к матери, ей и ее детям придется голодать; а если она будет ходить туда, это в конечном счете разрушит их семью. Что тут было делать?
Христина больная и беременная, Христина в больнице, Христина, выздоравливавшая после родов, – это была одна женщина: покинутая, отчаявшаяся, стоявшая на пороге жалкой смерти, до глубины души благодарная за одно сочувственное слово, за малейшую помощь, женщина, изведавшая все горести в мире и готовая на все, только бы хоть на минуту вздохнуть свободно, способная давать самые пылкие и смелые клятвы себе и другим. Христина выздоровевшая, пополневшая от хорошей еды, лечения, заботливого ухода, – это была уже совсем иная Христина. Она забыла пережитые страдания, ее решимость быть хорошей женой и матерью слабела, прежние взгляды и привычки исподволь снова завладевали ею. Четырнадцать лет она жила, как хотела, среди пьянства, сигар, ругани и грубых, жестоких мужчин. Теперь, когда она окрепла, эти четырнадцать разгульных лет с лихвой перевесили единственный год, согретый любовью и вниманием. В ней совершалась тайная перемена. На первых порах Винсент не понял этого; затем мало—помалу он осознал, что происходит.
В это самое время, вскоре после Нового года, Винсент получил любопытное письмо от брата. Тео встретил на улице в Париже какую—то женщину, совершенно одинокую, больную, опустившуюся. У нее болели ноги, работать она не могла. Она была близка к самоубийству. Пример Винсента подействовал на Тео, и он пошел по его стопам. Он устроил эту женщину в доме своих старых знакомых. Он пригласил к ней врача, оплатил все расходы по ее содержанию. В письмах он называл ее своей пациенткой.
«Должен ли я жениться на своей пациентке, Винсент? Будет ли это для нее самое лучшее? Должен ли я оформить этот брак официально? Она очень страдает; она несчастна; ее покинул единственный человек, которого она любила. Как мне спасти ее?»
Винсент был глубоко тронут и отвечал Тео в самом теплом тоне. Но с Христиной ему становилось все труднее. Когда семья сидела на одном хлебе и кофе, Христина ворчала. Она требовала, чтобы Винсент не тратил деньги на натуру, а все до последнего сантима отдавал на хозяйство. Не имея возможности купить новое платье, она не берегла и старое: оно было все в жирных пятнах и грязи. Чинить одежду и белье Винсента она перестала. Она снова подпала под влияние матери, которая уверяла дочь, что Винсент или сбежит сам, или выгонит ее. Поскольку постоянная совместная жизнь с Христиной стала невозможной, какой смысл было жить с ней временно?
Мог ли он советовать Тео жениться на его пациентке? Был ли официальный брак лучшим путем для спасения таких женщин? Разве кров над головой, восстанавливающая здоровье сытная еда и доброе отношение – это самое важное для того, чтобы снова вдохнуть в них любовь к жизни?
«Подожди! – предостерегал он брата. – Делай для нее все, что можешь, – это благородно! Но женитьба ничем тут не поможет. Будет между вами любовь, будет и брак. Но подумай сначала, способен ли ты ее спасти».
Тео присылал по пятьдесят франков трижды в месяц. Теперь, когда Христина не занималась хозяйством, деньги уходили гораздо быстрее, чем раньше. Винсент всюду жадно искал натуру, ему хотелось накопить побольше этюдов, чтобы писать настоящие картины. Он жалел каждый франк, который приходилось тратить не на рисование, а на домашние нужды. Христина оплакивала каждый франк, который приходилось отрывать от хозяйства и выбрасывать на рисование. Это была борьба не на жизнь, а на смерть. Ста пятидесяти франков в месяц едва хватило бы на еду, жилье и материалы для работы одному Винсенту, – старания обеспечить на эти деньги четырех человек были мужественны, но тщетны. Мало—помалу Винсент задолжал квартирохозяину, сапожнику, бакалейщику, булочнику, торговцу красками. В довершение всего пошатнулись денежные дела Тео.
Винсент писал ему слезные письма. «Если можешь, пришли, пожалуйста, деньги чуть раньше двадцатого, но никак не позже. У меня осталось всего– навсего два листа бумаги и последний огрызок цветного карандаша. На модель и еду нет ни франка». Такие письма он посылал Тео три раза в месяц; когда приходили очередные пятьдесят франков, он тотчас же раздавал их своим поставщикам, и на предстоящие десять дней у него ничего не оставалось.
«Пациентке» Тео необходимо было сделать операцию – удалить опухоль на ноге. Тео поместил ее в хорошую больницу. Кроме того, ему надо было посылать деньги в Нюэнен, так как приход там был маленький, и Теодору не всегда удавалось свести концы с концами. Тео содержал себя, свою « пациентку», Винсента, Христину, Германа, Антона и помогал родителям в Нюэнене. От жалованья у него не оставалось ни одного лишнего сантима, и прислать Винсенту что—либо сверх ста пятидесяти франков он никак не мог.
И вот в начале марта наступил день, когда у Винсента остался один– единственный франк – рваная, замусоленная бумажка, которую торговцы отказывались брать. Еды в доме не было ни крошки. Денег от Тео можно было ожидать не раньше чем через девять дней. Отпускать Христину к матери на долгое время Винсент боялся.
– Син, – сказал он, – нельзя, чтобы дети умерли с голоду. Лучше тебе отвести их к матери, пока я не получу от Тео денег.
Они посмотрели друг на друга, думая об одном и том же, но не решаясь высказать это вслух.
– Да, – сказала она. – Пожалуй, придется.
Бакалейщик согласился взять рваный франк и отпустил Винсенту горбушку черного хлеба и немного кофе. Натурщиков Винсент нанимал в долг. Нервы у него были напряжены до предела. Работа шла тяжело, с большой натугой. От голода он исхудал и ослабел. Бесконечные заботы о куске хлеба замучили его вконец. Не работать он не мог, но всякий раз, берясь за карандаш, убеждался, что рисует все хуже и хуже.
Ровно через девять дней от Тео пришло письмо с пятьюдесятью франками. Его «пациентка» оправилась после операции, и он устроил ее в частный дом. Денежные затруднения подкосили и его, он совсем пал духом. Он писал: « Боюсь, что не могу тебе что—либо обещать на будущее».
Эта фраза чуть не свела Винсента с ума. Хотел ли Тео сказать этим, что он больше не сможет посылать Винсенту деньги? Само по себе это было бы еще не так ужасно. А вдруг брат намекает на то, что наброски, которые Винсент почти каждый день посылал ему, чтобы Тео видел его успехи, убедили его, что Винсент лишен таланта и не может надеяться на что—либо в будущем?
По ночам он лежал, не смыкая глаз, и все размышлял об этом. Он писал бесконечные письма Тео, прося объяснений, и мучительно думал, как найти выход и Добыть себе средства на жизнь. Выхода не было.
14
Придя за Христиной, он нашел ее в обществе матери, брата, любовницы брата и какого—то чужого мужчины. Христина курила сигару и пила джин. По– видимому, возвращаться на Схенквег ей вовсе не хотелось.
За девять дней, проведенные у матери, она вернулась к старым привычкам, к своей прежней губительной жизни.
– Захочу и буду курить сигары! – кричала она. – Ты не имеешь никакого права запретить мне; сигары не на твои деньги куплены. Доктор в больнице сказал, что я могу пить джин и пиво сколько угодно.
– Да, как лекарство... для аппетита.
Она хрипло захохотала.
– Лекарство! Ах, ты...
Таких слов он не слышал от нее с самых первых дней их знакомства.
У Винсента внутри все перевернулось. Он пришел в неистовую ярость. Христина ни в чем не уступала ему.
– Ты обо мне и думать забыл! – кричала она. – Ты даже не даешь мне куска хлеба! Почему ты зарабатываешь так мало денег? Что ты, черт тебя дери, за мужчина?
Шли дни, суровая зима медленно уступала место робкой весне, а дела Винсента принимали все худший оборот. Он совсем запутался в долгах. От недоедания Винсент стал страдать животом. Он не мог теперь безнаказанно проглотить ни крошки. Потом у него заболели зубы. Он не спал ночи напролет. А тут еще начало стрелять в правом ухе, и Винсент мучился с утра до вечера.
Мать Христины повадилась приходить в дом Винсента и стала пить и курить здесь вместе с дочерью. Эта женщина уже не считала, что брак с Винсентом – счастье для Христины. Однажды Винсент застал у себя и брата Христины, который улизнул, едва завидев его.
– Зачем он приходил? – спросил Винсент. – Что он от тебя хочет?
– Они говорят, ты собираешься меня выгнать.
– Ты прекрасно знаешь, Син, что я этого никогда не сделаю. Разумеется, пока ты сама хочешь жить здесь.
– Мать требует, чтобы я ушла. Говорит, нет никакого толку тут жить, если жрать совсем нечего.
– Куда же ты пойдешь?
– Домой, понятное дело.
– И детей заберешь туда?
– Все лучше, чем голодать здесь. Я могу работать и содержать себя.
– А что ты будешь делать?
– Ну, что—нибудь найдется...
– Пойдешь в поденщицы? Или снова прачкой?
– Не знаю... Пожалуй.
Он видел, что Христина лжет.
– Так вот на что они тебя подбивали!
– Что ж... это не так уж плохо... по крайней мере всегда есть деньги!
– Слушай, Син, если ты уйдешь к матери, ты погибнешь. Ведь она снова пошлет тебя на улицу. Вспомни, что сказал доктор в Лейдене. Если ты вернешься к прежней жизни, это тебя убьет!
– Не убьет. Я теперь здоровая.
– Ты здорова, потому что жила по—человечески... Но если ты начнешь все снова...
– Господи Иисусе, кто это начнет снова? Разве что ты сам пошлешь меня.
Винсент сел на ручку плетеного кресла и положил ладонь на плечо Христине. Волосы у нее были растрепаны.
– Поверь мне, Син, я тебя никогда не брошу. До тех пор, пока ты захочешь делить со мной все, что у меня есть, ты будешь жить у меня. Но ты должна порвать с матерью и братом. Они тебя погубят! Обещай мне, ради твоего же блага, что ты не будешь больше видеться с ними.
– Обещаю.
Через два дня он рисовал в столовой для бедных, а когда вернулся, увидел, что Христины в мастерской нет. Не было и ужина. Христину он разыскал у матери, она сидела там и пила джин.
– Я тебе говорю, что люблю маму, – твердила она, когда они пришли домой. – Ты не запретишь мне ходить к ней когда угодно. Я тебе не рабыня. Я могу делать, что хочу.
Она стала теперь такой же грязной и неряшливой, как в прошлом. Если Винсент пытался образумить ее, объяснить, что она сама отталкивает его от себя, Христина твердила:
– Да, я прекрасно знаю, ты не хочешь, чтобы я жила с тобой.
Винсент говорил ей, что она запустила дом, что всюду грязь, беспорядок, а она заявляла:
– Хорошо, пусть я бездельница и лентяйка. Я всегда была такая, тут уж ничего не поделаешь.
Когда он старался объяснить ей, куда заведет ее в конце концов лень, она говорила:
– Знаю, что я пропащая, это правда. Вот возьму и брошусь в реку.
Мать Христины приходила теперь в мастерскую почти каждый день и лишала Винсента того, что он ценил всего больше, – возможности быть наедине с Христиной. В доме воцарился хаос. Обедали и ужинали когда придется. Герман ходил оборванный и немытый, пропускал уроки. Христина все меньше работала, все больше курила и пила джин. Откуда она брала на это деньги, Винсент не знал.
Наступило лето. Винсент опять с утра уходил из дома и целыми днями писал на открытом воздухе. Опять понадобилось больше денег на краски, кисти, холсты, рамы, мольберты. Тео сообщал в письмах, что здоровье его « пациентки» улучшилось, но он не представляет себе, как построить свои отношения с ней. Что делать с этой женщиной теперь, когда она выздоровела?
Винсент закрывал глаза на то, что творилось у него в доме, и продолжал упорно писать. Он понимал, что семья разваливается, что Христина и его увлекает за собой в пропасть. Он старался забыться в работе. Каждое утро, принимаясь за новый холст, он тешил себя надеждой, что картина будет прекрасна и совершенна, что ее немедленно купят и он станет признанным художником. И каждый вечер он возвращался домой с грустным дознанием того, что от желанного мастерства его отделяют еще долгие годы.
Единственным его утешением был Антон, ребенок Христины. Это был удивительно живой, подвижный малыш; смеясь и лепеча, он с аппетитом уплетал все, что ему давали. Он часто сидел с Винсентом в мастерской, устроившись в уголке на полу. Глядя, как Винсент рисует, он радостно улыбался, а потом притихал и таращил свои глазенки на развешанные по стенам картины. Мальчик рос здоровым и крепким. Чем меньше заботилась о нем Христина, тем больше Винсент к нему привязывался. Он видел в Антоне единственный смысл и оправдание того, что он сделал за минувшую зиму.
Вейсенбрух навестил его за все это время лишь один раз. Винсент показал ему кое—какие наброски, сделанные еще осенью, и сам был поражен их несовершенством.
– Не огорчайтесь, – сказал ему Вейсенбрух. – Через много лет вы посмотрите на эти ранние работы и поймете, что в них немало искреннего чувства и трогательности. Работайте, работайте, мой мальчик, не останавливайтесь ни перед чем.
Но скоро Винсенту пришлось остановиться от жестокого удара, нанесенного прямо в лицо. Еще весной Винсент пошел в хозяйственную лавку починить лампу. Лавочник навязал ему две новые тарелки.
– Но я не могу их взять, у меня нет денег.
– Пустяки. Мне не к спеху. Берите, заплатите как—нибудь потом.
Спустя два месяца он громко постучал в дверь мастерской. Это был здоровенный малый с такой толстой шеей, что она сливалась у него с головою.
– Что же это вы меня морочите? – закричал он сердито. – Берете товар и не платите, а сами все время при деньгах?
– Сейчас у меня ничего нет. Я расплачусь, как только получу деньги.
– Враки! Вы только что уплатили моему соседу—сапожнику.
– Я работаю и прошу мне не мешать, – сказал Винсент. – Я рассчитаюсь с вами, как только смогу. Уходите, пожалуйста.
– Я уйду, когда вы отдадите мне деньги, – не раньше!
Винсент опрометчиво толкнул лавочника к двери.
– Проваливайте вон отсюда! – крикнул он.
Лавочник только этого и ждал. Едва Винсент к нему прикоснулся, он ударил его кулаком в лицо и отбросил к стенке. Потом ударил Винсента еще раз, сбил его с ног и вышел из мастерской, не говоря ни слова.
Христина была в тот день у матери. Антон, игравший на полу, подполз к Винсенту и с плачем гладил его по лицу. Через несколько минут Винсент пришел в сознание, дотащился до лестницы, кое—как взобрался наверх и лег в постель.
Лицо у Винсента не было поранено. Боли он не ощущал. Он не ушибся, когда упал на пол. Но эти два удара кулаком что—то сломили в нем, опустошили его. Он это чувствовал.
Пришла Христина. Она поднялась наверх. В доме не было ни еды, ни денег. Христина не раз удивлялась, как это Винсент при такой жизни еще держится на ногах. Теперь он лежал поперек кровати, свесив голову и руки в одну сторону, а ноги в другую.
– Что случилось? – спросила она.
Прошло много времени, прежде чем он собрался с силами, приподнялся и положил голову на подушку.
– Син, я должен уехать из Гааги.
– Что ж... Это понятно.
– Мне необходимо уехать отсюда. Куда—нибудь в деревню. Может быть, в Дренте. Там мы сумеем прожить дешевле.
– Ты хочешь, чтобы я поехала с тобой? Это же ужасная дыра, этот Дренте. Что я там буду делать, если у тебя нет ни денег, ни хлеба?
– Не знаю, Син. Придется тебе потерпеть.
– А ты обещаешь расходовать все свои сто пятьдесят франков только на жизнь? Не будешь тратить их на натурщиков и краски?
– Не могу, Син. Ведь это для меня главное.
– Да, для тебя!
– Ясное дело, не для тебя. Разве тебе это понять!
– Мне нужно как—то жить, Винсент. Я не могу жить без еды.
– А я не могу жить без живописи.
– Ну, что ж, ведь деньги твои... тебе и решать... я понимаю. У тебя есть хоть несколько сантимов? Давай сходим в кафе у вокзала Рэйн.
В кафе пахло кислым вином. Было уже довольно поздно, но ламп не зажигали. Те два столика, за которыми они когда—то сидели, были свободны. Христина повела Винсента к ним. Они заказали вина. Христина играла своим стаканом. Винсент вспомнил, как восхитили его почти два года назад ее натруженные рабочие руки, когда она вот так же играла стаканом.
– Они говорили, что ты бросишь меня, – сказала она тихо. – Да я и сама это знала.
– Я не собираюсь бросать тебя, Син.
– Да, конечно, это не назовешь – бросить. Я от тебя не видела ничего, кроме хорошего.
– Если ты хочешь жить вместе со мной, я заберу тебя в Дренте.
Она покачала головой.
– Нет, вдвоем нам никак не прокормиться.
– Ты это поняла, Син, правда? Если бы я был богаче, я ничего бы для тебя не пожалел. Но когда приходится выбирать между тобой и работой...
Она накрыла его руку своей, и Винсент почувствовал, как шершава ее ладонь.
– Ладно. Брось огорчаться. Ты сделал для меня все, что мог. Просто пришло время... вот и все.
– Хочешь, Син, мы поженимся? Я возьму тебя с собой, только бы ты была счастлива.
– Нет, я останусь с мамой. Каждому свое. Все устроится; брат снимает новую квартиру для своей девки и для меня.
Винсент допил вино, последние капли со дна горчили.
– Син, я старался помочь тебе. Я любил тебя и отдавал тебе всю свою нежность. Прошу тебя за это об одном, только об одном.
– О чем же? – равнодушно спросила Христина.
– Не иди снова на улицу. Это тебя убьет! Ради Антона, не возвращайся к прежней жизни.
– У тебя хватит еще денег на стакан вина?
– Да.
Она отпила залпом почти полстакана и сказала:
– Я ведь знаю, что так мне не прожить, особенно с двумя детьми. И если я пойду на улицу, то не по охоте, а поневоле.
– Но если у тебя будет работа, ты обещаешь не делать этого?
– Хорошо, обещаю.
– Я буду посылать тебе денег, Син, буду посылать каждый месяц, на ребенка. Мне хочется, чтобы ты вывела малыша в люди.
– Все будет хорошо... он не пропадет... как и все остальные.
Винсент написал Тео о своем намерении переехать в деревню и порвать с Христиной. Тео ответил со следующей почтой, – он одобрил решение Винсента и прислал лишнюю сотню франков, чтобы Винсент расплатился с долгами. «Вчера ночью моя пациентка исчезла, – писал он. – Она совсем выздоровела, но мы никак не могли найти общий язык. Она забрала с собой все вещи и не оставила мне даже адреса. Думаю, что так будет лучше всего. Теперь мы оба освободились».
Винсент перетащил всю мебель в мансарду. Он еще надеялся когда– нибудь вернуться в Гаагу. За день до отъезда в Дренте он получил письмо и посылку из Нюэнена. В посылке оказался табак и творожный пудинг от матери, завернутый в промасленную бумагу.
«Когда же ты приедешь к нам порисовать деревянные кресты на церковном кладбище?» – спрашивал Винсента отец.
И Винсент сразу почувствовал, что его тянет домой. Он был болен. Он изголодался, истрепал нервы, бесконечно устал и пал духом. Он съездит на несколько недель домой, к матери, поправит здоровье и воспрянет духом. При мысли о брабантских пейзажах, об изгородях, дюнах и крестьянах, работающих в полях, к нему пришло ощущение мира и покоя, которого он не знал уже много месяцев.
Христина с обоими детьми проводила его на вокзал. Они стояли на платформе и не знали, что сказать. Подошел поезд, Винсент сел в вагон. Христина стояла, прижимая малыша к груди и держа Германа за руку. Винсент смотрел на них, пока поезд не вышел на сияющий, залитый солнцем простор, и тогда женщина, стоявшая на закопченной платформе, скрылась из виду, скрылась навсегда.