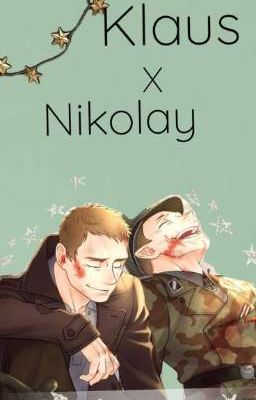Коктель нейротоксинов
27 января 1944 года. Бои под Ленинградом.
Николай Алексеевич Ивушкин — командир танковой роты, младший лейтенант, с достоинством прошедший точечные пожары Второй Мировой войны под Сталинградом и Курской дугой, в это, казалось бы самое обычное, холодное утро, просыпается слишком рано и потому решает выйти из казарм на задний двор части, чтобы прочистить, пристрелять перед новым боем свою винтовку. Утренняя тишина не нарушается взрывами бомб и отдаленными криками — это не может не радовать, ведь фашисты, с неделю как, оказывают частям Красной Армии менее ярое сопротивление, чем под Сталинградом и Курском, толи от понимания, что проигрыш нацисткой гадины — вопрос времени, толи от усталости и нежелания сражаться на чужой земле, ведь до Берлина дело еще не дошло. С другой стороны, сейчас боевые действия имеют малое напряжение, проходят с большим для Красной армии успехом, да и финны, — чье активное участие в блокаде непокоренного Ленинграда не дает РККА выдвинуться в Европу, — вроде как собираются подписывать капитуляцию, отходить от северной столицы и объявлять войну нацисткой Германии, поэтому товарищи то и дело норовят расспросить Николая о его судьбе: как именно в середине сорок-третьего года он вдруг оказался в их части №212 (после прохождения семимесячной службы в штрафном батальоне №210 «для профилактики негативного немецкого влияния»), хотя до этого числился по всем базам или пропавшим без вести, или убитым на поле боя под Москвой. Ивушкину ответить на это нечего, не признаваться же в самом деле, что сбежал на танке из плена через Чехословакию и Польшу. Во-первых: сослуживцы, потерявшие в этой кровавой войне многих товарищей по вине немецких рук (кого забили в плену, кого изнурили работами, кого расстреляли) не поверят, засмеют; во-вторых: командование с большой вероятностью начнет допытываться о связях, коими Николай Алексеевич оброс в самом лагере. Захотят узнать, к примеру, кто и как позволил ему завладеть новеньким танком, только с Восточного фронта, кто дал карту и помог пересечь минные поля и ограждения, не может ведь это быть простым совпадением, удачей. Командование, по причине частого пленения советских граждан, имеет сводки и инструкции сверху, где подробно описаны немецкая педантичность, аккуратность и внимательность. В них еще объясняется, почему пленных соотечественников лучше прогонять через штрафбаты и тщательно проверять — немцы без причины не отпускают и унтерменша, с ними не пожелавшего сотрудничать, с легкостью убьют. Это выгодно: с худощавых пленников рабочего толку мало, забросить их обратно могут лишь на тыловые диверсии. Отвечать на эти вопросы правдиво у Николая также не было никакого желания: после подобного разговора (казалось бы дружеской беседы за чашечкой кофе — на деле хладнокровно выверенного допроса), велик риск получить опасную статью 64 в личное дело и заклеймить себя позором на всю оставшуюся жизнь. — про себя рассуждает Николай, прочищая дуло нарезной винтовки Мосина бежево-черной от копоти тряпкой, краем глаз отмечая, как, из дубовой, покосившейся двери здания медицинского пункта, где на втором этаже временно разместили военнопленных, выходит быстрым шагом не его непосредственный, но все-таки начальник, командир одного из танковых батальонов, майор – Андрей Андреевич Серый, и, по непонятной причине сворачивает с дорожки, ведущей в штаб, после чего направляется к Николаю Алексеевичу. Николай подтягивается, отдает майору честь, закинув быстро винтовку на плечо.
— Ивушкин не занят? — майор, не дожидаясь ответа от молодого человека, стеклянным взглядом проходится по его выправке. — Застегни верхнюю пуговицу. — Николай без лишних вопросов производит требуемое действие, после чего глухим голосом Серый продолжает: — Иди в пункт военнопленных, разберись с двумя предателями, твои сослуживцы уже предотвратили их побег. На тебе лишь чистая работа. С ними пришлая баба, с ней сам решишь, что делать. У меня нет желания и времени в это ввязываться, пленные — не моя сфера внимания, а у тебя есть необходимость: как раз докажешь снова свою верность Советскому государству. Мало ли на что в плену фашисткие гадины тебя могли науськать, раз так легко отпустили. Это твой единственный шанс доказать, что ты все еще верен своему Социалистическому Отечеству, лейтенант Ивушкин. Расстреляй их.
— Андрей Андреевич, я не могу сделать это, не имея приказа от полковника Завьялова.командир части №212 — Ивушкин прячет в карман широких темно-зеленых, истертых шаровар тряпку, убирая за спину руки, сжимая ладони друг в друге и лишь после, осознав, что повторяет болезненный жест по привычке, (досталось от Ягера) руки размыкает, оставляя их правда за спиной, а глаза от лица Андрея Андреевича не отводит. Серый острый зрительный контакт прерывает первым.
— Выполняй мой приказ. И не задавай лучше лишних вопросов. — видя, что Николай Алексеевич собирается открыть рот, отрезает Серый, затем разворачивается на твердых каблуках сапог, извлекая скрипучий звук из лежащего под ногами гравия, собираясь пойти по своим делам, всем своим видом показывая, что у него нет ни желания, ни времени, чтобы выслушивать возражения. — С тобой еще этот пойдет. — не оборачиваясь, отрешенно кивая на только что выведенного из казарм солдата — тоже бывшего в немецком плену, — кричит Андрей Андреевич и уходит в сторону штаба. Николай качает головой: солдат представляется ему Александром, только это вряд ли это важно в сложившейся ситуации. Хоть у Николая Алексеевича и нет никакого желания ввязываться в глупую авантюру, идти придется — сидеть в одной клетке с немецкими военопленными не хочется: не за что, тем более теперь так близка заслуженная победа.. Александр размышления Николая Алексеевича подтверждает, после чего первый осторожно прошмыгивает внутрь здания. Ивушкин хмурится, отмечая, что часовые, стоящие под окнами здания, никак не реагируют на происходящее — наверное их уже предупредили о «новом задании». Николай, зайдя вслед за Александром, поднимается на второй этаж по шаткой лесенке и подходит к первой комнате, расположенной чуть левее центрального коридора. Перед ее закрытой дверью Ивушкин видит охрану из двух человек, в чьем числе командир другой танковой роты Павел Дмитриевич Алексеев — единственный более-менее близкий для Николая человек из всей дивизии. Эта конвоирная встреча не может не радовать молодого человека: Павел не станет доносить об определенных уклонениях Ивушкина от приказа и в случае чего замолвит перед Завьяловым словцо. Алексеев по сути Ивушкину должностью обязан.
— Здравия желаю, Алексеев. — Николай Алексеевич отдает сослуживцу военное приветствие. — Что у вас случилось? Вы получали приказ от полковника Завьялова расстрелять пленных беглых? Павел Дмитриевич чуть опускает винтовку на носок сапога, разминая затекшую руку несколькими резкими встряхиваниями.
— Баба там одна пробралась, хотела помочь фашистам сбежать. Завьялов собирался прийти, но я его не видел. И приказа он не давал. Вроде майор Серый на себя взял это дело. Я схожу к полковнику, спрошу, есть ли его дозволение во всем этом деле, ты смотри, чтобы гады не свалили. Остальное — не твоя забота. Николай Алексеевич понятливо качает головой, бросая быстрый взгляд на Александра, пытаясь отследить его реакцию на услышанное предложение "игнорировать лишний приказ вышестоящего лица". «Скошенная бровь, хмурое лицо — любая мелочь может указать на то, что он донесет.» — прищуривается Ивушкин. «Штрафники ненадежны в этих вопросах, их забивают так, что понимание абсурдности приказа из их голов пропадает вовсе. Остается навязчивое желание выслужиться. Даже в ущерб себе.» Лицо Александра остается все таким же расслабленным и спокойным.
— Буду премного благодарен. Алексеев, закинув винтовку на плечо, покидает пост, а Ивушкин наконец заходит во вторую комнату. Александр за ним. Перед глазами молодого человека в мгновение разворачивается пренеприятная сцена: в центре намеренно опустошенной комнаты стоят два стула, — откуда их притащили понять не удается, — на которых сидят: чрезмерно избитый, но совершенно по сумашедшему смеющийся, судя по остаточному рисунку камуфляжного дуба на изувеченной форме, оберштурмбаннфюрер Ваффен СС, связанный по рукам и ногам, а рядом с ним, тоже связанный, простой рядовой, в хлопковой рубашке, с пустыми глазами и безвольно повисшими конечностями. Перед ними, о чем-то активно говоря, стоит какой-то человек в советской форме — у Николая Алексеевича не поворачивается язык даже в голове назвать его солдатом, — который удерживает за шкирку от падения носом в доски изрядно потрепанную гражданскую девушку, вероятно находящуюся без сознания длительное время. Ивушкин протирает пальцами глаза, а солдат, в котором молодой человек узнает своего знакомого по штрафбату — Сергея Евгеньевича Неверова (собрались все отщепенцы), оборачивается и зловеще улыбается:
— Николай, вот и ты пришел. Я свое дело сделал, которое тоже должно было быть на тебе, теперь дело за малым. Николай Алексеевич хмурится и отколупывает, не глядя, кусочек краски от древка винтовки, висящей на плече.
— Этот не выглядит опасным. — качает головой в сторону рядового Ивушкин, пытаясь вспомнить, видел ли он кого-нибудь из этих двух человек, когда был в Берлинском штабе. Мозг подсказывать отказывается. — Зачем вытащили?
— А, — ухмыляется Сергей Евгеньевич. — Этот из Гитлерюгенда. Недавно шевроны сорвали. Баба к нему пришла. Ушлая прошмандовка. Потом меня позвали наши, поэтому и его выволокли, как участника заговора. Ивушкин поджимает губы — в мозгу мелькают красочные, обрывистые картины; буквы, расплывающиеся по страницам дневника; смазанное улыбчивое лицо, монотонно вычерченное чернилами. «Я точно его знаю.» Завидев Александра, Неверов вдруг теплеет, улыбается мягко. — Ох, вас даже двое. Того лучше. — Сергей Евгеньевич снимает с плеча ружье и передает его Александру. — Держи. Поможешь товарищу.
— Может все-таки позвать полковника Завьялова? Такое дело серьёзное. Ты же знаешь, мы не можем сами выносить приговоры и производить карательные акции, у нас, как у солдат, нет полномочий. — уже собиравшийся уходить Неверов, прищуривается, хмурится от явного недовольства, из-за того, что с ним о чем-то спорят.
— Не думай даже противиться приказу майора Серого, лейтенант. Ты советский человек или диверсант? Забудь про суд, они не заслужили такого отношения. Ты как дурак, заступаешься еще за этих собак, которые сами с радостью выпустили бы кишки и мозги из твоего тела, окажись ты у них. Будь моя воля — расстрелял бы всех. Насвистывая себе что-то под нос, солдат оттаскивает девушку в угол, небрежно кидая ее спиной на пол и с улыбкой выходит из пункта, как и все бывшие штрафники, помазанный кровью, скрепленный общей порукой. Александр, стоит двери закрыться, бросается к девушке и приподнимает ее за плечи, аккуратно подтаскивая к стене, чтобы прислонить. Николай Алексеевич собирается подблагодарить неожиданно смилостивившегося над невинной товарища, как его порыв прерывают. Оберштурмбаннфюрер роняет на едва виднеющуюся из-за расстегнутого ворота, местами фиолетовую от гематом грудь голову, совершенно задыхаясь от смеха, не обращая внимание на то, что заплывший кровью глаз начинает судорожно подергиваться, а вспухшие от ударов губы едва шевелятся, отчего звучит едва отличимый от стонов шепот с придыханиями и причмокиваниями:
— Kolya, verdammt, wir haben dich endlich wieder getroffen. Erinnere dich daran, als ich dich in der Nähe von Moskau erschoss, ich wünschte, du wärst gestorben, du müsstest dich um größere Gnade herumreißen, aber du musst zu viel Glück haben, wenn ich mich für etwas von dir ablenke. Ich weiß alles, du bist es, der dieser Idiot Jager ist, den ich so leicht entfernt habe. Nun, es ist okay, Jager ist gestorben, du wirst ihm bald folgen, glauben Sie mir, die Offensive unserer Großen Armee wird nicht lange dauern. Neue, effektivere Divisionen wurden im Reich versammelt und besetzt, und sehr bald werden sie nach Osten in eure Heimat ziehen, wenn ihr so etwas wisst, Fag. /Коля, блять, наконец снова встретились с тобой. Помнишь, как тогда, под Москвой, я в тебя выстрелил, жаль ты не сдох, нужно было изрешетить тебя, для пущей благодати, но, видно ты чересчур везучий, раз на что-то я от тебя отвлекся. Я все знаю, это по тебе сох этот идиот Ягер, которого я так легко сместил. Ну ничего, Ягер сдох, ты за ним скоро последуешь, уж поверь, наступление нашей Великой армии не заставит себя долго ждать. В Рейхе собраны и укомплектованы новые, более эффективные дивизии и совсем скоро они выдвинутся на восток, на твою Родину, если тебе, пидор, такое понятие известно./ — Николай вздрагивает, по коже пробегает табун ледяных мурашек, ноги, не слушаясь, дергаются назад, в сторону выхода, зеленые жгучие глаза на мгновение вспыхивают. «Откуда.Он.Знает? Александр бывший пленник, штрафник, немецкий знает не хуже меня, наверняка же поймет, что говорит этот гад и тогда мне не избежать раздражающих расспросов. Посадят еще правда с ними в одну клетку, как предателя.» — мысленно огрызается Николай Алексеевич, параллельно торопливо перебирая в голове имена людей, которые имели с герром Ягером хотя бы малое знакомство и носили, пусть и лишь сейчас столь высокое, но и тогда гордое звание офицера СС. На ум приходит лишь одно: Ганс. Та самая редкая сволочь, идейность и сумашествие которой стали виной гибели многих хороших солдат, в их числе и Вольфа, и косвенно самого даже Клауса.
— Hans, bitte schließe den Mund. Niemand schien dich zu fragen, und du wirst deinen Zellengenossen von deinen sexuellen Vorlieben erzählen, wenn du von hier aus in ein Konzentrationslager fliegst. /Ганс, будь добр, закрой рот. Тебя вроде никто не спрашивал, а о своих сексуальных предпочтениях расскажешь сокамерникам, когда отсюда отлетишь в концентрационный лагерь./ — глухо отрезает Ивушкин, видя, с каким удивлением на него смотрит бывший солдат штрафбата.
— Ты его знаешь, Ивушкин? — тихо спрашивает Александр, переводя на Николая Алексеевича взгляд больших, серых глаз. Ивушкин сжимает скрытно зубы, не отвечая на вопрос: по правде и ответить-то ему нечего, о своих бывших связях с немцами ведь сильно распространяться нельзя. Табу.
— Warum bist du so düster, Kolya? Du willst nicht mit mir reden, du schnappst. Jager beschwerte sich viel über mich und meine Vermutung und gab sie dir auf dem Tisch, auf dem Boden, wo sonst gibt es sie? Ist er wirklich so müde von dir mit mir? Eigentlich hat er viel über mich gesprochen, während du gefickt hast? Ich muss gesagt haben, dass ich wirklich gerne die Stirn runzeln würde, aber es hat nicht geklappt? Ich habe es durchschaut. Oder er könnte sagen, dass er die Tage der Front verpasst, als er von starken, nordischen Männern umgeben war, die glücklicherweise nicht seiner Propaganda erlagen und das Vaterland nicht gegen Scheiß eintauschten. /А чего ты такой смурной, Коля? Говорить со мной не хочешь, огрызаешься. Ягер на меня и мою догадливость много жаловался, отдаваясь тебе на столе, на полу, где там еще? Неужели он так тебе со мной надоел? Вообще, много он обо мне говорил, пока вы ебались? Небось говорил, что очень хотел бы меня охмурить, да не вышло? Я же раскрыл его замыслы. Или может рассказывал, что скучает по фронтовым денькам, когда его окружали сильные, нордические мужчины, которые, благо, на его пропаганду не поддались и не променяли Отечество на еблю./ — Ганс злобно ухмыляется, видя, как на лице Николая Алексеевича в мгновение рвано дергается мышца, а руки уходят за спину. «Бьет по больному, свинья.» Николай, ощущая как сильно и болезненно розовеют, совсем горят щеки от стыда, смешанного со злостью, как отбиваются сердечные удары в области висков, почти машинально делает шаг вперед и с силой ударяет Вайса по щеке ладонью, а потом еще раз, но по другой: из носа офицера немного медленно, постепенно преодолевая носовые ходы, перегородку, начинает капать на пол кровь. Ганс сплевывает на пол сгусток крови вместе с зубом. — Scheiß auf, du hast mir den Zahn ausgeschlagen. /Блять, ты мне зуб выбил!/ И вот, наступает страшное. Александр наконец понимает, что именно Гансом было сказано, отчего глаза его расширяются пуще прежнего, а рука наощупь хватается за ремень ружья.
— Это он про тебя говорит? Ты с кем-то из них?.. — серые глаза наливаются ядом, Ивушкин приподнимает голову, собираясь словесно обороняться, как вдруг:
— Hans schauen. Sich seine Uniform an, die Schultergurte wurden kürzlich abgerissen, als ob Sie nicht wüssten, dass die Essovites bereit sind, einen Freund für ihren Rücken zu töten. /Ганс лжет. Вы посмотрите на его форму, погоны жаль сорвали недавно. Как будто не знаете, что эссесовцы ради своей задницы готовы и друга убить./ — неожиданно довольно твердо для своего слабого состояния говорит рядовой, почти сразу закашливаясь, пытаясь немного подвигать руками, чтобы веревки не сдирали до костей нежную кожу.
— Walter, ich habe nicht bemerkt, dass du angesprochen wurdest. Ich spreche mit Kolya, und du kommst rein, es ist nicht kultiviert. /Вальтер, не заметил, чтобы к тебе обращались. Я говорю с Колей, а ты влезаешь — некультурно./ — ехидно улыбается Вайс. Николай переводит на юношу взгляд и осторожно касается ладонью его локтя, отмечая, что глаза солдата в самом деле реагируют, значит это не безумный бред, а осознанные слова защиты. Только почему? «Вальтер.. Это имя точно было где-то. Я знаю этого человека. Он еще и понимает русский. Очень странно. Неужели в Германии учил его намеренно? Врядли такому обучали всех в школе, Ганс ведь почти не понимает меня, хоть и, по словам Клауса, учился в элитной воисковой школе.» — Oh ja. Du, ja, du. Ich lüge überhaupt nicht. /Ах да. Ты, да ты. Я вовсе не лгу./ — Ганс, сплюнув кровь на пол, обращается теперь к Александру. Видимо, осознав, что Вальтер отвечал именно ему, Ганс понял, что Александр немецкий знает, а потому решил через него надавить, быть может какой у них с Ивушкиным выйдет конфликт. «Весело на драку будет посмотреть.» — Ich sage nur die Wahrheit über Ihren Kohl und unseren ehemaligen großen Helden, einen SS-Offizier und jetzt einen offiziellen Verräter und Feigling, Klaus Jager. Grim, der Jager wegen Obszönitäten erschoss, wurde auf unser Kommando bald aus dem Wartezimmer entlassen, weil die schmutzige Essenz des ehemaligen Helden aufgedeckt wurde. Also keine Sorge, Kolya, unser Großes Reich macht sich keine Illusionen mehr über Ihre Geliebte, ein solcher Abschaum darf nicht mehr dienen, eine strenge Auswahl ist in der SS und sogar in der Wehrmacht festgelegt. Menschen wie du werden erschossen. Also, Kolya, du solltest besser nicht gefangen genommen werden, oder Herr Dervis wird dir diesen ganzen Unsinn aus dem Weg räumen, du wirst nicht vor deinem Tod davonlaufen. /Я всего-то рассказываю правду о вашем Коле и о нашем бывшем великом герое, офицере СС, а ныне официальном предателе и трусе — Клаусе Ягере. Грима, который за непотребства Ягера подстрелил, наше командование выпустило довольно скоро из камеры ожидания, потому что поганую сущность бывшего героя обличили. Так что не волнуйся, Коля, больше в нашем Великом Рейхе не имеют иллюзий насчет твоего возлюбленного, таких подонков не допускают до службы более, в СС и даже в Вермахт установлен строгий отбор. Таких как вы — отстреливают. Поэтому, Коля, лучше тебе не попадать в плен, а то герр Дервис выбьет из тебя током всю эту дурь, тебе уже никуда будет от своей смерти не убежать./ — Ганс снова заливается смехом, за что получает сильный пинок по ноге сапогом от Николая, отчего скручивается, шмыгает носом, сильно кусая вспухшую губу. Александр, отмечая в голове каждое сомнительное слово, с подозрением щурится в сторону Ивушкина.
— Sie sehen /Видите/, — снова добродушно встревает Вальтер, смотря на Александра, — Er verunglimpft seine eigenen und andere. Das liegt in der Natur. Was glaubst du, dass er zur SS gegangen ist? /он и своих и чужих поливает грязью. Натура такая. Чего, думаете, пошел в СС?/ — Александр в ответ на это лишь поджимает губы и отходит чуть поодаль. В груди мечется испуг, перемешанный со злостью и непониманием. «Стоит ли говорить Завьялову об этих серьёзных обвинениях в сторону лейтенанта? Или немецкий гаденыш вправду лжет? А другой защищает. Почему?»
— Zunächst einmal kann man nicht schlecht über die Toten reden, Hans, du bist ein Anhänger der Tradition, und du brichst eines der wichtigsten. Zweitens, folgen Sie Ihrem Beispiel, wenn nicht genug im Lager zu solchen Kontakten überredet wird, und Sie haben lange Zeit keine Frau gehabt. Schau, wie sehr der Körper versagt, Hans. /Во-первых, нельзя плохо говорить о мертвых, Ганс, ты ведь последователь традиций, а теперь нарушаешь одну из самых важных. Во-вторых, будь аккуратнее, у тебя ведь давно не было бабы, а когда ты окажешься в лагере, тебя будут принуждать к подобному контакту. Смотри, как бы тебя тело не предало, Ганс./ Ганс наконец соизволяет замолчать, видимо от того, что место, где ранее был зуб, начинает нестерпимо болеть, потому Николай Алексеевич оборачивается к Александру, который, теряясь в размышлениях, отстраненно вертит в руках данное ему Неверовым ружье.
— Не смотри так на меня. — Александр качает головой, одевая ружье обратно на плечо, облокачиваясь плечом на кирпичную стену, а затем, бросает несколько быстрых взглядов на приходящую в себя девушку. — Я и сам жду полковника. Я ничего делать не буду, не мне был дан приказ. — Александр подходит к девушке, которая сдавленно стонет, обхватывая голову руками. — Я посижу с ней. — глухой тон напарника Николая Алексеевича немного напрягает, но он решает не нагнетать раньше времени, быть может Александру в самом деле все равно.
— Спасибо. Николай мягко улыбается Александру дрожащими губами, и возвращается к повторяющейся мысли, пытается на ней соседоточиться: «Вальтер..» — мелькает то и дело в голове у Николая, но как будто самое главное ускользает, заплывает туманом, дымом, чем бы там ни было еще. Ивушкин морщится, когда ощущает, как болью скручивает живот и голову начинает вести в сторону: хоть Александр и проявил необходимую сейчас пассивность, показал, что мешать не собирается, отвлекся на девушку, а все равно страшно сейчас перед ним проболтаться, (мало ли до кого весь этот немецкий диалог через него потом дойдет), оступиться, ведь потом будет очень трудно отвести от себя подозрения. А дневник надо сохранить. «Вальтер.. Вальтер.. Вольф! Письмо. Клаус же писал о племяннике. По взглядам сходятся. Лицо.. Клаус рисовал лицо.. Похожи. Боже мой, неужели этот мальчик его родственник?» Николай Алексеевич несколько минут рассматривает и трогает веревки, которыми связаны руки юноши, после чего наконец находит нужные узлы и, немного раскровив от напряжения свои пальцы (с ножом было бы проще, но ножа нет), наконец развязывает его, авансом, а после тихо спрашивает: — Junge, du kennst einen solchen Wolfs Hühner? Antworte einfach ehrlich. Und sag, unter wem er gedient hat, also glaube ich nicht, dass du betrügst. /Юноша, ты знаешь Вольфа Хайна? Только отвечай честно. И скажи, под чьим командованием он служил, чтобы я не подумал, что ты обманываешь./
— Narr, Walter, sag diesem russischen Schwein nichts. Oder er wird dich auch korrumpieren. /Дурак, Вальтер, не говори этой русской свинье ничего. А то он и тебя развратит./ Ивушкин, оскаливаясь, сильно пинает Ганса ногой в живот, а потом, придерживая рукой спинку его стула, отвешивает нацисту еще одну звонкую пощечину, отчего на щеке Ганса расцветает новый фиолетовый синяк, поверх старого буро-зеленого, а с крыла носа на пол капает несколько красных капель.
— Habe ich dir nicht gesagt, dass du still sein sollst? Ich bin dabei, dich zu erschießen, und es ist mir egal, wie viel mir der Volkshof für meine Willkür gibt. Parasiten wie Sie sollten überhaupt nicht existieren, geschweige denn auf unseren Lohn. /Я тебе не ясно сказал замолчать? Я тебя сейчас застрелю и мне все равно, сколько народный суд даст мне за своеволие. Паразиты вроде тебя не должны существовать вообще, а тем более на наши налоги./ — злобно рычит Николай Алексеевич, снимая с плеча винтовку и дергая на себя затвор.
— Ist das Leben ohne Jager nicht süß? Gibt niemand? Wenn Sie hart fragen, kann ich Walter bitten, Ihnen sein Mädchen zu leihen. Oder möchtest du vielleicht, dass ich dich wegbringe? Vielleicht liege ich falsch, vielleicht ist es nicht Jager, der mir einen Tag lang einen Tag gebissen hat, sondern du? Nochmals, wenn Sie gut fragen, wird vielleicht etwas herauskommen. Nur bin ich kein Rotz wie Jager, ich werde nicht auf Zeremonie stehen, damit du dich auf Trennungen vorbereiten kannst. Es tut mir nicht leid für Abschaum. /Без Ягера не мила жизнь? Никто не дает? Если ты сильно попросишь, то я могу попросить Вальтера, он одолжит тебе свою девочку. А может ты хочешь, чтобы я тебя отымел? Может я ошибаюсь, может не Ягер давалка, а ты? Опять же, если попросишь хорошо, то быть может что-то да выйдет. Только я не сопливый слизняк, как Ягер, я не буду церемониться, поэтому можешь приготовиться к разрывам. Я подонков не жалую./ По напряженному лицу Ганса, которое тот правда растягивает в насмешливой улыбке, стекает пот: капля за каплей, собираясь где-то на подбородке, а спина все сильнее ноет, находясь в одном, ужасно неудобном положении.
— Ich habe dich gewarnt, ich werfe mich nicht mit Worten in den Wind. /Я предупреждал, словами на ветер не бросаюсь./ — Ивушкин качает головой, взводит курок, прицеливается и стреляет Гансу в голень, примерно в нижную головку большеберцовой кости. Молодой человек выкрикивает проклятие и резко дергается, однако связанные руки не дают никак заткнуть рану, из которой начинает толчками вытекать темно-красная кровь, впитываясь во влажные от сырости в здании половые доски. — Warum lachst du nicht? Wollten Sie schon? Ich dachte, ich hätte dir oft in deiner Hundesprache gesagt: Float. mein eigener, verdammter Mund. Wie lange musste ich das noch wiederholen? Versuche einfach zu sterben, bevor der Befehl eintrifft. Ich werde dich nicht sterben lassen, du wirst leiden wie Grim vor dir. /А чего не смеешься? Уже перехотелось? Я тебе вроде на твоем собачьем языке сказал много раз: завали.свой.чертов.рот. Сколько мне еще это нужно было повторить? И только попробуй сдохнуть до прихода командования. Я тебе умереть не дам, ты будешь мучиться, как до тебя мучился Грим./ Ивушкин снимает с себя армейскую куртку, которой довольно быстро заматывает Гансу ногу, чтобы хотя бы частично предотвратить дальнейшее кровоизлияние.
— Du bist ein echter Nussfall! Ein kompletter Psychopath! /Ты вообще псих! Конченный психопат!/ — Николай Алексеевич довольно улыбается, слыша, как учащается дыхание Ганса, он даже дергает руками и неповрежденной ногой в нервном тике.
— Hans, glaubst du, du wirst ausbrechen? Glaubst du, du wirst weglaufen? Grim dachte dasselbe und starb einfach unter mir wie ein Hund. Ich zerriss ihn, entehrte ihn, schnitt ihm dann die Finger ab, riss ihm dann die Augen aus, schoss ihm dann mit Kugeln auf, schnitt ihm dann ein Hakenkreuz auf die Stirn und erschoss ihn dann. Weißt du, wie er heulte? Du hast nie davon geträumt. Und das ist es, was dich erwartet, wenn du mich wütend machst. Vergiss nicht, Hans, du bist auf meinem Land, ich kann dir alles antun, weil du ein Nazi bist, und das Gericht wird mich freisprechen. Er wird für dich freigesprochen. /Ганс, думаешь вырвешься? Думаешь убежишь? Грим думал так же, только сдох подо мной как собака. Я его разорвал, обесчестил, потом отрезал ему пальцы, потом вырвал глаза, потом оторвал оба уха, потом перебил пулями колени, потом вырезал свастику ему на лбу, а потом застрелил. Знаешь как он выл? Тебе и не снилось. И тебя это ждет, если выведешь меня из себя. Не забывай, Ганс, ты на моей земле, я могу с тобой сделать все что угодно, потому что ты нацист, и суд меня оправдает. За тебя — оправдает./ — видимо на Вайса угрозы действуют, потому что, пожевав еще с секунду свои опухшие губы и явно что-то пробурчав под нос, Ганс снова замолкает, выдает его злость только вены, вздувающиеся на разукрашенной бурыми синяками шее. — Bitte,.. Junge? — снова обращается к рядовому Ивушкин.
— Er ist mein Großonkel. Und er diente unter Klaus Jager. /Он мой двоюродный дядя. А служил под началом Клауса Ягера./ Николай Алексеевич, осознавая, отступает на шаг. — Ich bin gegen Krieg. Mein Vater, Zepp, hat viel mit mir darüber gesprochen. Ich wurde gewaltsam in die Hitlerjugend aufgenommen, ich konnte nicht anders, als zu gehen, mein vierzigster Vater wurde dafür erschossen. Katen'ka kam zu mir, obwohl sie Serbin ist, aber ich bin ihr. Und sie... sie auch... Wirst du ihr helfen? /Я против войны. Мой папа, Зепп, со мной много говорил об этом. Меня насильно записали в Гитлерюгенд, не пойти я не мог, в сороковом папу за это расстреляли. Катенька пришла ко мне, хоть она и сербка, но я ее.. И она..она тоже.. Вы ей поможете?/ Николай согласно качает головой и криво, но по возможности мягко, улыбается Вальтеру. «Такие люди даже для агитационной деятельности очень нужны, они ведь являются живым примером — не все немцы сошли с ума, не все доверились пропаганде, многие из них сохранили сознание или приобрели его в процессе войны, как..Ягер.» — лицо Ивушкина снова резко темнеет, лицевая мышца дергается.
— Walter, Walter, wie kannst du dich nicht schämen? Sie wenden sich an diese Reptilien, die Sie gefangen genommen haben, die für den Tod Ihres Vaters verantwortlich sind, die unseren Staat zum Kampf gezwungen haben, die unsere Brüder töten. Hast du gehört, was dieser Verrückte mit Grim gemacht hat? Hast du gesehen, was er mir angetan hat? Glaubst du wirklich, dass etwas anderes auf dich wartet? Glaubst du, dass diese Tiere mit so etwas wie Mitgefühl und Mitleid vertraut sind? /Вальтер, Вальтер, как тебе не совестно? Обращаешься за помощью к этим гадам, которые тебя взяли в плен, которые виноваты в смерти твоего отца, которые вынудили наше Государство воевать, которые убивают наших братьев. Ты слышал, что этот псих сделал с Гримом? Ты видел, что он сделал со мной? Ты правда думаешь, тебя ждет нечто иное? Думаешь этим животным знакомо нечто вроде сострадания и жалости?/ — протягивает саркастически гласные Ганс, сплевывая с губ накопившуюся кровь. Николай Алексеевич снова дергает с плеча винтовку, но потом вдруг в его голову приходит зловещая мысль, Ивушкин надевает оружие обратно, и, довольно усмехаясь, даже как-то слабо пинает Ганса по здоровой ноге.
— Hans, wenn es dir im anderen nicht gelingt, lerne zumindest zu verstehen, dass du nicht selbst urteilst. Sie haben Angst, Sie haben Angst, dass Sie genauso behandelt werden wie alle sowjetischen Soldaten, als Sie als Besatzer auf unserem Land waren. Ich habe dich verstanden. Mach dir keine Sorgen, Hans, ich werde sein, was du willst, ich werde dein Leben ruinieren. Walter, fürchte dich nicht vor der Hauptsache. Du wirst nicht getötet werden. Ich werde für dich bürgen, wenn ich es brauche. Achten Sie darauf, dem Befehl alles zu sagen, was Sie mir gesagt haben. Bitte halte dich von Hans fern, du weißt, dass er für diese Großonkel Tod verantwortlich ist, oder? /Ганс, если в другом не преуспел, научись хотя бы понимать, что по себе не судят. Ты боишься, боишься, что с тобой поступят также, как поступал ты со всеми советскими солдатами, когда был на нашей земле в роли оккупанта. Я понял тебя. Не переживай Ганс, я стану таким, как тебе хочется, я тебе испорчу жизнь. Вальтер, ты главное не бойся. Тебя не убьют. Я за тебя поручусь, если будет нужно. Обязательно расскажи командованию все то, что мне сказал. Только пожалуйста, держись от Ганса подальше, ты же знаешь, что он виноват в смерти твоего дяди?/ — Николай поправляет съехавшие на лоб шатеновые волосы, промакивает щеки вынутым из шаровар платком, отмечая внимательным взглядом, как, борясь с сомнениями, все-таки косится на Вайса подозрительно Хайн.
— Halt die Klappe, Russisch. /Заткнись, русский./ — теперь уже Ганс отрезает сухо, переставая дергаться: раненая нога онемела, а подлая душонка, видно, вдруг испугалась, что ее пригрешения станут известны, что за собственную бесшабашность придется отвечать перед множеством людей, которые от нацисткой идейности пострадали.
— Ich weiß, dass du eine Idee bist, Hans, und du kannst alles von dir erwarten, aber du hast mir nie gesagt, dass du mit meinem Onkel gedient hast und du von seinem Tod weißt. Ich fragte. Ich dachte, du würdest nicht darauf eingehen, um über deine Familie zu lügen. /Я конечно знаю, что ты идейный, Ганс, и от тебя можно ожидать чего угодно, но ты мне никогда не говорил, что служил с моим дядей и знаешь о его гибели. А ведь я спрашивал. Мне казалось, что ты до такого не опустишься, чтобы лгать про родных людей./ — Вальтер скалит зубы в сторону Ганса, который, потупив глаза, все еще что-то бормочет себе под нос, и переводит заинтересованный взгляд серых глаз на Николая. — Können Sie mir bitte mehr sagen? /Расскажете по-подробнее, пожалуйста?/ Николай Алексеевич подходит к Вальтеру, чуть наклоняется и шепчет что-то на ухо, после чего Хайн поникает, роняет на грудь голову. Ивушкин осторожно треплет юношу по волосам и также шепчет:
— Es tut mir leid, Sonnenschein. Dein Onkel und dein Vater, die wie du die richtige Seite eingenommen haben, sind die Besten, das weißt du. Wolff konnte den Krieg einfach nicht überleben. Ich verstehe, wie schrecklich das ist, aber ich bin sicher, dass er gerne wissen würde, dass du am Leben bist. /Прости, солнышко. Твои дядя и папа, вставшие на правильную сторону, как и ты, самые лучшие, ты же это знаешь. Вольфу на войне было просто не выжить. Я понимаю, как это ужасно, но я уверен, он был бы рад знать, что жив ты./ После, Николай разгибается, подходит к Гансу, который определенно волнуется. По его дрожащим пальцам и серьёзному выражению лица сразу становится понятно: нацист очень пытался услышать, что же такое Ивушкин его вынужденному сокамернику сказал, чтобы понять, как это может отразиться на его будущем заключении. — Was sticht Hans wirklich in die Augen? Erzähle Walter in deiner Freizeit, wie du seinen Onkel dazu gebracht hast, Menschen aus eigener Laune heraus zu töten. Wie Wolff wegen deines Drucks gezwungen wurde, sich umzubringen. Es ist gut, dass du immer noch im selben Lager bist, du wirst viel zu besprechen haben. Sei nur vorsichtig, Hans, dass die Verwandten derer, die du direkt oder indirekt mit deinem Nazismus getötet hast, dich nachts nicht treten. /Что Ганс, правда режет глаза? Расскажешь на досуге Вальтеру, как ты заставил его дядю убивать людей по собственной прихоти. Как Вольф из-за твоего давления был вынужден себя убить. Хорошо, что вы пока в одном лагере, вам будет о чем поговорить. Только берегись, Ганс, как бы родственники тех, кого ты прямо или косвенно убил своим нацизмом, не забили тебя ночью ногами./ — Вайс оскаливается, более не имея настроения подшучивать. Медленно, но верно приходит понимание: Вальтер этого не простит. Такой изменник как он, готовый за предателей умирать, убьет, не моргнув глазом, потому что считает его — Ганса, неправильным. Дурак.
— Nichts, Schwein, ich bin derjenige, der noch in Ihrer Gefangenschaft ist, und dann werde ich fliehen, zurück zur SS gehen, und wir werden Ihre wilden Dörfer mit neuen Spaltungen überfallen, alles niederbrennen: Häuser und Menschen, und dann einen Lebensraum auf Ihren Feldern für unser schönes deutsches Volk organisieren. /Ничего, свинья, это я пока у вас в плену, а потом я сбегу, вернусь в СС и мы с новыми дивизиями нагрянем на ваши дикарские села, сожжем все до тла: дома и людей, а потом организуем на ваших полях жизненное пространство для нашего прекрасного немецкого народа./ Ивушкин тяжело вздыхает, бросая быстрый взгляд на замотанную ногу Ганса, а после снимает с нее свою куртку: кровь практически остановилась, правда коричневатая ткань пропиталась ею до бурого состояния, что не хорошо, но зато не придется оправдываться перед командованием, пол ведь кровью почти не заляпан. Вайс кривит лицом, морщится и шипит от неприятной ссаднящей боли.
— Hans, du bist völlig unlehrbar. Okay, dir ist vergeben. Jetzt wird der Befehl kommen, ich werde Ihnen sagen, dass Sie versucht haben, mich zu töten, und so habe ich Ihnen versehentlich ins Bein geschossen, obwohl ich es nicht so sehr wollte, Sie haben mich wie ein Tier angegriffen, und Sie werden von unserem normalen Lager an einen widerlichen, faulen Ort fliegen, wo Sie wie ein Schwein behandelt werden. Es wird viele Leute geben, denen du den Weg getreten bist, das verspreche ich dir. Du wirst nicht so gut und sanft sterben. Du wirst langsam verrotten, verhungern. Du wirst deine Organe, dein Blut ausschalten. Du wirst nicht in deine Heimat fliehen. Ihr werdet sterben, wie alle Besatzer, die es wagten, in unser Land und unsere Bürger einzudringen. Aber du wirst langsam sterben. Sehr langsam. Dann wirst du mir danken und dich an mich erinnern. Herr Jager, anders als Sie, starb schnell, litt nicht. Und du wirst für alle leiden. Dein Zorn wird dich auffressen. Mach dich bereit für neun Kreise der Hölle, Schwein. /Ганс, ты совершенно необучаемый. Ладно, тебе простительно. Сейчас придет командование, я расскажу, что ты пытался меня убить и поэтому я тебя нечаянно ранил в ногу, хотя так сильно этого не хотел, ты на меня как зверь набросился, и ты отлетишь из нашего нормального лагеря в отвратительное, гнилое место, где с тобой будут как со свиньей обращаться. Там будет много людей, которым ты перешел дорогу, я тебе это обещаю. Ты не умрешь так хорошо и мягко. Ты будешь медленно сгнивать, высыхать от голода. Ты будешь выблевывать из себя органы, кровь. Ты не сбежишь на родину. Ты сдохнешь, как и все оккупанты, посмевшие позариться на нашу землю и наших граждан. Но умирать будешь медленно. Очень медленно. Потом будешь меня благодарить и вспоминать. Герр Ягер, в отличие от тебя, умер быстро, не страдал. А ты за всех отстрадаешь. Твоя злоба тебя сожрет. Готовься к девяти кругам ада, свинья./ Николай, сплюнув, отходит от Вайса, одевая на плечи свою куртку, а сверху закидывает винтовку, а после слышит, как открывается дверь и в нее врывается Алексеев вместе с полковником Завьяловым и еще несколькими офицерами.
— Что тут за экзекуция над пленными без моего ведома? Кто подумал, что имеет право отдавать такой приказ? Кого с ними в одну клетку посадить? — сурово басит полковник. — Развяжите этих. — указывая на немецких военопленных, приказывает мужчина пришедшим с ним офицерам. — И девчонку там поднимите, а то она помрет сейчас. В чем тут у вас дело, младший лейтенант Ивушкин?
— Здравия желаю, товарищ полковник! Позвольте доложить? — Завьялов отрывисто кивает. — Когда я чистил винтовку с утра, ко мне подошел майор Андрей Андреевич Серый и приказал мне расстрелять этих пленных немцев, не объясняя по какой причине. Я его спросил, есть ли соотвествующее распоряжение суда. Он мне сказал, что это не моего ума дело и я обязан исполнить приказ, иначе снова окажусь в штрафбате и никогда меня не допустят до обычной жизни. Убить людей без вашего приказа не мог. За невыполнение приказа майора я готов отвечать по всей строгости военного закона.
— Я принял ваш рапорт, товарищ младший лейтенант. Алексеев, видя, что командир части с недоверием смотрит на Николая и супит брови, тихо прося что-то записать в тетради подошедшего с девушкой-сербкой на руках своего приближенного офицера, решает вступиться за друга:
— Товарищ командир, позвольте добавить? При моих друзьях Ивушкин не так давно без сожаления расстрелял отъявленного гада, Вальтера Грима, штандартенфюрера СС. — отточенно, четко бросает Павел. — Он столько с нами служит и никогда не давал повода для недоверия, не предавал сослуживцев, не избегал ответственности, выполнял приказы командования во благо спасения своей Социалистической Родины от нацисткой заразы. Командир части, с заметными проблесками гордости в глазах, слабо улыбается и отходит от Николая Алексеевича.
— Я принял ваш рапорт, Алексеев. Вас, Ивушкин будут судить, хоть закон вы и не нарушили. Приказ майора по уставу должен был быть выполнен, однако вы поступили верно, что обождали и не совершили невозвратного. С немцами разберитесь, приведите в порядок и верните в лагерь. Суд будет потом. Сегодня мы должны продвинуться на север вдаль, за линию фронта, так что вы и ваш напарник, — командир части указывает рукой в сторону Александра, который, находясь в небольшом оцепенении от произошедшей перепалки между Ивушкиным и немецкими пленными, не желая во все это лезть, рассматривает свои истертые, мозолистые ладони, — возвращайтесь в казармы и готовьтесь к бою. Офицер выносит девушку-сербку на воздух. Николай, стирая ладонью пот со лба, более спокойно выдыхает. Пронесло.
Причинами становления командира части на сторону Ивушкина, как предположил сам Николай Алексеевич, явились множественные приводы Андрея Андреевича Серого по вопросам бессердечного отношения к пленным; часто изъявляемое им желание решать все самостоятельно, игнорируя постановления свыше, (проще говоря, самоуправство); а также, о чем минуту назад было сказано: убийство Ивушкиным без задней мысли Вальтера Грима. Благодаря плохой репутации Андрея Андреевича и невозможности подумать на Николая Алексеевича, как на предателя, имея во внимании его мужественный побег из плена (не на танке, и не из лагеря, а просто "с той стороны"), постоянные, смелые вылазки за линию фронта для массированных, молниеносных атак и множественные награды за храбрость — Николаю верят. Только вот ни Алексеев, ни Андрей Андреевич, ни Завьялов, ни командование в целом не знают и не узнают, что Грима Николай расстрелял с чистой ненавистью в сердце, не потому что Грим — нацист (но и за это тоже), а потому что он был единственным и непосредственным исполнителем убийства Клауса Ягера. Когда военный трибунал лагеря «Заксенхаузен» подтвердил, что Вальтер Грим является убийцей на тот момент еще доблестного воина, героя Третьего Рейха, штандартенфюрера СС — Клауса Ягера, и сделано это было из зависти, от желания забрать его звание себе, Николай, находясь со своим танком и экипажем уже на территории Польши (новость вычитал в местных газетах, потому что Польша была под протекторатом нацисткой Германии), поклялся себе, что Вальтера найдет и разберется с ним. (Как именно — еще не думал.) Николай Алексеевич о причастности Грима к этому делу и его вине был осведомен еще с 30 апреля прошлого года и в последние месяца два, (когда в полной степени осознал, кого именно он потерял в лице Ягера), вынашивал настоящий план по выманиванию и поимке нацисткого преступника, который не понадобился: Вальтера, восстановленного в звании штандартенфюрера СС (видно после признания Клауса Ягера предателем и изменником, о чем говорил Ганс Вайс) и прощенного судом по той же причине, в самом конце 1943 года, привели к советской части №212 укранские партизаны, а командование отдало Николаю Алексеевичу простой и столь желанный приказ: расстрелять.
***
К позднему вечеру, после более чем успешно проведенного дневного боя под селами Ленинграда, фашисты оказались отодвинуты аж на 15 км вверх, к Выборгу, который, как и Карелию целиком тоже предстояло освобождать и были полностью прогнаны из Ленинграда. Блокада была снята! В честь этого знакомые Ивушкина из танковой дивизии не смогли себе отказать в удовольствии, выпить и отпраздновать знаменательное событие. Теперь стало понятно почти всем: совсем скоро нацисткая Германия падет, а война на уничтожение закончится, Красная армия освободит Европу и окончательно раздавит гадину в ее логове. Ивушкин и сам закидывает в раздраженное горло стопку за стопкой со слезами на глазах — как такое не отметить? Брат одного из сослуживцев Ивушкина, Семён Дмитриевич Алексеев, наслаждаясь довольно привычным на фронте ощущением развязанного алкоголем языка, после опрокинутой стопки, счастливо пихает Николая Алексеевича локтем в бок.
— Братан, а хорошо..вы.. вы с Пашей.. сегодня..этих..ну.. хаха, фрицев..— Семён закрывает руками лицо, заходясь в заливистом, немного от икоты отрывыстом смехе, чуть склоняясь к собственным коленям, а затем стирая ребром ладони брызнувшие с глаз слезы. — Он мне рас..сказал. Жаль, я был..не с вами.. А он..сказал, в..в стороне.. стоял.. А то..рас-с-с-стрел.., — запнувшись посередине слова, наконец выплевывает из себя неприятную фразу Семен Дмитриевич, качая головой, словно внутри себя совсем не соглашается с данным приказом комиссариата СССР. — Я бы..на ег-о месте.. их всех.. уб-ил.
— И правильно. Расстреливают ведь исключительно за действия, противоречащие основным нормам морали и нравственности. За то, что наших же солдат разлагает. — более твердо и сурово отрезает выпивший лишь две стопки, и то ради приличия, Петр Кириллович Васильев, — командир пехотной роты, имеющий, благодаря своей стальной выдержке и справедливому отношению ко всем без исключения, хорошие отношения с коммисаром соседней воинской части №301. — После принятия этого приказа хотя бы меньше насилия в воинских частях стало, а то непонятно было, чем мы лучше, нравственнее оккупантов? Алексеев как-то нелицеприятно морщится, замолкая лишь потому, что желудок, скручиваясь, подсказывает о скорой необходимости из себя все выводить оральным способом. — Кривись сколько влезет. — на лице Васильева появляется слабая, но гордая улыбка. — Брат у тебя понимающий. Не могут люди, создающие и одобряющие подобные ценности насилия и жестокости, освободителями называться. У каждого должна быть мало-мальская честь. Если наши враги отнеслись к нам и нашим людям по-свински, то нам, напротив, лучше бы теперь отвечать с должной гуманностью, не ввязывая в армейские разборки мирных жителей, чтобы обличить мерзкое нутро оккупантов перед, в будущем, Европой, их же народом, а сейчас — перед теми людьми, что, будучи гражданами прекрасной страны Советов, в мечтах или в действии норовят перейти на ту сторону. Мы должны сохранить лицо нашего народа, спасти его от искушения встать на сторону несомненного зла. — Петр Кириллович покручивает пальцем ус, закидывая ногу на ногу, отчего на мгновение в комнате звучит отчетливо скрип кирзы. Николай Алексеевич, все это слушая, молча опустошает еще стопку, стискивая до ноющей боли пальцы одной руки в кулаке другой, немного заламывая их. «Как же хорошо, что никто из сейчас здесь сидящих не был утром со мной, хорошо, что Александр в самом деле Вальтеру поверил: некому повторить мои слова, некому упрекнуть меня за мои действия, в которых якобы сквозил страх и что самое прекрасное — некому обвинить в предательстве за отступление от приказа ради немецких военопленных.» Николай Алексеевич, похлопывает несколько раз по своим щекам, после чего встает из-за стола, ловя на себе заинтересованные, удивленные взгляды счастливых товарищей.
— Извините, перебрал. Мне надо уйти, полежать. Вопросов в спину, благо, не следует, потому молодой человек уходит из общей кухни в комнату своей роты. Некоторые солдаты в соседних комнатках уже спят. Ивушкин закрывает глаза. «Нужно только немного поспать и подташнивание уйдет. Полегчает.»