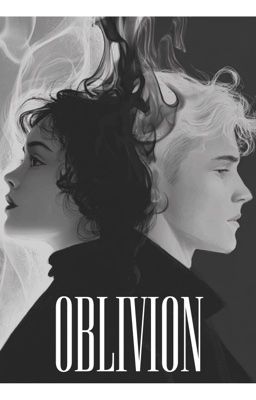3. Why Do You Hate Me?
— Забавно. Я был уверен, твоя пресловутая добродетель удержит тебя подальше от меня.
Голос раздался из тьмы раньше, чем глаза различили очертания фигуры. Он был холоден, натянут, будто тонкая струна, готовая вот-вот оборваться. На вершине башни ночь прижималась к телу ледяным дыханием, и каждый порыв ветра оставлял ощущение чужих рук на коже — назойливых и равнодушных.
Гермиона толкнула дверь сильнее, чем следовало, словно хотела доказать самой себе, что не боится. Каменный пол принял её шаги гулко и жёстко, и она втянула в лёгкие воздух, слишком острый, слишком живой. Этот вдох был больше похож на попытку разжечь угли в давно остывшем очаге — отчаянная, почти детская надежда согреть тишину собственным присутствием.
Сухой смешок сорвался с губ Малфоя и прокатился по башне, будто сдвинули тяжёлый замок. В этом звуке не было радости, лишь горечь, обернувшаяся сарказмом. Он лёг между ними холодной плитой, и Гермиона на мгновение ощутила абсурдность всего происходящего.
Пробуждение пришло не сразу — сперва вернулся звук: мерное постукивание капли о край вазы, где кто-то неловко поставил букет полевых цветов; шелест чистых простыней, когда ветер шевелил край занавеса; отдалённый скрип двери в соседнем помещении, будто кто-то осторожно проверил петли и передумал входить. Затем цвета: белый потолок, слишком ровный, чтобы быть живым; блеклый золотистый отблеск на стеклянной колбе; полоска дневного света, разрезавшая туман в голове. И, наконец, запах — стерильный, с примесью сушёных трав и какого-то старого мыла, которое пахнет детством и строгими правилами одновременно.
— Вы нас всех напугали, мисс Грейнджер.
Голос был знакомым, с той особой чистотой, в которой каждая согласная стояла на своём месте, как книги на выровненной полке. Гермиона повернула голову. Профессор Макгонагалл сидела на стуле у изголовья — идеально прямая, будто сама занавеска равнялась по её спине. На коленях — переплетенные пальцы, удерживающие тонкую чайную чашку; кружево пара поднималось из неё небесным столбиком и растворялось в солнечных бликах.
— Простите, — сказала Гермиона, и голос предательски дрогнул. — Я... потеряла сознание...
— Потеряли сознание? — Профессор чуть приподняла бровь, и это движение оказалось выразительнее целой лекции. — У вас была паническая атака.
Слово «паническая» легло рядом с Гермионой на простыню, как чужая перчатка: не её размер, но с намёком на знакомую форму. Сердце отозвалось коротким шевелением — не испугом даже, а какой-то усталой благодарностью за ясность.
— Мадам Помфри дала вам настой, — ровно продолжила Макгонагалл. — Он усыпил вас на час. Теперь вы в относительном порядке. — Она отхлебнула чай, поставила чашку на блюдце без единого звона, затем посмотрела прямо, и взгляд её был не ледяным, а, скорее, прохладным, как утро, в котором не нужно оправдываться за свою свежесть. — И всё же... — лёгкая пауза, тонкая, как нитка, на которой держится кулон. — Директор скоро придёт. Он хотел поговорить с вами лично.
«Директор». Слух зацепился за слово и повис, будто крючок нашёл знакомое ушко. Гермиона медленно кивнула: шея стала из фарфора, любое резкое движение грозило трещиной. Макгонагалл встала; пол под её каблуками издал звук, похожий на короткий вздох, — и исчез, растворившись в привычной строгой тишине. На мгновение профессор задержала взгляд, такой внимательный, какой бывает у людей, умеющих отличить плохую тень от плохого света, и так же тихо ушла, оставив за собой ровный шов закрытой двери.
Одиночество вернулось в палату как человек, который давно знает дорогу: без суеты, без объявлений, — расселось на стуле и приказало не дергаться.
Гермиона посмотрела на свои руки. Они лежали поверх одеяла ладонями вверх — простые, живые, неумело притворяющиеся спокойными. Прокатившаяся вспять память вынесла то место, где всё разорвалось: шёпот с последней парты; мел, стучащий о древесину, слишком резко, слишком часто; Гарри, Ронн, напротив слизеринцы; и вдруг — пространство, которое начинает расползаться по краям, как распоротый шов, когда ткань не выдерживает натяжения. Сначала дыхание стало узким, словно им приходилось проходить через ключевую скважину. Потом мысли — каждая попытка схватить их напоминала привычку ловить кипяток пустой ладонью. Ты понимаешь, что нельзя, и всё-таки пытаешься. Ноги: их словно не было. Сердце: чужой инструмент, у которого сорвали крышку, и теперь он бренчит на ходу без согласия музыканта.
Это было не похоже на страх из книжек и не походило на панику из слухов. Это было, скорее, как если бы кто-то в библиотеке разом выдрал индексы у всех карточек: книги остались, но путь к ним — нет. Ты знаешь, что нужное слово — где-то здесь; ты видишь корешки, запах бумаги, строгие ряды; но взгляд раз за разом проваливается в белые пустоты, и никто не объяснит, почему алфавит вдруг перестал повиноваться. Где-то внутри Гермиона почувствовала скрежет — не металлический, а бумажный, когда ластик срывает верхний слой страницы и не успевает очиститься от крошек.
Свет немного изменился — как бывает, когда облако решает, что солнце пора прикрыть ладонью. Дверь открылась, и в палату вошёл директор. Он не спешил; вся его неспешность была не напускной, а той, что появляется у людей, умеющих приходить вовремя даже тогда, когда время, кажется, расползается. На нём был длинный плащ сложного оттенка, что рождается, если смешать на палитре ночной синий и сдержанный сливающийся серый. Под плащом — костюм старого покроя, надёжный, как вещи, которые много лет служат одним и тем же жестам. Манжеты выглянули из-под рукавов, на одной — застёжка, будто капля лунного стекла; на другой — маленькая резная булавка, почти игрушечная, но в ней сквозило терпение мастера, не терпящего суеты.
Он принёс с собой запах тёплого пергамента и свежей шерсти после дождя — и какое-то тихое электричество, от которого воздух сразу становился внимательней. Ничего магического в этом не было, или, во всяком случае, магия не выдавала себя лишними жестами. Он сел на тот самый стул, где минуту назад сидела Макгонагалл.
— Мисс Грейнджер, — сказал он, и Гермиона почувствовала, как имя возвращается к ней нежнее, чем ожидала. — Рад видеть вас в сознании.
— Простите, сэр, — снова прозвучало её «простите», но с другим вкусом: теперь оно было не о вине, а о факте, за который не ответишь ни перед кем, кроме себя. — Я... не понимаю, что это было. На уроке... я не впервые волнуюсь, но...
— Но раньше ваши волнения подчинялись вам, — мягко кивнул он, — А сегодня порядок закрылся изнутри, как комнатка, в которой кто-то оставил ключ с другой стороны.
Гермиона кивнула. Сравнение показалось слишком точным, почти домашним — таким, которое приходило в голову только тем, кто видел немало закрытых дверей.
— Профессор, — сказала она, сведя брови к переносице, — со мной что-то не так?
Он слегка улыбнулся — той улыбкой, в которой нет снисхождения. В такой улыбке есть только тишина, признающая твоё право задавать трудные вопросы.
— Со всеми нами время от времени «что-то не так», — произнёс он. — И всё же... — его взгляд скользнул к оконной раме, где свет шевелил пылинки, как снег в хрустальном шаре, — с вами, мисс Грейнджер, дело не только в привычных человеческих бурях. Разум — сложная вещь. Он из тех механизмов, где, стоит расшатать одну шестерёнку, — и весь прибор начинает давать побочные звуки. У магглов эти сбои часто живут своей отдельной жизнью: громко, но предсказуемо. В нашем случае буря находит дверь потайную.
Он подался вперёд, положив ладони на подлокотники — неторопливо, будто укладывал на полку два сходных тома.
— Панические атаки воздействуют на вас иначе, чем на людей, не знакомых с даром. Магия — настойчивое эхо. Она откликается даже на то, чего мы не произносим вслух. Если ветер в вашей голове начинает хлопать дверями, магия, случается, принимает это за сигнал тревоги.
Внутри Гермионы что-то коротко качнулось — будто по невидимому канату прошёл кот, осторожно переставляя лапы. Она вспомнила тот момент на уроке, когда голоса вокруг стали слишком тихими. Почти шипением перед контрольным выстрелом.
— Что мне делать? — спросила она. — Как... избавиться от этого?
— Для начала — признать, что сила, которой вы владеете, слушает вас внимательнее, чем вы привыкли, — сказал директор. — А затем — научить собственный разум контролировать это. Существует дисциплина, которая может быть полезна в вашем случае. Я говорю об окклюменции.
Гермиона едва заметно вздрогнула.
— Окклюменция? — повторила она медленно, будто пробовала чужое блюдо, в котором понимаешь ингредиенты, но не предугадываешь вкус.
— Да, мисс Грейнджер, — кивнул он. — Чтобы научиться расставлять собственные мысли, словно книги по местам. Вы удивитесь, сколь часто паника оказывается не врагом, а слишком громким библиотекарем: неумело, но яростно призывает к порядку и из-за этой ярости путает карточки.
Он говорил неторопливо, давая словам ложиться на стол предложения как аккуратные приборы перед обедом. И от этого в Гермионе росло странное спокойствие — не тёплое, скорее, аккуратное, как свёрнутый в ровный прямоугольник шарф.
— Но кто... кто сможет меня этому научить? — спросила она. — Вы?
Улыбка в уголках его глаз чуть дрогнула.
— Увы, мне редко удаётся бывать там, где я действительно нужен, столь долго, как хотелось бы, — сказал он мягко. — К счастью, в Хогвартсе есть те, для которого эта область — не просто теория.
Имя не прозвучало, но в воздухе на секунду стало прохладнее — словно кто-то распахнул окно на верхнем этаже. Гермиона по привычке почувствовала, как плечи пытаются защищённо приподняться, а потом одёрнула себя: нельзя всегда жить в позиции учебника, который заранее знает, где спрятаны ответы.
— У меня был занятный диалог о вашей проблеме с профессором Снейпом, — произнёс директор, неожиданно просто, — профессор предложил не только свою опеку. Он рекомендовал проводника.
— Проводника? — Гермиона вдруг подумала о фонарщике, идущем впереди в тумане: нелепая, старая картинка из иллюстраций к детским книгам, но от неё почему-то стало спокойнее.
— В окклюменции иногда легче учиться, если тропинку вам протаптывает ровесник, — объяснил директор. — Он идёт рядом, слышит те же звуки, видит те же углы коридора и реже путает темп. Наш проводник — ученик. Он в достаточной мере знаком с дисциплиной, чтобы не навредить, и в достаточной мере упрям, чтобы не отступить от первых трудностей.
Пауза, короткая, но упругая, как тетива.
— Я говорю о Драко Малфое.
Имя легло на скатерть тишины чистым металлическим предметом — без украшений, но с выхоленной фактурой. Ложка из фамильного набора, которой доверяют суп, но на всякий случай меряют ею и соль.
Гермиона ощутила, как внутри прошел кольцом воздух. В голове сразу заговорили механизмы — каждый о своём. Один вспоминал его смех, сухой, как ветка зимой. Другой — манеру стоять, словно он прислушивается к шагам собственного отражения. Третий — слова, которыми он порой пользовался, будто ножами, наточенными для нападения.
— Это... — она осторожно подбирала выражение, — неожиданно.
— В нашей школе неожиданности часто оказываются единственным трезвым выбором, — заметил директор. — Порой тот, кто кажется не самым удобным спутником, лучше других помогает увидеть на дороге выбоины. Он не слишком сочувствует вашим коленям — и потому заставляет вас смотреть под ноги. — Директор потер переносицу, лёгким, сухим движением человека, привыкшего беречь глаза. — Профессор Снейп уверен, что мистер Малфой справится с ролью проводника.
— А вы уверены? — Этот вопрос вырвался прежде, чем Гермиона успела надеть на него вежливую обложку. Она тут же добавила: — Простите.
— Наоборот, — сказал директор. — Хорошие вопросы побуждают ответы быть осторожнее. А осторожность — редкая роскошь для людей, которые привыкли к ясности. — Он чуть наклонился и скрестил пальцы, как складывают мостик из спичек, проверяя, выдержит ли он бумажный шар. — Я уверен, что ваша проницательность потребуется мистеру Малфою не меньше, чем вам — его опыт.
Он не пояснил, в чём именно потребуется. И Гермиона вдруг поняла, что это не упущение, а способ приглашения: как если бы вам оставили на столе письмо без подписи, но с таким узором на конверте, который узнаёшь без слов.
— Мы не всегда выбираем тех, кто протянет нам руку помощи. — Он посмотрел на букет в вазе: простые полевые цветы вдруг приобрели вид собрания людей, которые, не зная, зачем их поставили вместе, всё же стараются стоять прилично. — Взвешивание — занятие неблагодарное. Весы любят, когда на чаши кладут не готовые выводы, а маленькие наблюдения. Кто знает, мисс Грейнджер, быть может, ваше присутствие придаст невидимую тяжесть той чаше, которую давно считают пустой.
Слова прозвучали ровно, почти буднично — и оттого глубже. Гермиона ощутила, как в груди рождается тонкая нить — ещё не смысл, но уже контур. Она вспомнила, как иногда в библиотеке начинает расцветать мысль: сперва видишь лишь обведённое слабым карандашом место на полях, а потом — понимаешь, что кто-то оставил тебе дорожку, не зная, что ты по ней пойдёшь.
— Вы просите меня... — она поискала формулу, не желая упростить её до неподходящих слов, — но мы говорим о Драко Малфое. Человеке, который... он ненавидит меня.
— А разве это имеет значение, мисс Грейнджер? — мягко поправил директор. — Быть может, именно потому, что он не терпит вас, вы способны увидеть то, что другие пропустят. Мистер Малфой уже стоит на пороге пути, где один неверный шаг может увлечь его слишком далеко. И если этот шаг всё же будет сделан, ваше внимание, ваши наблюдения... станут для меня бесценны. Ведь порой лишь тот, кто кажется нежеланным свидетелем, и способен заметить знаки, предупреждающие о непоправимом.
Он не сказал «следите за ним». И всё же сказал именно это. Гермиона почувствовала, как внутри собралось два слова — «зачем» и «как» — и стали стоять рядом, не мешая друг другу.
— Когда мы начнём? — спросила она.
— Сегодня вечером, на вершине Астрономической башни, — ответил директор, и в его голосе прозвучала та мягкая окончательность, что не оставляет места для возражений. — Что же до мистера Малфоя... — уголки его губ дрогнули лёгкой усмешкой, — будьте уверены, он появится так, словно сам выбрал этот час и эту роль задолго до нас.
Гермиона повернула голову к окну. Свет, кажется, стал теплее — или это глаза привыкли. Она вспомнила приступ. Сердце откликнулось коротким стуком — ровным, ответственным, как удар молоточка по камертону, когда оркестр настраивается. Есть что-то успокаивающее в простой мысли, что звук можно соотнести с эталоном.
— Директор, — сказала она вдруг, — но... разве это безопасно? Окклюменция. Он... — Неловкое слово повисло. — Он может проникнуть в мои мысли.
— Конечно, мисс Грейнджер, он проникнет в ваши мысли, — ответил директор. — Мистер Малфой знаком с техникой в достаточной мере, чтобы не причинить вам вреда. А вы знакомы с собой в достаточной мере, чтобы не позволить вреду переодеться в помощь.
Он поднялся, и ткань плаща отозвалась сухим, почти музыкальным смещением. В этот момент Гермиона заметила на его рукаве едва заметную ниточку, которую кто-то не срезал — тонкую, серебристую, блеснувшую крошечным лучиком. Так бывает: на идеально выглаженной скатерти вдруг обнаруживается шов — от него не хуже, но становится чуть честнее.
Он шагнул к двери, положил ладонь на ручку — и остановился.
— Мисс Грейнджер, — сказал он уже почти вполголоса, — весы старого мира, на которых меряют привычные величины, порой не замечают тяжести мыслей. Но есть и другие весы — незримые, — они не любят мгновенных решений. Если однажды вы почувствуете, что вашему вниманию нашлось место на одной из чаш — не отнимайте его поспешно. Пускай оно полежит там столько, сколько нужно, чтобы стрелка поверила ему.
Он чуть улыбнулся — не себе, не ей, а, казалось, самой комнате, будто благодарил её за терпение. И ушёл.
Дверь закрылась. Тишина вновь стала хозяйкой. Гермиона медленно выдохнула. Настоящий звук, не учебный. Рядом на тумбочке стояла стеклянная колба с еще незажженным светом: мадам Помфри оставила её на случай, если ночью станет слишком темно. Свет был ровный, уверенный, будто лампа знала, что мир не обязан спасать тебя большим прожектором — иногда достаточно маленького огонька, который не капризничает.
Это было странное чувство — оказаться так близко к человеку, с которым каждый день разделяешь пространство, но всегда держишь незримую стену. Малфой стоял выше, его силуэт заслонял свет, и тень ложилась на её лицо плотным, холодным полотном.
— Приму это за твой способ приветствия,— проговорила она, слегка отклоняясь в бок от его пристального взгляда,— нам стоит прояснить некоторые аспекты нашей встречи.
Она подняла глаза к небу: ночь висела над башней тяжёлым куполом, и её собственный пульс отдавался гулким эхом в голове, растекаясь тягучим шумом. После панических атак всегда оставался этот навязчивый фон, и Малфой, казалось, обладал редким даром усиливать его одним своим присутствием.
— Ты меня ненавидишь,— она кивнула головой, переводя свой взгляд на него и слегка склоняя голову, повторяя его жест,— я от тебя тоже не в восторге. Мы оба здесь не по своей воле. Но раз уж моя добродетель не уберегла меня от встречи с тобой, а я твоя ненависть не была достаточной причиной проигнорировать встречу, значит, мы оба в одинаковом положении. Поэтому...
Он перебил её. Разумеется, он перебил...
— Ты и я никогда не окажемся в одинаковом положении, Грейнджер. Не льсти себе. — усмехнулся Малфой, делая в сторону неторопливый шаг, так что полоска лунного света вновь растеклась по её лицу. Его высокая фигура мягко скользнула к ближайшей колонне; он облокотился о камень плечом, откинул голову назад и, полувзглядом, почти ленивым, вернул ей своё внимание.
Гермиона вцепилась ногтями в ладони, ощущая, как кожа поддаётся боли. Хотелось ответить резко, но она заставила себя вдохнуть глубже, смягчить пылающий жар и выровнять голос:
— Отлично. Ты можешь считать и так. Мне всё равно, — её глаза едва дрогнули, но она выдержала его прищур. — Я лишь предлагаю перейти к делу. Чем быстрее мы начнём, тем быстрее...
— Какие у тебя навыки в окклюменции? — перебил он снова. Голос был бесстрастен, как у экзаменатора, которому безразличен ученик.
— Их нет, — сказала она твёрдо, не позволяя себе отвести взгляд.
Гермиона знала об окклюменции куда больше, чем решилась бы признаться вслух. Страницы старых трактатов, зачитанные до мягкости, давно осели в её памяти: каждый автор по-своему описывал искусство закрывать разум, но суть всегда сводилась к одному. Нужно собрать собственные воспоминания, словно камни для фундамента, расставить их в строгом порядке, уложить в ряды — от самого важного к незначительному, от светлых к тёмным, — и над этим порядком возвести стены, непробиваемые чужим заклинанием.
Она представляла это как крепость, возведённую не из серого камня, а из чистой воли. Башни воспоминаний, хранилища мыслей, ворота, за которыми скрываются слабости. Любая трещина — приглашение для вторжения. Окклюменция требовала не только знаний, но и почти безжалостной дисциплины: постоянной концентрации, тишины внутри, когда каждый отзвук эмоций гасится прежде, чем станет эхом, уводящим чужую магию вглубь сознания.
Магия, удерживающая эти стены, не была заклинанием в привычном смысле. Она становилась состоянием — ровным дыханием, незримой напряжённостью мышц, усилием, разлитым по каждой клетке. Волшебник, овладевший ею, жил будто в осаде, непрерывно держа стражу на стенах собственного разума.
Гермиона, дотошная и упрямая, знала теорию безупречно. Но теория оставалась схемой на пергаменте. Теперь, под холодным взглядом Малфоя, ей предстояло выяснить, есть ли в ней силы превратить сухие строки в крепость, за которую никто — даже он, с его презрительной самоуверенностью, — не сможет шагнуть без её согласия.
— Предсказуемо, — хмыкнул Малфой, легко оттолкнулся от колонны и зашагал вдоль парапета. В его движениях чувствовалась насмешливая неторопливость, как будто он и сам не был уверен, стоит ли тратить этот вечер на неё.
Он медленно поднял руку, указывая кончиком палочки в темноту башни.
— Думай о мыслях как о карточках в архиве: самое важное держи под рукой, всё остальное — по краям; эмоции запри, слабости спрячь за стеной, а то, что не хочешь отдавать врагу — закапывай ещё глубже.
Она не успела и слова сказать, как удар пришёл внезапно — ни жеста, ни предупреждения, только шепот:
— Legilimens.
Его магия ворвалась в её голову, словно холодный поток, рвущий плотину. Боль резанула виски, и весь мир рассыпался на осколки воспоминаний.
Картинки мелькали одна за другой: мамины руки над разделочной доской, скрип старой лестницы в их доме, пыльное солнце библиотеки, смех Гарри, шепот дементора, горячий вкус заклинания на губах. Но Малфой не задерживался ни на чём. Он шёл стремительно, холодно, скользя по её памяти, будто ревизор по рядам складов, где вещи расставлены по полкам. Ему не нужны были детали, ему важно было устройство — как всё уложено, где слабое место, какая щель может стать дверью.
Его магия ощущалась как стремительный поток, густой и колючий, будто тысячи тонких игл впивались в каждую мысль. Это не было мягким погружением — это был осмотр, вторжение, беглый и беспощадный, и от этого становилось только страшнее. Её внутренний мир, такой бережно собранный из мелочей, вдруг оказался прозрачным стеклом, по которому он провёл пальцем, даже не удосужившись всмотреться.
Она едва не закричала. Судорожно хваталась за каждое воспоминание, но оно ускользало, уносилось вихрем, и она оставалась без опоры — голая перед его силой.
И вдруг всё стихло. Магия отступила, боль не исчезла, но её накрыло тишиной, такой звенящей, что хотелось согнуться пополам. Гермиона прижала ладони к вискам, словно могла удержать голову, готовую расколоться.
Малфой выдохнул, наблюдая, как она хватала ртом воздух, цепляясь пальцами за виски. Его лицо на секунду показалось ей... удивленным. Но она не могла сказать точно, не сейчас, когда дыхание вновь концентрировалось где-то на уровне горла, не имя возможности вырваться в выдох или глубокий вдох. Лунный свет резал её бледное лицо, волосы липли к вискам.
— Ты... — Гермиона подняла на него глаза, дрожь в пальцах сменилась яростью. — Как ты посмел?!
Она резко выдернула палочку, кончик дрожал в нескольких сантиметрах от его груди. Лунный свет стекал по линии его скулы, когда он чуть приподнял бровь, даже не пытаясь отшатнуться.
— Это урок, Грейнджер, — холодно произнёс он, и в его тоне не было ни капли раскаяния. — Ты что, правда думала, я стану читать тебе лекции до рассвета, пока ты послушно конспектируешь?
— Ты вторгся в мой разум, — голос её дрогнул, но не сорвался. — Без предупреждения. Это нападение.
— Нападение? — Малфой почти усмехнулся. Его пальцы легко коснулись её мантии, и он без усилий отодвинул её палочку в сторону. — Если бы это было нападение, ты бы уже валялась без чувств.
Он наклонился ближе, так, что его слова прозвучали почти у самого её лица. Голос стал ниже, холоднее, и Гермиона вдруг поймала себя на мысли, что никогда прежде не слышала его по-настоящему. Не издёвку, не насмешку, а саму сталь под ними.
— Я лишь скользнул по верхнему слою. Посмотрел, с чем мне придётся работать. И знаешь, что я там увидел? — его глаза блеснули хищно, словно лезвие под луной. — В твоей голове полный хаос. Чертова помойка.
Гермиона выпрямилась, стиснув палочку так крепко, что побелели костяшки.
— Помойка? — её губы дрогнули, но она не отводила взгляда. — Это моя голова, а не лаборатория для твоих экспериментов.
Малфой приподнял брови, всем своим видом показывая, что ее слова комичны. Гермиона прикусила губу, чувствуя, как внутри снова зашевелилась злость. Но злость была бесполезна: она знала, он этого и добивался.
— Хорошо, — сказала она резко. — Раз ты так уверен в своей гениальности, с чего, по-твоему, я должна начать?
Малфой чуть склонил голову набок, словно рассматривал редкий экспонат.
— Начать? — протянул он, иронично растянув слово. — Например, с того, чтобы перестать смотреть на меня так, будто хочешь выцарапать глаза. Хотя нет, давай это оставим. Забавно смотреть на это выражение лица и то, как ты послушно впитываешь знания.
Гермиона прикусила губу, сдерживая то острое, почти жгучее желание вылить наружу всё раздражение, которое подступало к горлу. Она заставила себя замолчать и вместо этого подумала о Дамблдоре, о холодном привкусе недавней панической атаки, о Гарри с его непосильным бременем, о Роне, который всегда рядом, но слишком часто безоружен перед собственной горячностью, — и о войне, которая уже нависала над ними, качалась, будто маятник над пропастью. На этом фоне Малфой был лишь деталью, крошечной частью огромной мозаики. Важной — потому что вмонтированной в её задачу, но всё же деталью. Ей нужно было научиться собирать этот узор воедино, пока он не рассыпался окончательно, вернуть собственному разуму чёткость и способность мыслить ясно. Только тогда её голова снова станет инструментом, который работает без сбоев, видит, различает, анализирует, и остаётся настороже, даже когда кажется, что весь мир рушится.
Малфой сделал несколько ленивых шагов вдоль парапета, руки скрестил на груди, неосторожно держа палочку между пальцев, его голос отозвался сухим сарказмом:
— Представь, что твоя голова — это библиотека. Только вот у тебя она не как в Хогвартсе, а как захламлённый чулан: книги навалены кучей, полки перегружены, где-то чернила разлиты прямо на пол. В общем... удручающее зрелище.
Гермиона прищурилась:
— Спасибо за поэтичный отзыв. Можем перейти к сути?
— К сути, — произнёс он с ленивой усмешкой. — Тебе нужно разложить воспоминания по полкам. Всё, что даёт тебе силу — победы, знания, моменты, где ты ощущала себя выше обстоятельств, — держи в центре, под рукой. Мелочи вроде бесконечных жалоб Поттера на судьбу или вечных обид Уизли на то, что кто-то умнее его, — по краям, чтобы не захламляли пространство. А тёмное, опасное — то, что способно тебя выдать или раздавить, — прячь глубже, за замок. И, Грейнджер, никакой хаотичной свалки — это не гостиная Гриффиндора.
Гермиона ощутила знакомую тяжесть в груди: это напоминало, как в детстве она пыталась собирать пазл, а рядом всегда находился кто-то, кто насмешливо указывал на неправильную деталь. И оттого победа над самой головоломкой становилась ещё важнее. Малфой выводил её из себя, обесценивал, но именно это всегда заставляло её цепляться за собственное упрямство.
— Ну что ж, — продолжила она после короткой паузы, стараясь, чтобы голос звучал ровно, — возможно, из твоих язвительных лекций всё-таки выйдет хоть какая-то польза.
Он остановился, облокотился на колонну и посмотрел на неё снизу вверх, прищурившись:
— Лесть сквозь сжатые зубы,— Малфой приподнял брови, криво усмехнувшись и скользнув по ней взглядом,— подходит к твоему красно-золотому галстуку.
Гермиона открыла рот в возмущении, чувствуя, как колкий ответ готов выскользнуть из неё кошкой с торчащими вперед когтями, направленными прямо в его надменную физиономию. Но Малфой и не думал анализировать выражение ее лица. Он сухо продолжил.
— Ты играла когда-нибудь в шахматы, Грейнджер? — протянул он лениво, словно сам вопрос был ниже его достоинства. Пальцы неторопливо скользнули по каменной кладке стены, будто он проверял поверхность на наличие пыли, и на его лице появилась характерная усмешка — холодная, едва заметная, почти обидная в своей снисходительности.
— Вот и представь: самые важные воспоминания — твой король. Их нельзя терять, но двигать тоже нужно осторожно и нечасто. Победы, сила, уверенность — это ферзь. Держи их на виду, они открывают поле и задают игру. Второстепенные мелочи — пешки. Тащишь их вперёд, чтобы отвлекали внимание любого, кто решит, что в твоей голове можно найти что-то интересное. А вот твои слабости... — он чуть прищурился, скользнув по ней взглядом с головы до ног, — это фигуры, которые лучше оставить в тени. Пусть сидят в углу доски, пока ты не решишь, как использовать их с наименьшими потерями.
Он криво улыбнулся, откинув голову назад, и в голосе прозвучала едкая насмешка:
— И если уж у тебя в голове царит хаос, постарайся хотя бы не расставлять фигуры так, чтобы любой идиот поставил тебе мат в три хода.
Гермиона скрестила руки на груди:
— То есть ты предлагаешь мне вести каталог собственных воспоминаний?
— Браво. — Малфой издевательски хлопнул в ладони один раз. — Мисс Грейнджер уловила мысль. Честно, я уже начал бояться, что твоё любимое слово «систематизация» не переживёт шока от моей компании.
Он выпрямился, словно только что вспомнил, что его фигура обязана возвышаться над ней, и шагнул ближе. Голос зазвенел лёгкой ядовитостью, с той самой ленивой насмешкой, которая делала каждое его слово похожим на укол шпилькой:
— Начни хотя бы с малого: выбери десяток воспоминаний, на которых можно выстроить стены. Опору. Всё остальное — прячь. Забивай глубже, чтобы и я, и любой другой не нашли сразу. Когда научишься держать это ядро в порядке, может быть, я перестану воспринимать твою голову как мусорную свалку.
Он прищурился, оценивающе скользнув по её лицу взглядом, будто решал, стоит ли вообще тратить на неё лишнее дыхание. Но всё же задержался, словно не мог отказать себе в удовольствии добить её ещё парой слов.
— Хотя, признаюсь, — продолжил он холодно-лениво, — в этом хаосе есть что-то... характерное. Крикливая честность твоего Гриффиндора.
Гермиона хотела возразить, но не успела. Драко легко оттолкнулся плечом от колонны, и звук его шагов, отливавший о камень, будто подчёркивал дистанцию, которую он между ними выставлял.
— Первый урок окончен, — бросил он, даже не оборачиваясь. Голос — ровный, сухой, как будто говорил не с человеком, а с учеником, чьё имя завтра забудет. — Попробуй хотя бы разложить бардак по полкам, прежде чем снова явишься сюда в четверг.
— Но мы ничего... — начала она, с раздражением понимая, что он не дал ей ни одного практического упражнения.
Он прошёл мимо, склонил голову чуть вбок — этот жест был слишком ленивым, чтобы показаться осознанным, и слишком изящным, чтобы быть случайным.
— Возвращайся к своим, Грейнджер, — протянул он, и сарказм заструился в голосе мягко, как яд в вине и, не удостоив её даже взглядом, растворился в темноте башни.
Гермиона стояла ещё несколько секунд, вглядываясь в темноту, куда ушёл Малфой. Его шаги стихли, но отзвук слов будто продолжал стучать в висках, как назойливый метроном. «Забавно смотреть на это выражение лица и то, как ты послушно впитываешь знания.». Злость поднялась волной, горячей и мгновенной. Ей хотелось выбежать за ним, влепить ему пощёчину — не за оскорбления, к ним она привыкла, — а за то, что он осмелился говорить с ней так, будто она не способна справиться сама.
Она шумно выдохнула, отдёрнула руку от каменного парапета, заметив, что пальцы побелели от напряжения, и, собравшись с силами, прошла к самому краю площадки. Села, осторожно свесив ноги в пустоту. Ветер ударил в лицо, и тёмные пряди волос хлестнули по щеке.
Гермиона зажмурилась на миг, а потом заставила себя смотреть вниз, в бездну. Мысли Малфоя она не собиралась принимать как истину, но отрицать в них зерно логики было бы глупо. Он ведь сравнил её разум со свалкой, но даже свалка — это набор деталей, и если их разложить правильно, они превращаются в оружие.
Она вспомнила его взгляд — ленивый, оценивающий, снисходительный. Точно так же он смотрел на всех на уроках — будто знал, что мир должен расстилаться перед ним ковром. Но он ошибался, если думал, что её можно поставить в один ряд с толпой.
Она опустила голову на колени и позволила памяти отмотать ленту назад, к тем дням, когда его имя вызывало у неё почти физическое раздражение. Малфой всегда умел быть отвратительным — не по-детски, не глупо, а намеренно, холодно. Он находил самые уязвимые места: напоминал о её происхождении, бросал презрительные взгляды, словно сам факт её присутствия оскорблял его чистокровную гордость. Его насмешки били исподтишка, в спину, тогда, когда сопротивляться было труднее всего. Он словно наслаждался тем, как от его колкостей у людей подкашивались ноги, а у неё самой в груди появлялась тягучая тяжесть, которую приходилось скрывать за маской спокойствия.
Она вспомнила, как он шёл по коридору, окружённый дружками, и каждый его шаг был демонстрацией власти, — не физической, а той, что рождалась из слов и умения ранить. Он не был дураком, не плёлся в хвосте, как многие из его окружения. Он был их ядром. Тем, кто задавал тон. Малфой умел быть ядом и сладкой приманкой одновременно — и это было куда опаснее, чем обычная грубость.
Но вместе с этим отрицать очевидное было невозможно. Он был сильным волшебником. И не просто сильным — одним из лучших на их курсе. Гермиона помнила, как злилась, обнаружив, что в Зельеварении Малфой обошёл её на экзамене — пусть и на несколько баллов, но обошёл. Его зелья были точными, безупречно выверенными, будто он чувствовал ингредиенты так же, как она — строки в книгах. На занятиях по Защите от тёмных искусств он всегда держался уверенно, легко, а в дуэлях двигался с той самой холодной точностью, которая выводила её из себя и заставляла признавать: он владеет магией мастерски.
Её раздражало, что он не был посредственностью. Если бы Малфой оказался обычным тщеславным снобом, его можно было бы легко игнорировать. Но в нём было слишком много таланта, слишком много ума. И именно это делало его опасным.
Она мысленно складывала его образ так, как привыкла раскладывать аргументы по ступеням — от очевидного к скрытому, от раздражающего к любопытному. Малфой был язвителен — но это не выглядело как простая привычка вымещать злость. В его словах чувствовалась намеренность, изящный расчёт, словно он оттачивал каждую колкость так же, как оттачивают формулу. Его холодность не была лёгкой позой, заученной демонстрацией превосходства; нет, она стояла перед ней, как каменная стена, возведённая вокруг чего-то слишком хрупкого или слишком опасного, чтобы выставлять это на свет. Малфой не просто замечал слабости, он их считывал, как кто-то читает ноты. И этого, возможно, он умел лучше многих — внимать мелочам, которые выдавали человека. В его колкостях жила логика наблюдателя: уколи там, где не ожидают — и человек разом теряет нить. Это был не спектакль, это была охота.
— Значит, надо учиться у врага, — прошептала она, и в этом не было ни капли желания подражать ему. Скорее наоборот: рассмотреть под увеличительным стеклом каждое движение, разложить на простые шаги, понять механику и заполнить собственные пробелы.
Но поверх этого существовало ещё одно условие, как натянутая металлическая струна: то, ради чего Дамблдор вообще поручил ей Малфоя. Это было не упражнение для ума, а ответственность. Следить, заметить вовремя, предупредить.
Гермиона ясно понимала: чтобы разобраться в том, что замышляет Малфой, придётся действовать осторожно. Первым шагом должно было стать наблюдение. Никаких вмешательств, только внимание. Смотреть, когда он вдруг замолкает, от чего едва заметно изгибаются его губы в усмешке, какие слова он подбирает для учителей, друзей и врагов. Запоминать каждое движение — как поправляет воротник, как ведёт себя в зале, какие книги держит под рукой. Эти мелкие, на первый взгляд незначительные детали складывались в целую схему поведения.
Вторым шагом было испытание границ. Неброские, осторожные провокации: короткая фраза, брошенная мимоходом, лёгкий вызов на его колкость — не ради спора, а чтобы увидеть, что скрывается под маской. Стыд? Гнев? Или вовсе пустота? Важно было вызывать реакцию, но не становиться её мишенью. Сохранять дистанцию и собирать материал, словно учёный, фиксирующий опыт.
Третьим шагом было выстроить собственное ядро — набор воспоминаний, к которым можно вернуться в любой момент. Не просто картинки прошлого, а опоры: победы, когда она чувствовала уверенность в себе; лица тех, кто всегда поддерживал; факты, которые оставались несомненными даже в хаосе. Эти воспоминания становились её фигурами на шахматной доске: ферзь и пешки, создающие строй и движение. Их следовало держать на виду, приучить себя возвращаться к ним мгновенно, будто по внутренней команде. А всё хрупкое и опасное — то, что могло обернуться слабостью, — спрятать глубже, в тёмный подвал сознания, куда не доберётся чужой шаг.
Четвёртым шагом был сбор сведений о его связях. Малфой редко действовал один, и вокруг него всегда существовала сеть: союзники, что ловили его усмешки, смеялись в нужный момент, отражали его настроение. Важно было видеть, с кем ему легко, а где напрягается; при каких обстоятельствах срывается с холодного тона и теряет равновесие. Это было не наблюдение ради любопытства, а создание карты — социальной и политической. Чем точнее карта, тем яснее становились его возможные ходы. Ведь знать окружение врага значило владеть его будущими шагами.
Пятым шагом должна была стать практика. Не бесконечные трактаты и рассуждения, а короткие и регулярные упражнения в окклюменции. Десять минут в день ценились выше, чем час в состоянии паники. Важно было не углубляться до изнеможения, а приучать разум подчиняться ей самой, возвращать контроль так же естественно, как дышать. Лишь тогда, когда появится привычка держать в узде собственные мысли, она сможет встретить любую опасность, что принесёт в стены школы Малфой.
Шестым шагом было одно из самых трудных — быть собой. Не маской, за которой она пряталась долгие годы, стараясь соответствовать ожиданиям и скрывать уязвимость, а той, кем была на самом деле: упрямой, честной, увлечённой каждой деталью. Ей не нужно было разыгрывать наивность или намеренное непонимание, чтобы выманить из Малфоя реакцию. Достаточно было оставаться подлинной, и тогда оставался только вопрос — что сделает он, столкнувшись не с образом, а с настоящей Гермионой.
Она улыбнулась — сначала тихо, потом шире, потому что стратегия — это еда для её ума. И в этом было особое наслаждение: превратить эмоцию в алгоритм, боль — в тренировку. Малфой мог взять у неё дыхание одним прикосновением, но она научится возвращать его по щелчку, как тот, кто перезагружает зависший прибор. И тогда уже не он будет диктовать темп.
Спускаясь вниз, Гермиона ощущала, что воздух башни будто остался внутри неё — резкий, холодный, обжигающий каждую мысль. Голова гудела, перегруженная фрагментами первого урока с Малфоем: его язвительные слова, ленивый тон, почти небрежные объяснения, в которых всё равно скрывалась стальная логика. Она ловила себя на том, что мысленно снова и снова расставляет «фигуры» на шахматной доске сознания, проверяя, не упустила ли чего-то, не дала ли слабину там, где он мог бы заметить трещину.
Когда она вошла в гостиную, её встретил привычный запах догорающих дров и мягкий свет огня. У камина, склонившись друг к другу, сидели Гарри и Рон, о чём-то шептались, и сразу стихли, едва увидев её. В их глазах мелькнуло облегчение, такое искреннее, что Гермиона невольно почувствовала укол вины за то, что часть её мыслей всё ещё оставалась там, наверху, на башне. Они почти одновременно вскочили, и сперва Рон, неловко почесав затылок, заключил её в торопливые, крепкие объятия, а следом Гарри обнял её мягко и осторожно, словно боялся задеть невидимую рану.
— Мы рады тебя видеть, — почти в унисон сказали они, и Рон тут же добавил: — Как ты? Правда, как себя чувствуешь?
Она попыталась улыбнуться, хотя знала, что глаза её наверняка выдают усталость сильнее любых слов.
— Помфри только что меня отпустила, — ответила Гермиона, стараясь, чтобы голос звучал бодро. Но в нём всё равно проскальзывала слабость, будто слова отдавало эхом из больничного крыла.
Гарри кивнул и посмотрел на неё так пристально, что Гермиона ощутила — он слышит гораздо больше, чем она произнесла.
— Мы очень за тебя переживали, — сказал он тихо, и его рука лёгким движением обняла её за плечи, словно подтверждая сказанное. В этом жесте было столько тепла и простоты, что Гермионе на миг захотелось раствориться в этой заботе, позволить себе не думать.
Рон, будто стараясь разрядить обстановку, взмахнул рукой в сторону дивана.
— Пойдём, садись. Не стоять же тут, — пробормотал он, но в глазах всё равно светилось беспокойство.
Они втроём опустились на старый, мягко просевший диван, и огонь в камине тихо трещал, будто слушал их разговор. Гермиона почувствовала тепло, разливающееся по телу, и впервые за весь день напряжение внутри неё чуть ослабло. Она позволила себе глубже вдохнуть, слушая, как рядом дышат её друзья.
—О том, что случилось на уроке, — начал Рон, и голос его прозвучал слишком громко в уютной тишине гостиной. — Это ведь всё из-за этих слизеринских морд, — он резко повёл рукой в воздухе, будто отмахиваясь от целой толпы. — Они же не могут держать язык за зубами. Стоит кому-то пошевелиться — и они уже шипят, будто змеиная стая.
Гарри быстро взглянул на него, предостерегающе, и в этом взгляде мелькнуло сомнение: стоит ли сейчас говорить с Гермионой о её приступе. Он чуть подался вперёд, готовый прервать Рона, если тот продолжит слишком прямолинейно.
Гермиона, слушая их, почувствовала, как внутри поднимается волна вины. В груди защемило — не потому, что слова Рона были лишними, а потому что они оба говорили с ней открыто, по-дружески, а она... Она хранила молчание. Секрет Дамблдора лежал на её плечах тяжелее учебников: уроки окклюменции, Малфой на башне, его холодный голос, всё это уже стало её частью. Но это было то, о чём нельзя говорить — даже с ними.
— Вам двоим стоит быть сдержаннее, — сказала Гермиона, и голос её зазвучал строже, чем она ожидала. — Не время лезть на рожон, особенно сейчас. Когда по школе рыскает Амбридж и каждый наш шаг под наблюдением, а о том, что замышляет Волдеморт на самом деле, мы не знаем почти ничего. Последнее, что нам нужно, — это лишние проблемы из-за вашей несдержанности.
Рон уставился на неё, округлив глаза, а потом его лицо медленно смягчилось, будто он только сейчас понял — Гермиона и правда возвращается к себе.
— Ну всё, точно в норму пришла, — пробормотал он с полуулыбкой. — Если уже отчитывает нас, хотя мы ни в чём не виноваты.
Он поднялся с дивана, потянулся и шагнул к ней. Несколько мгновений смотрел сверху вниз, прищурившись с какой-то почти братской теплотой, а затем неожиданно наклонился и ущипнул её за нос.
— Завтра тренировка, мне надо выспаться, — сказал он, отступая и направляясь к лестнице. Но, дойдя до первой ступеньки, остановился и добавил уже серьёзнее: — Не пугай нас так больше, ладно?
Гермиона закусила губу, провожая его взглядом. Внутри всё сжалось от того, что он сказал. Она не могла позволить себе снова довести их до страха и бессилия. Теперь же она поклялась себе: использовать каждый урок, каждое упражнение в окклюменции до предела, чтобы больше никогда не дать собственному сознанию обернуться против неё — и против её друзей.
Камин потрескивал, огонь рвался вверх рыжими языками и снова оседал, обнимая обугленные поленья. Гермиона смотрела на пламя, и в этой игре света было что-то умиротворяющее — как будто оно вытягивало из неё остатки напряжения. Рядом сидел Гарри, и с ним не нужно было искать слова. Он был тем человеком, рядом с которым молчание становилось не неловкостью, а дыханием одного и того же воздуха. Словно он понимал её без всяких пояснений.
Гарри вздохнул, опустив взгляд в огонь.
— Не злись на Рона, — сказал он мягко. — Ты ведь знаешь, какой он бывает. Несдержанный, вспыльчивый. Он может простить, если кто-то оскорбит его, но когда нападают на его друзей — он становится сам не свой.
Гермиона посмотрела на него и покачала головой.
— Но вы оба... вы реагируете так, будто мир уже рухнул. Стоит появиться слизеринцам, и вы готовы к атаке. Иногда мне кажется, что мы сидим за партами только потому, что война ещё не началась. Но она начнётся — и тогда всё это, классы, учебники, свитки... превратится в выжженное поле.
Гарри напрягся. Его плечи чуть дрогнули, и он на миг закрыл глаза, будто пытался отогнать образ, который она нарисовала. Потом поднял руку и осторожно провёл пальцами по её волосам. Этот жест был простым, почти неосознанным, но от него в груди Гермионы разлилось тепло. Она позволила себе опустить голову на его плечо, и мир будто стал тише.
— Если война начнётся завтра, — сказала она почти шёпотом, — то сегодня мы ещё имеем право быть детьми.
Она почувствовала, как его грудная клетка под её щекой поднялась, и Гарри, вздохнув, усмехнулся. В этом коротком звуке было и согласие, и усталость, и редкая, хрупкая надежда.
Гермиона нахмурила брови. В памяти вспыхнули насмешки Малфоя, тягучий голос Пэнси, хриплый смех слизеринцев за спинами — всё то, что годами казалось почти театральной постановкой, ритуалом факультетской вражды. Гриффиндор против Слизерина. Красное против зелёного. Клише, за которым скрывалась бездумная привычка, не требующая ни анализа, ни выбора. Так принято.
Она сжала ладони так крепко, что ногти впились в кожу, оставляя острые точки боли, словно напоминание о собственной реальности. Осторожный выдох прорезал тишину между ними, и в этом выдохе слышалось напряжение, которое невозможно скрыть.
— Ты правда веришь, что все они встанут на его сторону? — произнесла она негромко, но слова прозвучали тяжело, будто в каждое было вложено по камню, и этот груз давил изнутри, мешая дышать. Пояснять не требовалось: кто такие «они» и чью сторону выберут, было ясно обоим.
Гарри чуть отстранился, и её голова соскользнула с его плеча. Он посмотрел прямо на неё, и Гермиона заметила: в его очках отражался камин. Пламя накладывалось на зрачки, словно в его взгляде одновременно жило два огня — тот, что горел в камине, и тот, что всегда жил внутри Гарри. В нём было столько света и тени сразу, что её дыхание на миг сбилось.
Он молчал несколько секунд, и это молчание было не пустотой, а каким-то внутренним движением — будто он перебирал внутри себя старые страницы, желтелые от боли, и искал нужную, ту, где слова были по-настоящему точны. Его глаза чуть сузились, уголок губ дёрнулся — словно от привкуса воспоминаний, которые трудно проглотить.
— Я вырос в семье, где выбор всегда был у других, — наконец сказал Гарри. Голос прозвучал тише, чем обычно, с хрипотцой, которая делала каждое слово весомее. Он опустил взгляд, и в этом наклоне головы Гермиона вдруг ясно увидела мальчика, сидящего на кухне Привит-драйв, в тесном чулане, в мире, где каждый взгляд, каждое движение оборачивались приговором. — У них был выбор: видеть во мне мальчишку, который не виноват ни в чём, или удобную мишень, на которую можно спихнуть всё. Они выбрали второе. Изо дня в день. Я расплачивался за ошибки, которых не совершал.
Он на миг замолчал, вдохнул, и Гермиона заметила, как пламя в камине дрогнуло в отражении его очков. Отблеск огня лёг прямо на его зрачки, словно внутри Гарри горел второй костёр — тот, что ни ветер, ни тьма не могли потушить. Она вдруг подумала: этот огонь был и теплом, и болью. Светом, который рождался от того, что его слишком часто пытались погасить.
— Поэтому я знаю, — продолжил он медленно, почти задумчиво, — не всё решают факультеты, традиции или чужие ярлыки. Многие в волшебном мире любят прятаться за словами: «он слизеринец», «она гриффиндорка», «так принято». Но всё это ширма. Настоящее решается в тот момент, когда ты смотришь на другого человека и выбираешь, что в нём увидеть. Ошибку, врага, ярлык... или шанс.
Его плечи заметно осели, словно тяжесть прошлых воспоминаний на мгновение отступила, отпустив его дыхание. Гарри посмотрел на неё, и в его взгляде мелькнула редкая мягкость — та, что появляется только тогда, когда слова слишком честные и больше нечего к ним добавить. И вдруг, словно не желая позволить этой серьёзности окончательно завладеть ими обоими, он протянул руку и щипнул её за нос — легко, почти игриво, по-детски. Почти так же, как несколько минут назад это сделал Рон, только в этом жесте было меньше шутки и больше нежности.
— Может, я и не самая умная ведьма поколения, — сказал он с улыбкой, и насмешка прозвучала так, что Гермиона не удержалась, фыркнула сквозь собственную серьёзность, — но кое-что знаю точно: ненависть — это выбор. Его придётся сделать каждому. И слизеринцам, и гриффиндорцам, и всем, кто окажется между. Даже если сегодня мы выбрали быть просто детьми.
Гермиона почувствовала, как что-то внутри неё дрогнуло — смесь боли, надежды и острого осознания, что Гарри говорит правду, но правда эта тяжела, как сама война, к которой они приближаются.