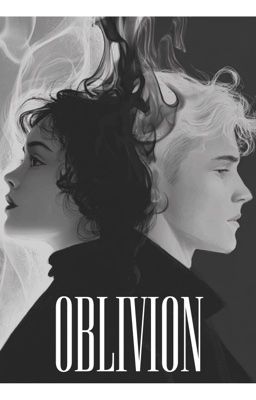1. Is This Before the Storm?
— Гермиона! — Дверь вагона с лязгом отъехала в сторону, и в проём ворвался взъерошенный, запыхавшийся Гарри. Он даже не дал ей подняться с сиденья, обнял крепко, так, будто боялся что она растворится в воздухе. — Я скучал. Мерлин, как я скучал. Ты как?
Она уткнулась лицом ему в плечо и сжала сильнее, чем когда-либо прежде.
Письма, которые она писала летом, словно растворялись в пустоте — не доходили, терялись, как будто сама магия пыталась разделить их. Все эти месяцы она прокручивала в голове десятки версий: жив ли он, цел ли он, не остался ли один. И вот он здесь, настоящий, живой, с запахом дыма от платформы и очками на краю которых образовалась трещина.
— Я так рада тебя видеть, Гарри, — выдохнула она, голос дрожал. — Теперь всё правда в порядке.
Он посмотрел на неё как-то особенно — не как мальчишка, что рад встрече, а как тот, кто понял её тревогу без слов. Его пальцы крепче сжали её руку, и этого было достаточно, чтобы она почувствовала: он видит.
Внутри, однако, всё равно жила дрожь. Лето тянулось, как заклинание, наложенное не на тело — на разум. Гермиона снова и снова просыпалась в холодном поту. Дементоры, их дыхание, их ледяные пальцы, сжимающие грудь — это не отпускало. Даже зелье сна без сновидений не спасало: тело отдыхало, но сознание оставалось в ловушке, и утро приносило усталость, тяжелее, чем вечер.
Она уже хотела что-то сказать Гарри, как дверь снова распахнулась, и в вагон ворвался Рон — высокий, с рыжей копной волос, с вечной неловкой улыбкой, но каким-то особенно взрослым взглядом.
Рон выглядел так, словно все двери поезда были его личным входом. На плече — перекошенная сумка, в руках — лягушачьи лапки, будто он снова ел на бегу.
— Гермиона! Гарри! — его веснушчатое лицо расплылось в широкой, искренней улыбке, от которой стало теплее. Он быстро обнял сначала Гарри, потом Гермиону, прижимая к себе с такой неловкой нежностью, что у нее защипало глаза.
— Я думал, — он откинул сумку в угол и плюхнулся на сиденье, растрепав волосы ладонью, — что это лето никогда не кончится.
Гермиона улыбнулась, прикусив губу, чтобы сдержать эмоции.
— И я, — тихо сказала она. — Я так скучала по вам обоим.
Они какое-то время просто сидели, переговариваясь о мелочах: Рон рассказывал, как близнецы обустраивают новый магазин и что-то всё время взрывается прямо у них под окнами. Гарри слушал и смеялся, хотя глаза его оставались чуть напряженными, будто он всё ещё не до конца верил в собственную безопасность. Гермиона наблюдала за ними обоими и чувствовала, как внутри расправляется что-то сжатое, словно узел — их троица снова вместе, и это было всё, что им пока нужно.
Рон вытянул ноги, закинул руки за голову и со вздохом, в котором перемешались усталость и облегчение, сказал:
— Боже, — протянул он, глядя в потолок вагона, — седьмой курс. Не могу поверить, что мы вообще ещё живы.
Слова Рона застряли в воздухе, и Гермиона невольно задержала дыхание.
Седьмой курс. Для них — предпоследний. Мысль резанула неожиданно остро. Казалось, что ещё вчера они впервые вошли в Большой зал, ослеплённые мерцанием сотен свечей под заколдованным потолком, и всё казалось бесконечно впереди. А теперь... Теперь они были здесь, с грузом шрамов, который уже невозможно скрыть.
Сквозь шум колёс Гермиона слышала только собственные мысли.
Все их шаги, все сражения, все бессонные ночи — вели сюда. К этой точке. Она вспомнила тролля в каменном коридоре, шёпот в стенах, холод змеиных глаз, тяжёлые листья полуживого растения, когда она сама оказалась вопросом на больничной койке. И всё это время над ними нависала одна и та же тень. Сначала — как далёкий шёпот, страшилка, ожившая в пересудах. А теперь — как реальность.
Тот-Кого-Нельзя-Называть вернулся.
Он дышит тем же воздухом, размечает улицы так, будто это шахматная доска, собирает армию, как кто-то собирает осколки зеркала — чтобы ранить теми же осколками. Министерство может затягивать удавку на собственных глазах, говорить «нет», пока буквы не посинеют. Но им не нужны доказательства — не после могильной земли и визга чёрных меток под манжетами. Теперь они не дети, которые случайно оказались в центре истории. Теперь они были её частью.
Гермиона крепче сжала пальцы на коленях, ощущая, как поднимается дрожь. Она пыталась дышать ровно, потому что знала — пока они рядом, пока они втроем, она сможет идти дальше.
— Слушайте, — голос Рона ворвался в её размышления, заставив поднять глаза. Он почесал затылок и прищурился, — Как думаете, кто будет новым преподавателем по Защите от тёмных искусств?
Гарри только скосил взгляд в его сторону, но не успел ответить, потому что Рон уже заговорщицки ухмыльнулся:
— Я вот надеюсь, что возьмут Руфуса Скримджера.— он откинулся на спинку сиденья, довольный собственной находчивостью, но тут же добавил, уже серьёзнее, — Кто может быть лучше мракоборца, который сам вёл охоту на пожирателей, ловил их десятками? Я читал, что ему оторвало правую руку, в которой он держал палочку, но он все равно вернулся в бой и смог одолеть в дуэли Долохова. Вот это я понимаю — преподаватель. Такой научит нас не трепать палочкой в воздухе, а реально выживать.
Рон мечтательно закатил глаза, будто уже представлял себя под началом боевого командира.
Гермиона едва заметно усмехнулась — в его словах было больше детской надежды, чем рассудка. Она знала: мракоборцы вроде Скримджера редко приходят в стены школы. Они были нужны там, где пахло кровью и огнём. Но в этой наивной уверенности Рона было что-то утешительное. Словно он цеплялся за мысль, что война еще далеко, а их всё ещё могут защитить взрослые.
Она ещё раз вдохнула, словно желая задержать эту хрупкую иллюзию спокойствия, созданную Роном. Поезд замедлял ход, и вагон дрогнул — предвестие перемены. Лето осталось позади, вместе с его тревогами и тишиной, а впереди ждал Хогвартс, шумный, полный голосов и движения. Всё это казалось неизменным, и всё же Гермиона ощущала — для них троих этот год будет иным, тяжелее, чем любой пережитый прежде.
Платформа Хогвартса встретила их привычным хаосом: разноголосым гулом, смехом, стуком чемоданов, щебетание сов, отчаянно хлопавших крыльями в клетках, и пронзительными криками первокурсников, которых старшекурсники сгребали в кучки, как сбившихся с дороги цыплят. Воздух был густым от копоти, пар клубился над красным локомотивом, окрашивая всё в тусклые оттенки серого. В этом хаосе было что-то вечное, заколдованное: словно сама платформа не менялась с тех времён, как первые маги прятали её от глаз магглов.
Гарри шагнул вперёд, Рон сунул руки в карманы, и Гермиона, ступив на холодные каменные плиты, ощутила, как сердце болезненно сжалось. Всё вокруг было до ужаса знакомо. Столько раз они выходили сюда из поезда, и всё повторялось, будто по кругу: запах угля и горячего металла, вихрь голосов, тёплые объятия встречающих одноклассников. И в то же время — всё стало иным.
В толпе мелькали такие же школьные мантии, те же лица, те же чемоданы с облупившимися наклейками. Но внутри неё самой — что-то переменилось безвозвратно. Годы в Хогвартсе больше не были историей про шалости и домашние задания. Каждая осень теперь начиналась не с радости, а с тенью опасности. Она вглядывалась в лица, ища привычное ощущение безопасности, но не находила его. Казалось, что даже сами каменные плиты под ногами помнят их шаги и знают, что этот раз будет не похож на предыдущие.
— Гермиона! Гарри! Рон! — звонкий голос прорезал шум платформы, и через толпу к ним пробивалась Лаванда Браун. Её кудри сияли золотисто в свете фонарей, она тащила чемодан, который едва не перевешивал её набок, но улыбалась так широко, словно никакой опасности в мире не существовало.
Рядом с ней семенила Парвати Патил, на ходу поправляя сползающую с плеча клетку с совой. Они обняли Гермиону по очереди, быстро, как это бывает после долгой разлуки, и привычно засыпали вопросами.
— Ну как лето? — первой выпалила Лаванда, расправляя мантию. — У меня дома всё только и говорят о слухах... Сосед уверяет, что видел саму Беллатрису Лестрейндж в Лондоне, представляете?
Гарри мрачно хмыкнул, Рон поморщился. Гермиона чуть крепче прижала к груди книгу, которую держала, — словно она могла заслонить от подобных разговоров.
— Слухов хватает, — сказала она осторожно, стараясь не встречаться глазами ни с кем. — Но лучше не повторяй их слишком громко.
Лаванда на миг осеклась, но потом снова оживилась — так, будто отказывалась поддаваться мраку:
— Всё равно я рада вас видеть! Как прошло твоё лето... Рон?
Он ответил что-то бодрое, слегка несуразное, — и Гермиона не уловила половины слов. Да и не нужно было: вся сцена говорила сама за себя. Лаванда склонила голову набок, её смех звенел слишком звонко, а Рон, почесывая затылок, краснел до ушей и тараторил, будто запутался в собственных фразах.
Их перепалка выглядела одновременно неловкой и слишком личной. Никто толком не знал, что у них происходит, — пара они или нет, словно они сами ещё не определились. Казалось, даже Рон не мог этого сказать наверняка. Но Гермиона всё равно отметила про себя: между ними тянулась тонкая нитка, неразговорчивая, но ощутимая.
Она отвернулась чуть в сторону, чтобы не чувствовать себя лишней наблюдательницей чужих чувств, и именно в этот момент в их круг ворвался тяжёлый топот.
Невилл Лонгботтом подоспел следом, задыхаясь под весом горшка с мандрагорой, который притащил с собой из дома. У него были грязные руки, и он смущённо улыбнулся:
— Вы слышали, что Министерство собирается усилить охрану Хогвартса? Говорят, приставят новых авроров...
— Да-да, — перебила его Парвати, понизив голос, — и ещё поговаривают, что Дамблдор уже готовит школу к войне.
Не успел кто-то ответить, как платформа словно вздрогнула, когда людской шум разом расступился сам собой — не сразу понятно почему, пока волна не дошла до них. Сначала — вспышка серебряной пряжки, чёрный ворот мантии, накинутый так, будто ночь сама легла на плечи. Потом — троица.
Малфой шёл посередине, как по собственному коридору: ровная, безупречная походка, подбородок чуть вздёрнут, взгляд — ледяной, скользящий, как лезвие. По обе стороны — Забини и Нотт. Первый — лениво-хищный, с ухмылкой, от которой у первокурсников подламывались колени. Второй — с руками в карманах, глаза прищурены, будто всё происходящее его скорее забавляло, чем злило. Их троих можно было принять за вырезанную из тени статую, если бы не короткие реплики и сухой хруст гравия под сапогами.
— Пахнет мокрой шерстью, — лениво протянул Блейз, скользя взглядом по красно-золотой кучке, где стояли Гарри, Рон, Гермиона, Лаванда, Парвати и Невилл с горшком мандрагоры. — О, верно. Львята вернулись.
— Или это мандрагора Лонгботтома, — вполголоса добавил Тео, качнув головой на горшок. — Воняет одинаково.
Рон уже распахнул рот, набирая воздух для ответа, но Малфой даже не повернул к нему головы. Прошёл ровно столько ближе, чтобы их мантии почти задели друг друга, и сухо, отстранённо бросил, как кость:
— Кнатов нет.
Сказано было так, будто Уизли подошёл просить милостыню. У Рона пунцово вспыхнули уши.
— Слушай, ты... — начал он, рванувшись вперёд.
— Рон, — коротко остановила Гермиона, положив ему ладонь на предплечье. Странно, как легко вернулась эта привычка — удерживать. Не ради Малфоя. Ради того, чтобы не опускаться до его уровня прямо здесь, на глазах у своих.
Слизеринцы шли дальше. Малфой, не замедлив шага, едва заметно задел её плечом — не толкнув, а как бы обозначив: «с дороги». Не остановился, не извинился, даже не взглянул. Простой, отточенный жест превосходства, от которого у Гермионы в груди холодно сжалось от ярости. Она выпрямилась, глянула ему в спину. Та же старая неприязнь, только твёрже.
— Эй, — рванулся Рон, — Малфой, обернись, трус!
Блейз даже не снизил шаг. Бросил через плечо, лениво, будто обсуждал погоду:
— Трус — это тот, кто орёт в спину.
Тео скользнул по Гермионе взглядом — быстрым, отстранённым, оценивающим — и ухмыльнулся так, будто услышал чей-то личный секрет.
— Расслабьтесь, — сказал он тише, почти вкрадчиво, ни к кому конкретно, хотя адресат был очевиден. — Хлебните тыквенного сока, львята.
Они прошли сквозь толпу, как нож сквозь ткань: за ними снова сомкнулись силуэты, зазвучали голоса, но на мгновение пространство осталось выжженным. Гермиона невольно сжала пальцы сильнее на руке Рона.
— Ублюдки, — процедил он. Гарри молчал, глядя вслед — взглядом, в котором не было ни растерянности, ни страха. Только усталость от слишком привычной стычки.
Гермиона втянула воздух, уняла дрожь в пальцах. Никаких «чувств», кроме холодной, чистой неприязни. Никаких. Малфой для неё был ровно тем, чем и должен: тем, кто шагает, чтобы его пропускали, и кто не оборачивается, когда его зовут. Оркестром по-прежнему управлял он — одно движение плеча, один брошенный взгляд, и Забини с Ноттом держали ритм без единой фальши.
— Пошли, — тихо сказала она. — Опоздаем к каретам.
Позади, в шуме платформы, кто-то засмеялся, кто-то позвал друзей. Перед ними мерцали фонари, освещая сбруи, которые казались пустыми. Но Гермиона знала: они не пустые. Там стояли фестралы — тени с костяными крыльями, видимые только тем, кто уже видел смерть. Холодный воздух пах углём и мокрым камнем. Она шагнула вперёд, держась прямо. Рон бурчал себе под нос, Гарри шёл рядом, чуть прикрывая её плечо от потоков толпы.
Сзади, на краю слуха, донёсся ленивый смешок Блейза и сухое: «Не суетись, Тео». И всё. Троица слизеринцев растворилась в людском гуле — как нож, убранный в ножны, но от этого не ставший менее острым.
Кареты скрипели по гравию, увозя их прочь от станции. Гермиона молчала — внутри всё было странно тяжёлым. За окнами мелькали деревья, мокрые от тумана, и сквозь их силуэты уже вырастали башни Хогвартса, подсвеченные жёлтым светом факелов. Замок выглядел как всегда — величественный, вечный, но впервые она почувствовала, что его стены не только защищают, но и заключают их внутри, как бастион перед битвой.
Когда двери распахнулись, поток учеников устремился в Большой зал. Гермиона вдохнула знакомый запах — воска, жаркого, дыма от сотен свечей. Потолок отражал ненастное небо с тяжелыми облаками, но сам зал сиял светом и голосами. Старшие смеялись, толкались локтями и оживленно беседовали, обмениваясь последними сплетнями и впечатлениями о прошедшем лете.
Гермиона как раз наблюдала, как первокурсники робко жались к дверям Большого зала, когда заметила — один из них, пухлощекий мальчик с нелепо длинным для него плащом, отделился от группы. Он шагал важно, но по-заячьи косился по сторонам, словно проверял расстановку сил в зале.
— Ты заблудился? — мягко спросила Гермиона, слегка наклоняясь, чтобы оказаться с мальчиком на одном уровне.
Щеки у него были пухлые, глаза — круглые, внимательные, и при этом во взгляде неожиданно сверкнула такая самоуверенность, что Гермиона едва не улыбнулась.
— Я не заблудился, — сказал он обиженно. — Я ищу профессора Дамблдора. Мне нужно обсудить с ним факультет, на котором мне следует учиться.
Гермиона прыснула от смеха, поспешно прикрыла рот ладонью и изобразила серьёзность.
— Боюсь, директор сейчас немного занят, — сказала она сдержанно, хотя глаза предательски смеялись. — Но уверена, он с удовольствием уделил бы тебе внимание, если бы мог.
Мальчик поджал губы, недовольно фыркнув:
— Ну и зря. Это слишком серьезный вопрос, чтобы доверять какой-то шляпе. — он подернул плащ так, будто у него на плечах была мантия главы департамента тайн. — Если эта дурацкая шляпа решит засунуть меня к трусам или к болтунам, я сам придумаю, как её переубедить.
— Ах, — протянула Гермиона, стараясь говорить максимально мягко, словно с ровесником, а не с первокурсником. — Но знаешь, эта «какая-то шляпа» веками прекрасно справлялась с задачей. Ей можно доверять.
— Если у неё есть мозги, то возможно, — отрезал он. — А если нет — тогда я ее перехитрю.
Гермиона зажала губы зубами, чтобы не рассмеяться, и покачала головой, представляя себе этот будущий «разговор» её юного собеседника с древней Распределяющей шляпой.
— Уверена, что у тебя получится. Но послушай мой совет, — сказала она, осторожно положив ладонь ему на плечо. — Не спорь с Шляпой слишком громко. Она терпеть этого не любит.
Мальчик двинулся, но обернулся еще раз, смерив её взглядом с подозрительной серьезностью:
— Если эта Шляпа отправит меня к идиотам, которые обнимаются по утрам и думают, что дружба спасет мир, мой отец узнает об этом! И он ей покажет!
Гермиона едва не закатила глаза и с трудом сдержала смешок.
— Ладно, тебе нужно вернуться ко входу в зал, — сказала она, осторожно коснувшись его плеча и подталкивая обратно к кучке первокурсников.
Слизерин. Без вариантов.
Мальчик двинулся прочь, важно переставляя ноги, и Гермиона ещё секунду смотрела ему вслед.
И вдруг, словно сама тишина упала на каменные плиты, в центре зала поднялся директор. Высокая фигура в сверкающей мантии, с серебряной бородой, струившейся до пояса, будто сама вплетенная в свет свечей. Оставшиеся стоять студенты еще секунду назад уже сидели за столом, внимательно глядя в сторону директора и Гермиона поспешила последовать их примеру.
— Добро пожаловать в Хогвартс, — произнёс Дамблдор негромко, но так, что слова легли на каждый стол. — Прежде чем мы начнём ужин, мне следует сказать вам несколько важных вещей.
Гермиона почувствовала, как у Рона справа напряглись плечи. Гарри выпрямился. По залу, как от лёгкого ветра, прокатилась волна ожидания.
— Внешний мир неспокоен, — продолжил директор. — И наша первостепенная задача — сохранить безопасность тех, кто вверил себя стенам этой школы. В связи с рекомендациями Министерства и решениями профессорского состава защитные чары Хогвартса усилены. Патрули в коридорах будут увеличены. Ночное время — после отбоя — строгое. Прошу помнить: все правила действуют не для того, чтобы лишать вас свободы, но для того, чтобы сохранить вам её.
У гриффиндорского стола кто-то едва слышно пробормотал: «Опять патрули...» — и затих под взглядом Макгонагалл. Рон наклонился к Гермионе, но не сказал ни слова; она уловила движение его кадыка — сглотнул.
— Путь через каминную сеть, — продолжил Дамблдор, — будет возможен только по личному разрешению преподавателя и при его присутствии. Попытки обойти это правило будут рассматриваться как серьёзная угроза безопасности.
Слева от Гермионы Симус втянул воздух, Джинни шепнула: «Значит, из гостиной не выйдешь...» — Невилл тихо добавил: «Зато... надёжно». Гермиона уловила в голосах ропот и одновременно облегчение — странную, но узнаваемую смесь.
— Письма родным и встречи с посетителями, — Дамблдор говорил ровно, без привычной мягкости и плавности, — не отменяются. Но всякая переписка и всякий визит — предмет особой внимательности. Мы будем беречь ваш дом, и я прошу вас беречь его вместе с нами. Любая насторожившая вас мелочь — неизвестное лицо на территории, странная записка, забытый предмет — должна быть немедленно сообщена вашему декану или ближайшему преподавателю.
За столом кто-то шевельнулся. «Это он... намекает?» — едва слышно спросила Лаванда. Гермиона заметила, как Гарри едва заметно кивнул самому себе; глаза у него потемнели.
— И ещё, — Дамблдор задержал взгляд на каждом столе, будто лично встречался глазами с каждым учеником. — Это школа, а не арена для распрей. Слова бывают не слабее заклинаний. В год, когда нам всем потребуется мужество, я прошу вас: держите язык и палочку при себе. Не позволяйте страху подменять разум, а злости — честь. Сохраняйте достоинство. Свое — и тех, кто рядом с вами.
«Слова — не слабее заклинаний». Гермиона почувствовала, как эта фраза отзывается в груди. Рон коротко фыркнул: «Слизеринцам бы это услышать...» — но осёкся, уловив, что директор смотрит как раз в сторону стола с изумрудными галстуками.
— Наконец, — тихо подвёл он, — в ближайшие месяцы многим из вас придётся принимать решения. Не торопитесь с теми, что необратимы. Спрашивайте. Сомневайтесь. Помните: осторожность — не трусость, а верность — не повод для жестокости. Я и весь профессорский состав здесь для того, чтобы вы могли учиться, а не бояться.
В зале не аплодировали — никто не осмелился нарушить эту тишину. Гермиона заметила, как у Макгонагалл напряглись скулы и тут же расслабились; Снейп неподвижно сидел, опустив руки на чёрные подлокотники, взгляд — как нож. Где-то по левую руку от директора мелькнул розовый бант — Амбридж. Гермиона узнала её сразу.
Она видела её и раньше, летом, когда присутствовала на заседании Визенгамота во время слушания по делу Гарри. Тогда, сидя между сухощёкими старцами в тяжёлых мантийных воротниках, Амбридж казалась чужеродным пятном — словно леденцовый фантик, случайно оказавшийся в камине. Но фантик не сгорал. Наоборот, переливался тем самым жизнерадостным розовым, который раздражал и пугал одновременно.
Тогда её голос — визгливый и приторный — резал слух, когда она почти с наслаждением выговаривала Гарри за «клевету». Она не просто сомневалась в его словах — она высмеивала их, бросала на растерзание остальным. И Гермиона тогда впервые ощутила к ней отвращение, едва ли не физическое.
Теперь же эта женщина сидела за преподавательским столом. В розовой мантии, с бантом, настолько вызывающим, что он казался символом. Как розовые очки, надетые на всё Министерство. Очки, через которые Фадж и его приближенные упорно смотрели на мир, делая вид, будто тьмы нет, будто сама реальность — всего лишь испорченная детская сказка.
Гермиона крепче сжала руки на коленях. В груди всё сжалось от отвращения: они будут отрицать до последнего, пока не станет слишком поздно.
Тем временем Дамблдор перешёл к представлению преподавателей. Его голос звучал спокойно, размеренно:
— Как обычно, разрешите представить вам тех, кто проведёт с вами этот год. Профессор Флитвик — заклинания. Профессор Спраут — травология. Профессор Снейп — зельеварение. Профессор Вектор — арифметика. Профессор Биннс, как всегда, история магии. Профессор Макгонагалл — трансфигурация.
Каждое имя сопровождалось всплесками аплодисментов, но Гермиона уловила: зал слушал иначе, чем обычно. С напряжением. Словно ждали, на ком именно задержится голос директора.
И он задержался.
— Также... — сказал Дамблдор, оборачиваясь к составу преподавателей по левую руку. — Я рад представить вам нового преподавателя по Защите от тёмных искусств — профессора Долорес Джейн Амбридж. Профессор Нумерологии...
Кашель Амбридж разрезал тишину, приторный, слишком нарочитый — так кашляют не от удушья, а ради внимания. И она его получила. Она поднялась с места, словно пружина, и, сложив руки перед собой, зашагала к центру зала, туда, где стоял директор. Её шаги цокали по каменному полу, как удары молоточка в суде. Розовая мантия переливалась в свете свечей, и казалось, что весь Большой зал внезапно наполнился этим цветом, липким и душным.
Гермиона почувствовала, как в груди поднимается тяжесть, будто в легких не воздух, а густой сироп.
Она увидела, как Дамблдор слегка приподнял брови. Ничего не сказал — только сместил взгляд на Амбридж. Этот взгляд был мягким, почти учтивым, но в нем сквозило железо. И всё же он отодвинулся чуть в сторону, уступая ей место у центра стола, а затем и у подиума, словно сам приглашал.
Амбридж поднялась, улыбка её сияла, как вышитый румянец на кукле. Она остановилась в центре, сложив пухлые руки на животе, и начала говорить тем самым голосом — визгливым, но нарочито певучим, будто она обращалась к младенцам.
— Спасибо, директор, — голос Амбридж разнесся по залу, и у Гермионы похолодело в животе. — Дорогие мои деточки, как приятно видеть ваши светлые лица снова в этих стенах. А кое-кто из вас и вовсе видит этот зал впервые! Этот год станет для нас всех особенным!
Рядом с ней Рон тихо прошептал, не отрывая взгляда "особенным? Точно. В худшем смысле."
Симус едва сдержал смешок. Но Амбридж продолжала — и каждое слово вязло в густом фальцете её тона.
— Министерство всегда заботилось и будет заботиться о вас, о ваших семьях, о будущем нашего мира. И мы не позволим, — её голос дрогнул на высокой ноте, — чтобы кто-либо вводил вас в заблуждение.
На слове «никто» Гермиона заметила, как Дамблдор слегка прищурился, но ни единым движением не вмешался.
— В последнее время, — продолжала Амбридж, — ходят абсурдные слухи. Крайне вредные слухи, — она качнула головой, будто отчитывала провинившегося ребёнка. — И мы, взрослые, не можем позволить, чтобы наши юные умы были отравлены ложью и страхом.
За столом раздалось шипение. Невилл пробормотал себе под нос, так что услышала только Гермиона: «Ложью»? А что же тогда правда?".
Гермиона хотела шикнуть на него, но сама едва не заскрипела зубами.
Амбридж улыбалась, словно не замечая тихих перешёптываний. Она качала головой так размеренно, что бант на её груди колыхался вместе с каждым словом.
— Мы должны быть бдительны, деточки. Мы должны помнить: порядок и дисциплина — залог нашей общей безопасности. Министерство магии внимательно следит за ситуацией, и вы можете быть совершенно спокойны. Всё под контролем.
На словах «совершенно спокойны» Гермиона почувствовала, как её пальцы сами собой сжались в кулак. Перед глазами встал образ Люциуса Малфоя в зале Визенгамота, как он улыбался, проходя мимо, будто не существовало угрозы, будто смерть была всего лишь игрой.
За столом снова донёсся перешёптывающийся смешок: Парвати склонилась к Лаванды и прошептала: "Если «всё под контролем», значит, всё наоборот."
Амбридж между тем делала паузы, чтобы подчеркнуть каждую «мудрую» мысль:
— Правильное обучение... требует правильного подхода. И мы не будем тратить время на опасные практики или необдуманные эксперименты. Вместо этого вы получите прочную, надёжную теоретическую основу, — она выделила это слово, точно речь шла о кулинарном рецепте.
Рон приподнял голову, уставившись на неё, и негромко прошептал:
— То есть без защиты от Тёмных искусств. Отлично. Будут кормить конспектами, пока в нас летят заклинания.
Гарри молча смотрел на Амбридж, сжав губы в тонкую линию. Гермиона почувствовала его напряжение, почти так же сильно, как своё.
Амбридж закончила с сияющей улыбкой:
— А теперь, мои дорогие, давайте все вместе сделаем этот год самым плодотворным и мирным.
И вернулась к столу.
Тишина тянулась долго. Ни аплодисментов, ни слов. Только шелест плащей и короткий кашель кого-то из дальних рядов.
Гермиона заметила, как Дамблдор мягко склонил голову в её сторону — будто признавал её право сказать всё это. Но когда он поднял глаза к залу, взгляд был тяжёлым и непроницаемым, и в нём скрывалось: «Слушайте. Запоминайте. Делайте выводы».
Минерва Макгонагалл поднялась из-за преподавательского стола и направилась к двери, где жались первокурсники. Её шаги отдавались в каменном полу, и даже в этой суете Большого зала они звучали как команда, требующая тишины.
— Первокурсники, подойдите ко мне, — произнесла она громко и чётко.
Дети, сбившиеся в кучку у двери, послушно двинулись вперёд. Кому-то мантия была велика и путалась под ногами, кто-то то и дело поправлял съезжающую на глаза шляпу, кто-то нервно кусал губу, а один мальчишка так и вовсе прижимал к груди клетку с совой, будто именно она могла защитить его от предстоящего испытания.
Впереди стоял стул — низкий, будто издевательски детский, и на нём — Распределяющая шляпа. Она была стара, вся в потертых складках, но в этой обветшалости было что-то большее: вес веков, голос, в котором звучали решения тысяч и тысяч учеников.
Гермиона почувствовала, как сердце невольно кольнуло воспоминанием. Она тоже когда-то стояла на этом месте — маленькая, перепуганная, с тянущейся к ответам жадностью, но ещё без опыта, без понимания того, что впереди. Тогда ей казалось: сейчас её жизнь решится одним словом. Что именно шляпа определяет, кем она станет.
Но теперь... теперь она знала больше.
Шляпа лишь облекает в мантию то, что уже живёт в тебе. Она не придумывает, а подтверждает. Голос внутри, который слышишь ты сам — именно он становится факультетом. Это не приговор и не чудо, это зеркало. Шляпа только даёт этому зеркалу имя.
Она смотрела, как первый ученик сел на стул, как ткань опустилась ему на голову. Лицо мальчика было напряжённым, но не испуганным — скорее любопытным. В зале повисла тишина, а потом:
— Хаффлпафф!
Жёлтый стол взорвался аплодисментами, и Гермиона поймала себя на улыбке. Ей было легко вспомнить то чувство — неважно, что за слово выкрикнет Шляпа, важна сама принадлежность, тот момент, когда ты становишься частью чего-то большего, чем ты сам.
Очередь двигалась. Шляпа шептала слова, которые становились судьбами. «Гриффиндор», «Равенкло», снова «Хаффлпафф». И каждый раз ребёнок, срывающийся со стула, сиял так, будто ему только что вручили самое драгоценное в мире.
Гермиона думала о том, что дети ещё не знают, в каком времени им предстоит жить. Они будут гордиться цветом своих галстуков, будут петь гимны факультетов, и только позже поймут: всё это лишь символы. Суть — в том, какие решения ты принимаешь, когда символы не могут тебе помочь.
Она смотрела на взволнованные лица первокурсников и вдруг ощутила странную нежность — словно хотелось защитить их от всего, что грядёт. От знаний, которые еще не пришли к ним. От теней, которые рано или поздно настигнут.
Гермиона вздрогнула от резкого, как удар, крика:
— Слизерин!
На стуле сидел пухлощекий мальчишка в длинной мантии — тот самый, что на минуту потерялся в толпе. Он слез, сияя самодовольной улыбкой, и гордо посеменил к зелёному столу, будто всегда знал, что окажется именно там. Гермиона невольно закатила глаза, но уголок её губ дёрнулся в улыбке.
Слизерин. Без вариантов.
***
...Тьма сомкнулась.
Лес принял её, как холодная вода — без дна. Ветки били по лицу, оставляя мокрые, липкие полосы — то ли дождь, то ли кровь. Корни, как чёрные пальцы, цеплялись за голени, тянули назад. Далеко позади шуршали плащи, и этот звук был хуже топота: в нём было терпеливое, обученное ожидание охотника. Где-то хрустнула ветка — кто-то наступил точно, на носок, не спеша. Кто-то, кто знал, что дичь никуда не денется.
Она машинально потянула руку к карману — и провалилась в пустоту. Палочки не было.
Гермиона споткнулась, упала коленом в сырую землю, глотнула вкус плесени. Виски колотились, сердце шарахалось о ребра; в рот подтянулся железный привкус, и только тогда она поняла: кровь течёт с рассечённой брови. «Гарри? Рон?» — крик сорвался, но лес проглотил его, как будто у него была мягкая, теплая пасть. В ответ — ничего, кроме тонкого, как струна, шороха.
Сквозь ветви, из той части леса, куда она не смотрела, поползло шипение — змеиное, влажное; оно не было звуком, оно было движением воздуха: с-с-с... Ей показалось (или нет?), что поверх этого шипения накрывается ледяной, плавный голос, где каждое слово — гвоздь.
— Иди сюда, девочка.
Она вжалась плечом в ствол, нащупала шершавую кору: лодыжку сводило от боли, пальцы дрожали, дыхание рвалось клочьями.
И тут лес сдвинулся — не шагом, не ветром. Сама температура упала, как если бы кто-то снял солнце с неба и убрал в карман. Звуки отступили — даже насекомые исчезли, и сырая тишина стала плотной, как ткань. Из-под деревьев, из самого провала между ними, выплыло нечто чёрное, как оторванная тень. Плащ не развевался — он висел, как мокрая мантия, и под ним не было ничего, кроме узкой пустоты, куда утекали тепло и мысль.
Дементор.
Он не шагал — он заполнял собой пространство, как чернила, растекающиеся по воде. Воздух вокруг него слипся инеем. Гермиона сделала вдох — и не нашла воздуха. Его руки — не руки, а два обглоданных силуэта — медленно поднялись. Под капюшоном не было лица. Была только зияющая дыра, и из этой дыры тянуло таким холодом, что у неё болели зубы.
«Экспекто...» — губы не слушались, язык был деревянным. Она попыталась ухватиться за тёплую картинку, как её учили: огонь в камине, Рон, ругающийся на шахматную фигуру; Гарри, хохочущий, когда снег ударяет в очки; кружка сливочного пива в «Трёх метлах»; письмо от родителей с корявыми сердечками. Картинки вздрогнули и посерели, как выцветшие фотографии, на которые пролили воду, — и побежали ртутью от неё, не давшись поймать.
Дементор наклонился. Ветер качнул его тень, и Гермиона поняла — её ждёт поцелуй. Поцелуй — как словарь нерушимого ужаса. Она знала, что это значит: пустая, пустая, пустая жизнь после того, как тебя вывернут наизнанку и уберут главное. Стало до смешного тихо — даже собственное сердце отступило.
Он наклонился ближе. Под капюшоном, где должно быть дыхание, был вакуум — дыра, тянущая воздух из мира. У неё задрожали колени; она попыталась оттолкнуть его, но пальцы прошли сквозь холод, как сквозь густой туман. В голове — только гул, как у моря перед бурей. Лицо дементора накрыло ее.
И мир пошёл назад.
Сначала — вкусы. Привкус металла, ставший пустым, как железная ложка. Тёплая память разломалась, как тонкий лёд: ломти смеха, ломти запахов, ломти слов. Её вынимали из неё аккуратно, экономно, будто разрезали на части ножом без лезвия. Где-то далеко кто-то плакал — тонко, жалко, — и она поняла, что это плачет она. И в тот же момент — что она уже далеко. За лесом. За телом. Её тянуло в пустоту, и пустота обещала покой.
— Гермиона!
Крик прорезал холод, как молния. Всё обрушилось: лес, чёрный капюшон, ледяная дыра — на дне которой лежала тишина. Она резко распахнула глаза — и не сразу поняла, где. Её трясло; в горле рвался хрип, руки упирались во что-то тёплое, крепкое. Кто-то держал её — за плечи, за спину, так крепко, что это было больно — и правильно.
— Гермиона, дыши, дыши! — это был голос Джинни, невероятно близкий, мягкий, как шерсть на горлышке свитера. Тёплые пальцы погладили её по волосам, прижали ладонью к виску. — Всё хорошо, ты в башне, слышишь? В башне.
Занавеси балдахина дрожали от её рваного дыхания. На колышущейся кромке загорелся свет от произнесенного lumos: Парвати стояла с другой стороны кровати, бледная, с прикусом на нижней губе.
— Я... я... — слова не собирались. Казалось, что язык всё ещё деревянный. — Дементор...
— Нет дементоров, — Джинни обняла её крепче, гладя по лопаткам. — Только мы. Ты кричала. Очень кричала. Я думала, что ты...
Гермиона зажмурилась. Веки были мокрыми, ресницы слиплись — стыдно и сладко одновременно: быть живой, быть здесь. В комнате пахло воском, старой деревяшкой и лавандой. Где-то под потолком тикали часы — размеренно, с человеческой поспешностью. Из камина, за стеной гостиной, глухо беседовал огонь.
— Воды? — прошептала Парвати, и на тумбочке тут же зазвенело стекло. Она услышала, как девушка бормочет aguamenti, прежде чем стакан появился перед ее лицом — ...вот.
Гермиона сделала глоток, ухватилась за край стакана — пальцы всё ещё дрожали. Джинни не отпускала. Это удивляло и не удивляло одновременно. Джинни могла быть шумной, смешной, слишком увлечённой историями про квиддич — но сейчас её руки держали крепко и уверенно, как держат канат, когда друга вытягивают из воды.
— Прости, — хрипло сказала Гермиона. Голос был чужой, низкий. — Я... не хотела вас будить.
— Ещё скажи, чтобы мы подали жалобу на имя декана, — пробормотала Джинни, пытаясь улыбнуться. В первом ряду улыбки едва заметно дрожали под накатившим страхом. — Гермиона, правда, всё нормально. Ты дышишь. Ты тёплая. Ты уже ругаешься на себя — добро пожаловать назад.
Гермиона попыталась рассмеяться — вышло коротко, сухо. Внутри ещё долго ходили льдинки. На мгновение ей почудилось: холод отступил, но оставил тончайший шрам — не на коже, на чём-то глубже. Там, где живут слова.
— Никому не говорите, — сказала она после паузы, тише. Не приказ — просьба. — Пожалуйста.
Джинни кивнула сразу, не спрашивая. Парвати — вслед, чуть задумчивее.
— Только если Макгонагалл не решишь... — осторожно начала Парвати и не договорила. — Ладно. Сейчас не время.
Тихо, молнией, что-то щёлкнуло в камине. Ветер подтолкнул занавески. Гермиона с трудом разобрала знакомые очертания: свой сундук у ножки кровати; стопку книг на табурете; вешалку с мантией; «мышиный» коврик у кровати Джинни. Она перечисляла вещи, словно проговаривала заклинание «Я здесь». Счёт вещей вернул дыхание.
— Я... справлюсь, — сказала она чуть уверенней. — Ты права, я поговорю с Макгонагалл.
Джинни медленно разжала руки, но ладонь её осталась на Гермионином плече — якорем.
— Если ещё что-то — толкни меня, я сплю как хомяк, но просыпаюсь как кошка, — попыталась пошутить она и, кажется, впервые за вечер улыбнулась почти по-настоящему. — И... не упрямься. Мы за тебя переживаем.
Гермиона кивнула, не находя ответа, и на миг позволила себе поверить, что простые слова друзей способны удержать её на поверхности. Эта уверенность была хрупкой, как стекло, но именно она — единственное, что не давало ей окончательно разломиться внутри.
Когда свет погас, комнату снова мягко наполнила темнота — не та, лесная, вязкая, а домашняя, где у темноты есть края. Шорох одеял вернул ритм ночи в башне. Голова провалилась в подушку. Сердце ещё стучало слишком быстро, но каждый удар был уже её.
Она смотрела в темноту — ту, где потолок, балки, её собственное дыхание. «Это сон, — сказала себе. — Но сон был из того, что реально».
Далеко внизу часовня пробила половину ночи — глухо, как сердце замка, напоминая о времени, что ускользало сквозь пальцы. Гермиона повернулась на бок, подогнула колени и прижала ладонь к груди, словно проверяя: там ли ещё тепло, вернувшее её из темноты. Сон больше не пришёл бы. Она знала это и, отсчитывая удары тишины до рассвета, шёпотом, почти без слов, дала себе клятву: завтра. Завтра она найдёт способ себя спасти.
***
Аудитория теплицы дышала тяжёлой, влажной прохладой. Запах земли, перегноя и чего-то едкого травяного клубился над рядами столов, где громоздились кадки с ядовитыми плющами и замотанными в льняные ткани мандрагорами. Профессор Спраут ходила между партами, поправляя перчатки и оживлённо рассказывая о новом цикле растений, которые, по её словам, требовали «особого терпения и чуткости».
Гермиона сидела на первом ряду вместе с Гарри. Голова у неё была тяжелой — как будто наполнена свинцом. Она пыталась записывать в тетрадь названия растений, но буквы плясали. Всё тело сопротивлялось бодрости: ночь выжала её досуха, и даже прохладный воздух теплицы не спасал.
К счастью, половина класса выглядела не лучше: красные глаза, сонные лица, небрежные узлы галстуков. Но причина была совсем иной. Прошло меньше пяти часов с тех пор, как Дамблдор и Амбридж возвышенно вещали о новых мерах безопасности, о чарах-преградах, о порядке и дисциплине, — и всё же ученики Хогвартса нашли лазейку. Нашли и, как всегда, обернули её в праздник. Гермиона знала: едва стихла торжественная речь, как в замке зашептались заклинания, открылись потайные ходы, и подземные коридоры превратились в беговую дорожку для безумного квеста — огонь в каминах гас, чтобы скрыть шум, фляги передавались из рук в руки, а Филч, в своей вечной ярости, носился по этажам, натыкаясь на пустые коридоры, когда смех и топот уже откатывались к другому крылу. Половина класса теперь расплачивалась за этот вызов правилам — опухшие глаза, скомканные перья, сонливость, скрытая под ленивыми ухмылками.
Позади неё Рон сонно уронил голову на руки, но через минуту оживился, когда Спраут сказала, что корни «Сквернорослей» могут при неправильном обращении обвить запястья и не отпускать часами.
— Звучит как отличный подарок Снеггу, — пробормотал он, ухмыляясь.
— Рон, — Гермиона даже не обернулась, отмахиваясь, словно от назойливой мухи.
Гарри чуть подался к ней вперёд, его голос прозвучал низко и осторожно, так, чтобы не услышали остальные:
— Всё в порядке?
Гермиона, не поднимая глаз, упрямо водила пером по бумаге, выводя уже не буквы, а корявые закорючки. Чернила собирались в кляксы, но она никак не могла заставить себя остановиться. Сосредоточиться на чём угодно — лишь бы не отвечать.
— Гермиона? — повторил он тише, и в этой второй попытке было больше заботы, чем вопроса. Он смотрел на неё так, будто искал ответ в её лице. — У тебя кошмары? Ты поэтому почти не спишь?
Перо застыло в её руке, будто к ней приросло. Сердце больно кольнуло — так внезапно, что она едва не уронила его. Она резко повернула голову и встретила его взгляд.
Глаза Гарри — усталые, с тенью под ними, но всё такие же прямые и честные — в этот миг будто пронзили её насквозь. В них не было осуждения, только понимание, слишком близкое, слишком точное. Гермиона ощутила, как по спине пробежал холодок, словно он действительно заглянул в самую глубину её сна, где стояли дементоры, где шептались змеи и где чёрная тень не давала вдохнуть.
Она моргнула, и воздух застрял в груди. Словно Гарри в одно слово назвал то, что она так старательно прятала — от него, от Рона, от самой себя.
Сердце ударило громче. И снова. С глухим эхом в ушах.
Ей хотелось отрицать, отмахнуться, улыбнуться, как обычно. Но в горле вдруг пересохло, и единственное, что она смогла — это молча смотреть на него, сжав губы так крепко, будто от этого зависела её сила оставаться в равновесии.
— Мисс Грейнджер, мистер Поттер, — голос Спраут прозвучал строгим аккордом. — Если вам так важно поделиться друг с другом секретами, сделайте это после урока. Минус десять баллов с Гриффиндора.
— Великолепно, — тут же раздалось с соседнего стола. Пэнси Паркинсон, сидевшая рядом с Малфоем, театрально захлопала в ладоши. — Грейнджер, как всегда: умница, отличница, спасительница баллов.
Слизеринская сторона обменялась насмешками, обращенными ко второй половине класса.
— Заткнись, Паркинсон, — отрезал Гарри, глядя прямо на неё.
— О, наш Избранный, — протянул Забини, голос тягучий, ленивый, но слова — острые, как бритва. — Сам Гарри Поттер вступился за свою... ручную грязнокровку.
Слова зависли в воздухе, будто ударили по залу. Несколько слизеринцев прыснули смехом, кто-то хмыкнул так громко, что это прозвучало оскорбительнее самой фразы.
— Повтори, — Рон рывком подался вперёд, так что стул загремел по каменному полу. Его уши покраснели, глаза метали искры. — Повтори, ублюдок!
Забини ухмыльнулся, облокотившись на локоть.
— Ты и так услышал, Уизли. Впрочем, можешь не благодарить: я просто назвал вещи своими именами.
— Заткнись, Забини,— прошипел Гарри, поворачиваясь к мулату через плечо.
Драко хмыкнул, не торопясь поднимать глаза. Он спокойно откинулся на спинку стула, закинул ногу на ногу, будто всё происходящее было дешёвым спектаклем, который он наблюдает из ложи. Пальцы лениво крутили перо в руках, уголок губ тронуло презрительное движение.
И именно эта его безразличная, театральная отстранённость оказалась последней каплей. Гарри резко встал, ладонь легла на край стола.
— Что случилось, Малфой? Твой отец уже начал репетировать очередную байку про «я был под Империусом», чтобы снова не попасть в Азкабан?
Щёлчок был почти неслышным, но все уловили его — перо треснуло в пальцах Малфоя. Голова взлетела мгновенно, светло-серые глаза сузились в щель. Он поднялся медленно, но от этой медлительности по спине пробежал холодок.
— Повтори, — его голос был низким, хрипловатым, почти змеиным шипением.
— Люциус, — спокойно, даже слишком спокойно сказал Гарри. — Все в курсе, что твой отец один из них.
В теплице повисла тишина. Даже листья манящих мимоз перестали шевелиться, будто замерли вместе с учениками. Слизеринцы вскинули головы, гриффиндорцы напряглись, кто-то сдавленно ахнул.
— Гарри... — прошептала Гермиона, но голос предательски дрогнул, и это дрожание будто подхватил весь зал.
Малфой сделал шаг вперёд. Доски под его ботинками жалобно скрипнули, стол вздрогнул от толчка его колена. Его лицо стало белее мела, скулы резали кожу изнутри, губы изогнулись в тонкую, жестокую линию.
— Следи за языком, Поттер. Или я прослежу за ним вместо тебя.
Гарри сделал шаг ему навстречу. Их разделяло меньше шага, но между ними полыхало пламя — холодное, ледяное, от которого морозило до костей. Они смотрели друг на друга, как два хищника, готовые к броску.
Сзади кто-то нервно дернул воздух носом. Пэнси пискнула «Сделай же что-нибудь!», Забини хмыкнул «Тише, Паркинсон, сейчас будет весело». Рон уже поднялся, сжав кулаки так, что костяшки побелели.
Профессор Спраут беспомощно разводила руками, её голос утонул в гуле:
— Дети! Дети, немедленно прекратите!
Но никто не слышал. Мир сузился до двух фигур, стоящих друг напротив друга.
Драко и Гарри. Две стороны одной монеты, два мира, которые всегда сталкивались словами, но теперь впервые выглядели так, словно вот-вот столкнутся заклятьями. Их плечи напряжены, пальцы судорожно сжимают палочки, взгляды — неотвратимы. И Гермиона вдруг увидела то, чего больше всего боялась: это — пролог. Так будет выглядеть война. Не древние легенды и не страницы учебников, а вот так — бывшие школьники, дети, сидевшие за одними партами, теперь готовые убить друг друга. Тонкая грань, на которой рушатся дружбы, обрываются детства, и Хогвартс перестаёт быть домом, становясь тренировочной площадкой перед бойней.
Эта мысль ударила её сильнее любого заклинания.
Гермиона почувствовала, как воздух вдруг изменил плотность — он стал вязким, тягучим, словно не воздухом, а густым сиропом были наполнены лёгкие. Она попыталась вдохнуть глубже, но грудная клетка будто замкнулась на невидимый замок. Сердце ударило с такой силой, что боль отозвалась в рёбрах; звук собственного пульса оглушал, будто кто-то ударял в барабан прямо в её голове. Она едва не вскрикнула.
Сначала это было лёгкое головокружение — та зыбкая граница между обмороком и сознанием, когда мир кажется стеклянным и готовым в любую секунду расколоться. Она моргнула, но мир не стал яснее: наоборот, теплица начала расплываться. Капли росы на стёклах превратились в длинные, дрожащие линии, вытянутые до бесконечности, а лица вокруг смазались в бесформенные пятна, лишённые черт, как у фигур на старой фреске. Она уже не видела людей — лишь пятна света и тени.
В груди нарастала паника: сердце билось слишком быстро, и каждый удар был громче предыдущего. Это был не ритм жизни, а безжалостный барабан, загнанный в пустую камеру, и вся её реальность теперь строилась вокруг этого стука. Она слышала только его.
«Снова сон. Это снова сон», — пронеслось в голове, но в этот раз кошмар был настежь открыт в яви, и выхода из него не существовало.
Пальцы соскользнули с пера — оно упало и расплескало пятно чернил, которое тут же начало расползаться по пергаменту, напоминая черный сгусток крови. Гермиона схватилась за столешницу, ногти царапнули по дереву, но и дерево, и каменный пол под ногами казались ненадёжными: мир раскачивался, будто она стояла на шаткой палубе корабля в шторм.
Её тело отзывалось чужим, не своим. Руки дрожали, дыхание рвалось короткими, резкими рывками, и каждый вдох заканчивался ничем — воздух обрывался на полпути, не доходил до лёгких. Казалось, что горло стянули узлом, и она слышала этот узел в ушах — скрипящий, удушающий.
Мысли в голове разлетелись, и осталась лишь одна — навязчивая, липкая: воздуха нет. Эта мысль повторялась, как заклинание, вытесняя всё остальное. С каждым мгновением она росла, пока не стала гигантской тенью, перекрывающей собой весь мир.
Звуки вокруг исказились. Шёпот студентов, кашель, даже движения соседей за столами — всё это слилось в гул, похожий на шум глубокой воды. Словно она находилась под толщей озера, и каждый звук долетал до неё глухо и искажённо. В этот гул вклинивался лишь её собственный пульс, отдающийся в висках так, будто кто-то ударял молотком в стенку черепа.
Она чувствовала, как щеки холодеют, а ладони наоборот горят. Тело будто разделилось: одна её часть сидела за партой, вцепившись пальцами в столешницу, а другая — со стороны, беспомощно наблюдала за тем, как она тонет.
Я сейчас умру. Здесь. Прямо сейчас.
Веки дрожали, перед глазами стояли вспышки — белые и серые, как свет молний за закрытыми глазами. Руки предательски ослабли, и казалось, что она теряет контроль над телом: вот-вот упадёт, рухнет на каменные плиты, и это будет концом.
На миг она даже перестала бороться за воздух. И эта секунда показалась вечностью — холодной, бесконечной, как пустота.
На миг она действительно решила, что всё — конец. Сердце било слишком быстро, чтобы жить, а воздух рвался в горло и тут же исчезал, как будто кто-то дёргал вдохи за нити, не позволяя наполнить лёгкие. Она зажмурилась — и в черноте под веками вспыхнули белые искры.
И вдруг — сквозь гул крови и оглушающие удары сердца — прорезался голос. Глухой, будто из-под воды, но знакомый до боли:
— Гермиона!
Она попыталась открыть глаза, но мир плыл, и всё расплывалось.
— Гермиона, слышишь меня?! — ближе, настойчивее. Гарри.
Она хотела ответить, но вместо слов из груди сорвался только судорожный хрип.
Рядом мелькнул ещё один голос, срывающийся, почти гневный:
— Что с ней?!
Рон. Узнала бы в любом хаосе. Его паника была острой, неровной, как рваный край бумаги.
И сквозь это — будто игла в ухо, резкая и ядовитая:
— О, ну конечно, золотая девочка Грейнджер решила устроить спектакль, — Паркинсон. Её тонкий смешок разрезал пространство, и Гермионе показалось, что смех этот впивается ей прямо под кожу.
Мир закрутился, и она услышала ещё один голос, совершенно иной — низкий, раздражённый, но не насмешливый.
— Какого хрена? — это был Теодор Нотт. Она не видела его лица, но почувствовала, как это «хрена» пробило гул её собственного ужаса.
Она хваталась пальцами за воздух, но всё уходило, таяло. Лица, звуки, свет свечей над головами — всё вытягивалось, как краска на размытой акварели.
И последним — словно удар в колокол, звонкий и властный — прозвучал голос профессора Спраут:
— Разойдитесь!
Её ладонь взметнулась, и знакомые слова заклинания прорезали пространство, точно удар грома:
— Somnus!
В тот же миг её мир оборвался. Всё слилось в тьму — мягкую, густую, поглотившую и панический холод, и голоса, и боль.
И Гермиона рухнула в неё, как в бездонный колодец.