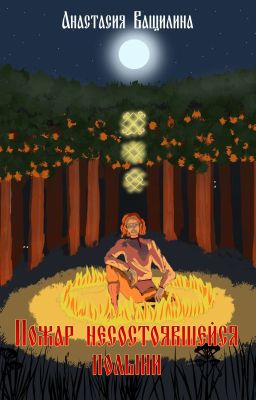ЧАСТЬ 1 - СИЛА, ЧТО НИКОГДА НЕ ДРЕМЛЕТ. ГЛАВА 1
Запомни ночь, что как торфяники горела:
Стон дерева, вой смерти, крики матерей.
Под погребальные слова на чьё-то тельце
Ложился пепел от костров из сыновей.
858 год, деревня Желтоворота, Новославь
Месяц травный
В большой горнице всегда вкусно и разнообразно пахло. То был запах пряников с заморской корицей, которую корабли изредка привозили в эти края. Запах свежих грибов, что повесили сушиться под потолком. И тушёного мяса. Обычно он означал, что в печи томится что-то съедобное. Вот и в этот раз Кристалина забежала в дом, надеясь ухватить что-нибудь до обеда, потому как завтрак пришлось пропустить; но лишь наткнулась на мать.
Чуть полноватая женщина, наречённая Любицей, с трудом перемещалась с большим количество мисок, плошек и горшков. Поставив кухонную утварь на стол, она подняла глаза на девушку.
— О, а ты чего тут делаешь, коза? — рассмеялась Любица. — Пожевать нечего, жди обеда. — Речь её звучала необычно, с характерным звоном и будто бы жужжанием, и Кристалине это нравилось — никто, кроме мамы, так не говорил в деревне.
— А я к тебе, матушка, — с лукавой улыбкой приблизилась Кристалина. Сравнение ничуть её не обидело. — Ты тут всё одна хлопочешь, вот думаю, помочь тебе надо. Надо ведь? — Нос уловил тонкий запах снеди, и девушка неосознанно громко втянула воздух.
— Ох и хитрая же ты, — улыбнулась мама и вручила дочери часть посуды. — Ну, раз решила мне помочь, натри деревянное льняным маслом, а глиняное промой хорошенько от пыли и копоти. Только смотри, не побей ничего. А то знаю я, как ты с водой баловаться любишь.
Кристалина скорчила обиженное лицо, наиграно выпятила нижнюю губу.
— Да полно тебе, матушка, уж мне-то сложно что-то разломать. В отличие от Онагоста. — Она звонко хихикнула своей маленькой остро́те.
Любица шуточно замахнулась тряпкой на Кристалину за нарочное «матушка», но девушка уже умчалась прочь с горой посуды.
В широкое открытое окно с ветром попадали крупные облачка пуха и тут же вылетали в распахнутую дверь, чудом не цепляясь за узорный косяк. Громоздкая белая печь, вычищенная до блеска, занимала четверть горницы. Большой стол у красного угла, множество старых крюков в стене, полки для трав и настоев. Лестница, ведущая наверх, была устлана слоем листьев и лепестков — заготовки даров ранней весны переносили вниз, чтобы разложить по холщовым мешочкам. Запах цветов и зелени перебивался запахом пирога из печи — всё-таки что-то от Кристалины упрятали.
Уборка шла полным ходом, и вот уже пыль серым облаком вылетала из двери, от чего соседский кот расчихался и, недовольно мяукнув, пошёл подальше от дома.
На очереди были подушки.
— Мама! Промыслитель помилуй, зачем же ты с порога выметаешь? — Онаго́ст недовольно смотрел на неё из дверного проёма, уперев руки в бока. — Дышать просто невозможно!
Любица охнула.
— Ну прости, собрать пыль не во что. — Одеяло и табурет полетели наружу, во двор. — Там отвар твой с утра остался на столе, можешь допить.
Онагост оглядел слегка опустевшую горницу, про себя отметив, что стало гораздо светлее, и прошёл к столу. В кружке действительно осталось немного снадобья, но на поверхности плавала пыль. Он скривился и, пока мать отвернулась, вылил жидкость у порога.
В узкую, но грубоватую на ощупь женскую ладонь легла деревянная выбивалка. Любица вышла во двор и подобрала табурет и одеяло, которые успели облюбовать муравьи. Одним движением руки она накинула ткань на протянутую от забора к забору верёвку, расправила и принялась тщательно проходить по ней выбивалкой. В небо взметнулись серые клубы пыли.
Онагост закашлялся и поспешил уйти туда, где воздух чистый и никто не шумел, но по-прежнему было с кем поговорить, а может, и кому помочь — к сестре. И найти её оказалось несложно.
Идти на реку к другим девушкам, полоскавшим бельё, Кристалина не захотела, потому сидела у ручья, бьющего недалеко от дома, и полоскала очередной глиняный кувшин. Вода в нём появлялась и тут же выливалась из опрокинутой вверх дном девичьей рукой посудины. Потом снова набиралась и снова оказывалась за бортом. Кристалина внимательно следила, как струя сбивала куски нагара. Она поставила сухой кувшин на траву и принялась ополаскивать горшок от чёрного слоя гари, оттирая застарелые пятна тряпицей.
Онагост присел рядом, сложил руки лодочкой, зачерпнул в ладони холодной воды и плеснул на сестру. Та не шелохнулась, лишь поняла на него глаза, глядя исподлобья.
— Ты по-моему кое-что забыл. Нахождение на ярмарке у тебя память отшибло или уверенности прибавило, тебе не кажется?
— Нет, не кажется. — Он весело улыбнулся, опять зачерпнул воды и махнул рукой на Кристалину.
Но вода не успела долететь до сарафана. Капли остановились в паре вершков от ткани и вернулись обратно к хозяину, намочив рубаху и порты.
Улыбка на лице Онагоста стала хитрой. Он прищурился, переступил одной ногой через ручей так, чтобы вода протекала ровно между голыми ступнями.
— Ты не посмеешь... — ахнула Кристалина.
— Поспорим?
Он наклонился к ручью и принялся быстро перебирать руками, забрызгивая девушку.
— Ой! — только и успела пискнуть Кристалина и закрыла лицо ладонями.
Онагост весело хохотал, ничего не различая из-за капель и шума. Он яростно загребал воду под громкие девичьи визги, и так летела прямо на сестру. В очередной раз руки скользнули по низу и загребли песок и камни. Парень непонимающе опустил взгляд.
Ручья под ногами не оказалось, лишь сырое каменистое дно, блестящее от влаги.
Онагост вскинул голову и увидел большой шар воды, размером с телёнка, а затем Кристалину за ним.
— Я предупреждала, — нараспев произнесла она с усмешкой.
Онагост мгновенно подскочил и собрался бежать, но брошенный шар оказался быстрее. Парня окатило ледяной водой с головы до ног. Снесённый волной, он повалился на землю и попытался хотя бы уползти, но руки и босые ступни заскользили по мокрой траве. Онагост беспомощно забарахтался в луже, задыхаясь от досады. Он рывком перевернулся на спину, попытался освободить глаза от прядей, но мокрые налипшие на лоб волосы плохо поддавались таким же мокрым пальцам. Через образовавшуюся щель он увидел второй шар воды, стремительно летевший в его сторону.
Город Станецк, Новославь
— Эй, Житеслав, гляди!
В маленькой ручке блеснуло золотом. Девчушка вдела что-то в отверстие в шраме под его нижней губой и придирчиво осмотрела.
Житеслав осторожно потрогал место языком. На вкус это «что-то» отдавало железом и немного солью — руки девочки были покрыты свежими царапинами. Наверное, упала где-то.
— Я нашла её у одного из прилавков на ярмарочном развале, видать, обронил кто-то из княжеских господ. Серёг я не ношу, а тебе в самый раз. — Она поглядела на его растерянное лицо и заливисто рассмеялась.
Житеслав вмиг смутился. Он не нашёлся, что ответить. Ещё никто не делал ему таких простых подарков, никто не украшал его изъяны, а наоборот, всегда тыкал, всегда напоминал, мол, гляди, ты красив, но недостаточно.
— Спасибо?.. — неуверенно и тихо сказал он, дивясь сам себе. Неужели его так просто смутить обычной девичьей забавой?
Девчонка хихикнула.
— Не за что! — Она хитро прищурилась, убедилась, что шалость удалась, и убежала в стайку ребят, таких же, как она: рыжих и темноглазых.
Он не знал её имени, да и не мог: такие обычно прячутся в подполе и не показываются на людях.
Ребятишки что-то бойко обсуждали, старались перекричать друг друга, иной раз кто-то кого-то толкал. Из многоголосья доносились обрывки фраз, которые обычно и произносят малые дети, ещё неоперившиеся птенцы.
Житеслав снова коснулся языком посторонней вещицы. Круглое. Пальцами он нащупал серьгу, тонкую, словно кольцо. Она была вдета в изодранную и уродливо зажившую тонкую прорезь под губой по правой стороне, протыкая её и замыкаясь, будто опоясывая. Сообразив, что серьга эта могла лежать неизвестно где, он снял её и убрал в карман, подумав, что потом помоет побрякушку, а то и искупает в крепком настое.
Житеслав снова перевёл взгляд на детей. Какие же они весёлые, беззаботные, будто и не было никакой войны, не было никаких нападений на семью князя, не было пожара во дворце, угля из людей в большой печи, что топилась день и ночь бывшей прислугой.
Пусть веселятся, бесенята.
На рассвете их всех казнят.
Деревня Желтоворота, Новославь
Промокшие до нитки, но довольные настолько, что ещё немного, и начнут светиться, Онагост и Кристалина стояли на пороге, держа в руках посуду. Любица встретила их горячим обедом и неодобрительным взглядом, но посуда была чиста, а значит, отчитывать за забавы бесполезно. Такие стычки происходили если не постоянно, то раз в седмицу точно.
Посуда с грохотом оказалась на лавке у стены.
— О, мой по закону положенный пирог! — Кристалина подскочила к столу и с шумом втянула воздух. — Мой родимый...
Онагост снял рубаху, оголив верх, и показно отжал её перед порогом, прожигая укоризненным взглядом мать и сестру. Любица не заметила этого. Она подняла доску с пирогом и пронесла мимо носа дочери, убрав его на полати.
— Ну ма-а-ам, — протянула Кристалина.
Женщина была непреклонна. Пирог мигом оказался в дальнем углу спального места.
Кристалина наконец повернулась в сторону брата, который всё ещё старательно выжимал досуха свою рубаху, задумчиво смотря куда-то вниз. Стройный, бледный, с огненно-рыжими волосами, чуть вьющимися сверху и сильнее - на концах; и чертами лица совсем каплю мягче, чем следовало бы иметь мужчине. Он был словно пламя костерка на морозе. Рыжая копна закрывала уши и едва касалась плеч, прикрывая старый рубец на шее. Левую скулу украшала родинка.
По нему страдала половина девушек соседней деревни, Полынной, хоть им и строго-настрого запретили даже думать в сторону замужества с «сыном Любицы». В Желтовороте почти все любили и принимали такого странного, не похожего на других парня («Единственный огненный закат среди золотого рассвета и летней ночи», - шутили девушки).
Старожили с опаской относились к рыжим и кареглазым людям, и в первую очередь из-за их схожести с бунтовщиками, что устроили погром во дворце много лет назад — такие же рыжие и темноглазые. Люди всё ещё помнили события двадцатилетней давности, помнили угольно-чёрного мёртвого сына князя, княжича Михаила, которого вынесли из парадного входа под надрывистый полуплач-полувой княгини Марии. Помнили они и многочисленные костры, в которых сжигали людей, превращённых в уголь. И теремную печь, топившуюся денно и нощно телами бывших чернавок и поваров. Эту ночь стали называть ночью Огнёвицы, в честь людей, павших горелыми памятниками, а именно огненных чародеев.
Люди хорошо это помнили, а потому боялись его, — такими мыслями Онагост делился с Кристалиной. Но девушка видела, как оно на самом деле, и думала иначе.
Онагост поднял глаза на сестру, пересёкся с ней взглядом.
— Стыдно не стало тебе? — Он ещё раз отжал рубаху, выдавливая изо всех сил последние капли. — Напала на меня почём зря, а мне и защититься нечем.
Желание помочь убрать влагу вмиг пропало. Кристалина задохнулась от возмущения и раскраснелась, досадливо сжимая кулаки.
— Да я!.. Да!.. А ты мог бы мне и ответить, а не просто в луже валяться, умеешь же! — выпалила девушка.
— Я-то тебе отвечу, но за такое меня мгновенно в поруб закинут, если не повесят, — угрюмо ответил Онагост и накинул почти сухую мятую рубаху на дверь. — Сама же знаешь, что не могу, ещё и подстрекаешь. — Цыкнул. — Нехорошо такой быть.
Он провёл рукой по шраму на шее, стирая капли, затем потянулся к родимому пятну на правом углу челюсти. Коричневое, оно напоминало искривлённый лист берёзы. Ровно такое же пятно на том же месте у Кристалины. Клеймо на всю жизнь. Тяжёлую и тревожную из-за этого жизнь, но кто давал выбор?
Из раздумий его вырвал голос матери.
— Гостя, иди хоть поешь горячего, замёрз ведь. Не дай Промыслитель, сляжешь ещё, кто мне помогать будет?
Онагост рассеянно оглянулся на плошки с похлёбкой, стоящие на столе полукругом, и только тогда понял, насколько сильно проголодался. Сжав губы от досады, парень прошёл к лавке.
«Здесь мог бы сидеть кто-то другой, но никак не я». — От внезапной странной мысли Онагост нахмурился и перевёл взгляд на сестру, уже успевшую плюхнуться на лавку.
Кристалина была бела, как снег, и румяна, как вино. Её не брал ни холод, ни лёд, потому она стойко переносила зиму, подолгу купаясь нагишом в снегу и ледяной проруби.
В её жилах текли прохладные бурные реки, на кончиках пальцев играли ледяные искорки, а в глазах плескалось пустое голубое небо. Жёлто-белые волосы она заплетала в лёгкую косу, вплетая обычно голубую или зелёную ленту, а то и вовсе ходила простоволосая. Она была бешеным потоком воды, водопадом, юрким изворотливым ручейком, быстрой рекой. Однако, в отличие от Онагост, эти чары не причиняли ей той болезненности, но её тело всегда ощущало холод, как бы горячо не было снаружи.
Если Кристалина — бурный поток, то Онагост — очаг, то едва горящий, то полыхающий выше деревьев.
Любица отломила кусок хлеба и положила у печи, рядом с чёрной заслонкой. В углу послышалось пыхтение, и, разметав по полу мелкий сор из-за печки, наружу выскочил Домовой, с урчанием вцепившись зубами в хлебный ломоть и сверкнув золотыми глазами.
***
— Ети твою мать, — тихо выругалась Любица и швырнула на стол прялку, зубья которой были сплошь увешаны колтунами шерсти. Крикнула: — Кристалина, а ну иди сюда!
Сверху послышался топот, и на лестницу выглянула растрёпанная девушка, подхватив подол льняного серого сарафана, вопросительно вскинула подбородок.
Любица махнула рукой, чтобы та подошла.
Кристалина мигом спустилась, оказавшись рядом с матерью, и нахмурилась.
— Это не я. Я твоё рукоделие не трогаю, ты же знаешь, — предупреждая обвинения сказала девушка и взяла в руки прялку, покрутила, внимательно осматривая, и начала потихоньку распутывать нити.
Жгутики не поддавались и, казалось, только туже завязывались. Кристалина упорно раскручивала каждый узелок, ища проход. Она потянула за очередной конец, и нитка, натянувшись, с надрывным писком лопнула. Кристалина застыла на мгновение, всё ещё смотря на клубок пряжи, но вдруг жутко и одновременно грустно улыбнулась.
— Топи печь, мам, у нас новые дрова, — она положила прялку на стол, хотя хотелось швырнуть её на пол и раздавить.
Любица вскинула бровь.
— Зачем это? Я и сама могу распутать, если тебе так не хочется...
— Да не в этом дело. — Кристалина помолчала мгновение, затем досадливо плюнула: — Курвья мамо́шка эта кикимора...
— Думаешь, она? — Любица взяла в руки прялку и грустно огладила пряжу. Вздохнула. — Что же, тогда и впрямь в печь.
Кристалина выхватила прялку, глянула на мать и развела руки, позволив упасть вещи на пол. Прыгнула на донце, чуть не свалившись — изделие оказалась сделано на совесть и доски не сразу поддались. Наконец, послышался хруст ножки и лопаски, и довольная девушка подняла обломки с остатками теперь уже перепачканной кудели и пряжи, закинула в устье печи и раздула огонь.
Любица неодобрительно покачала головой, но ничего не сказала, хотя — Кристалина могла поклясться — ей очень хотелось возразить насчёт проказы.
Лучше всегда избавляться от вещи, над которой ворожила кикимора — мало ли, какие чары на ней могли остаться, — и Кристалина не могла упустить такую возможность поглумиться над старой вещью, мозолившей глаза.
Кикимора, какая бы она ни была: болотная, лесная, заселившаяся в избе — всё одно, только зло и разрушения.
Кристалина фыркнула и откинула на спину длинную русую косу, заплетённую от плеч. Поправила понёву и уставилась на огонь, с треском пожирающий нитки и осыпавшиеся с нижнего края лопаски резные серёжки. Жаль было, конечно, мамин труд, но избавляться от чего-то осквернённого девушка любила не меньше, чем чаровать воду.
Ни для кого в Новослави не было тайной, что если утром случается несчастье — жди их и в течение дня. То кошель потеряешь, то в новом наряде в лужу уронят, то корова заблудится на лугу. Если задобрить кого-то из богов, то напасти с тобой не случатся, а может, и наоборот, будет весь день погожим и везучим. Только вот Макошь давно обходила эти края стороной — со времён ночи Огнёвицы. Не понравилось богине, как княжьи люди обращались с искрящимися людьми, её сыновьями и дочерьми, вот и отвернулась она от Новославских земель. А следом за ней ушли и другие боги. Так и живут люди с тех пор: подношения на капища приносят, но не находят такого желанного спасения. Некому стало народ защищать.
***
На ярмарке, как обычно, было шумно, а с наступлением месяца травного ещё и жарко. Народ вечно спорил, пытался сбить цену, предложить что-то взамен, а то и вовсе похитить приглянувшийся товар. Кричали торговцы, мычали коровы, кудахтали куры, зазывали лоточники с расписными пряниками, звенели височными кольцами лавки с украшениями, лаяли собаки, своровавшие большую свиную ногу... Весь островок торговли гудел, словно большой улей. Пахло мёдом, брагой, дорогой тканью и караваями.
Онагост направлялся к тихой части, подальше от тревоги, суеты и сутолоки. Ему нужны были ростки для огорода, а найти их можно было лишь у одного человека, хорошо известного в княжестве — Цветавы.
Старая женщина как и всегда стояла в смешной остроконечной шапочке с широкими полями, щедро украшенной всевозможными сухоцветами, из-за чего та вечно неудобно сползала на лоб при наклоне, и даже завязанные под горлом ленты не помогали. Расшитый красными защитными знаками сарафан подметал землю вокруг лавки — сама Цветава не замечала этого, пока не начинала пачкать людей. Руки были чёрными от земли, и казалось, они уже никогда не отмоются.
Она с улыбкой встречала каждого, интересовалась, как дела, рассказывала истории. Всю жизнь цветочница провела в путешествиях по государствам и княжествам, так и не заимев детей. Зато имела дорогое ей дело и так заразительно о нём говорила, что неволей задумываешься: а не пойти ли к ней работать?
Цветава могла оживить цветок, грядку или целое поле, поддерживая невидимую связь с землёй, общаясь с ней на одном, лишь ей понятном, языке, но земельной искрящейся не была, хотя находились и те, кто подозревал её в чародействе. Она не представляла жизни без помощи другим, но помогала редко, лишь тем, кого видела «смелым росточком». Онагост был одним из таких. Казалось, во всей деревне лишь цветочница видела в нём что-то хорошее, потому как не раз повторяла ему: «Ты сильный, сильнее любого ветра, любой горы, позволь этой силе проявить себя, только тогда тебя смогут принять и полюбить, уж поверь мне».
Онагост не верил ей. Он всегда считал это лишь способом заманить покупателя.
— Мальчик мой, ты вернулся. Что на этот раз? — с задором спросила женщина.
Онагост крепко сжал губы от накатившей боли, раздиравшей грудь, и молча оглядел её горшочки, пытаясь вспомнить, как выглядит всё то, что просила купить мама, но сейчас не смог припомнить ни одного названия, не то что определить по виду. Онагост наугад ткнул в несколько ростков, всё ещё неуверенный, что поступает правильно. Стоило вернуться домой и прийти сюда потом. Например, когда пройдёт приступ, и он снова начнёт соображать.
— Давненько я Любицу не видела, как она? Здорова? — Цветава поставила в его короб четыре горшочка.
Онагост судорожно вдохнул и чуть поморщился.
— Да, вполне. На днях затеяла большую уборку, да всю деревню облаком пыли накрыла. — Он рвано рассмеялся и протянул Цветаве монеты. — Как-нибудь придёт. Может, даже завтра...
Получить от матери не хотелось. В душе всё же теплилась надежда, что в коробе стояло то, что нужно.
Что вырастет, то вырастет, устало подумал он. Будем летом морковь, значит, собирать.
А всё из-за странно начавшейся весны, то подмораживающей до хруста, то топкой и жидкой. И если с последним ещё можно было как-то совладать, ведь Кристалина могла убрать воду, то отследить равномерное распределение тепла в земле Онагост был не в силах. Все посадки просто сгнивали или замерзали, не успевая толком взойти.
Народ не торопился идти домой и толпился возле прилавков, создавая давку. Один из мужиков неловко развернулся и ударил Онагоста локтем под рёбра, угодив в самое сердце колючего жжения.
Парень согнулся, едва не упав — колени подкосились, — на глазах выступили слёзы. Осторожно выпрямившись, он сделал шаг, проверив, крепко ли держится на ногах. Его немного покачивало, очертания перед глазами плыли и пульсировали. Взгляд зацепился за мужичка в чёрной накидке в паре шагов от него — единственное, на чём удалось сосредоточиться. Тот заметил это, что-то испуганно прошептал, замахал рукой, вырисовывая какие-то знаки в воздухе, а затем поспешно удалился, беспокойно оборачиваясь на Онагоста.
...Дорога до дома пролегала через полынное поле, мимо реки, чуть дальше разделившейся на отдельные ручейки, один из которых и протекал недалеко от дома. Это, наверное, было самое безопасное место во всей Новослави — Навьи духи боялись полыни, потому на поле было пусто. Ни одного Полевика, ни одного Ауки, а Луговички ещё спали. Только Полуденица могла застать тебя в это время, да и от той есть заговор.
Онагост шёл медленно, выжидая, когда подействует обезболивающий отвар, наслаждаясь отсутствием Навьих тварей, вдыхая запахи молодых трав. Ещё немного, и поле покроется разными яркими цветами, станет пёстрым ковром, а пока можно было довольствоваться сизыми лапами и жёлтыми гроздьями молодой горькой полыни. Ноги гудели от усталости — сегодня он очень много прошёл, но ничего с собой поделать Онагост не мог. Только шум ярмарки отвлекал его от мыслей, от неприятных колюче-горячих ощущений из-за текущей по жилам силы. Иногда хотелось проделать в себе дыру и вынуть все внутренности, чтобы хоть на лучину почувствовать облегчение. По ночам он вскакивал от кошмаров, где и его самого, и всю его семью пожирал огонь, или в их дом врывались Белочники с обжигающей заговорённой — искрящейся — водой и выводили всех домочадцев на виселицу. Страшный сон, что случился со всеми чародеями, попавшими в руки к этим охотникам.
Людей, что творили огонь, считали не просто ужасными — на них объявили охоту, а заодно отлавливали чародеев воды и земли. И вот уже два десятка лет все искрящиеся прячутся от рук служителей князя, от простого народа, а порой и от близких людей.
Онагосту и Кристалине несказанно повезло. Любица была обычной простолюдинкой и ей удалось скрыть наличие сил у детей, а взамен она попросила их никогда не колдовать хотя бы на глазах у других. Вот только чары Онагоста в разы отличались от чар Кристалины. Если та могла использовать их для домашних дел настолько часто, насколько позволяла воля случая, израсходуя все телесные возможности до последней капли, то Онагосту приходилось держать себя в руках, чтобы не подпалить что-то или кого-то, и порой это давалось с неимоверным трудом. Со временем он почти перестал колдовать, но жизнь от этого спокойнее не стала.
Кристалина забирала воду из всего, до чего могла дотянуться и о чём могла помыслить. Так она научилась сушить фрукты и овощи, травы и мясо, попросту убирая из них влагу. Она могла играть с дождём, при большом усердии — создавать сухой путь через неглубокую реку прямо по её дну. Кристалина наполняла почву водой одним лишь движением руки, а в сильные ливни в их доме всегда было сухо.
И тепло.
Онагост брал его извне: из очага, нагретой солнцем земли, просто из воздуха, - сужал тепло до крохотной плотной точки, и та вспыхивала искрой, поджигая суховьё или сверкая язычком пламени между пальцами. По первости, когда едва вступивший в четвёртую весну мальчишка пытался чаровать, холодно в горнице становилось даже в самый жаркий день. А прожжённый пол остался напоминанием о неловких попытках колдовства. Но Онагост не только разрушал — его силы облегчали болезнь: он убирал лишний жар из тела или раненой конечности, обязательно решившей нагноиться и воспалиться. Мог нагреть воду для мытья, а в хлеву и сарае всегда было тепло зимой — так скот оставался жить там, за неимением сеней, а запасы сухих фруктов, овощей, трав и мяса, заботливо высушенные сестрой, никогда не портились от холода или влаги.
Онагост набрал воздуха в грудь и судорожно, с шумом выдохнул.
По-прежнему жжёт. Всё так же неприятно внутри.
Онагост вспоминал, как его и Кристалину в малолетстве привели к знахарю. Это была последняя надежда на обычную жизнь и защиту. Онагост помнил, как холодные сухие пальцы старика обвивали его запястья, лодыжки, шею, оставляя неприятные ощущения, — (рыбьи, как он впоследствии их назвал). Как старик громко шептал заклинания прямо над ухом. Как в груди потихоньку разгоралось жалящее чувство сродни пожару, отдавая пульсирующей болью в висках и ломотой в костях.
Знахарь ослабил их силу, надел невесомые оковы. Онагосту, как ребёнку с самыми неуправляемыми чарами, досталось больше заговорённых узлов, но даже это не помогло надолго. Со временем и они ослабли, а вместе с вернувшейся силой пришёл и страх.
Страх животного, загнанного в силки.
— Как же я устал... — утомлённо протянул парень.
Поле кончилось, и под ногами зашуршали камни. До поворота к дому оставалось совсем немного.
В высокой траве сидел Полевик и внимательно наблюдал за путником. Онагост взглянул на его светящиеся лучами солнца жёлтые удивлённые глаза и нервно хмыкнул. Искрящихся людей опасались порой даже духи, но всё же их привлекал жидкий огонь в человеке. Убив чародея, Навь жадно впитывала в себя его кровь и чары, обжигаясь и кривясь. Она не хотела отдавать свою силу и потому пыталась вернуть то, что когда-то потеряла.
Полевик почесал бороду из ржаных колосьев, качнулся и, опрокинувшись назад, покатился дальше, сквозь траву, распугивая бабочек и стрекоз. Вслед за ним с клёкотом полетели мелкие птицы, будто оберегая.
Полевик боится огня, это знают все, а потому встреча с человеком, создающим искры, не сулила ничего доброго. Ведь любопытного духа могло привлечь что угодно и, от неожиданности, поджечь пушистые космы. А горящая Навья тварь способна спалить целое поле урожая, оставив людей без муки на зиму.
Но людей, что творили искры, было крайне мало, а то и вовсе не осталось, поэтому за урожай почти не боялись.
Где теперь найти таких же, как Онагост? Остались ли ещё чародеи огня в Новослави? Остались ли вообще в Новослави чародеи?