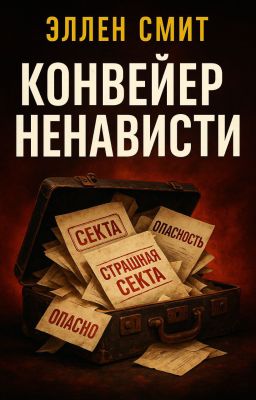Часть 3. Закон как дубинка: легализация травли
Пропаганда создает врага, а уличные акции создают видимость «народного гнева». Но для того, чтобы конвейер заработал на полную мощность, чтобы он мог не просто травить, а ломать, сажать и уничтожать, ему нужен главный инструмент — легализация травли. В руках сети Дворкина даже российское законодательство превратилось из механизма защиты прав в дубинку для подавления неугодных.
Иллюстрацией этого механизма подавления, является в том числе та самая история, с которой и началось мое расследование. История про йогу в тюрьмах. Теперь, зная всю подноготную, я видел ее совершенно другими глазами. Это был не абсурдный курьез. Это была спецоперация.
Давайте разберем ее по шагам.
Шаг 1: Создание псевдоэкспертной угрозы. В апреле 2019 года Александр Дворкин, выступая в роли «профессора сектоведения», пишет обращение. Не просто в газету, а к конкретному носителю власти — сенатору Елене Мизулиной (и как оказалось не случайно, так как Мизулина на этот момент уже разделяет идеологию Дворкина).
Он заявляет, что асаны йоги в конечном счете спровоцируют «голодные бунты» в СИЗО.
Это звучит как бред сумасшедшего. Но бред, апеллирующий к темам тюремного порядка, бунтов, ЛГБТ и облеченный в форму «экспертного заключения», становится грозным оружием. Дворкин всегда бьет по приземленным, понятным для чиновников страхам.
Шаг 2: Политическая легитимация. Сенатор Мизулина, не утруждая себя проверкой фактов или консультациями с реальными экспертами по йоге или пенитенциарной системе, принимает этот сигнал.
Она не отправляет Дворкина к психиатру. Она пишет официальный сенаторский запрос на имя Генерального прокурора России Юрия Чайки, требуя «провести проверку» и «принять меры». В этот момент бред Дворкина обретает вес государственного документа.
Шаг 3: Реакция государственной машины. Генеральная прокуратура не может проигнорировать запрос сенатора. Запускается бюрократическая машина. Запрос спускается во ФСИН (Федеральную службу исполнения наказаний). Руководители на местах, как правило, получив грозную бумагу, действуют по самому безопасному для себя сценарию: «как бы чего не вышло». И вот результат: ФСИН действительно временно приостанавливает занятия йогой в московских СИЗО до окончания проверки.
Цель достигнута. Без единого судебного решения, без каких-либо реальных оснований, просто на основании бредового доноса одного человека, деятельность остановлена. Репутационный ущерб нанесен. Создан прецедент.
Хотя позже замдиректора ФСИН Валерий Максименко публично высмеял доводы Дворкина и Мизулиной, отметив, что йога, наоборот, положительно влияет на дисциплину, машина уже сделала свое дело. Она показала, как легко и эффективно можно парализовать любое неугодное явление.
Эта схема — «эксперт» Дворкин → лояльный чиновник → запрос в силовые ведомства → проверка и запрет — использовалась десятки, если не сотни раз. Так закрывались реабилитационные центры для наркозависимых (объявленные «трудовыми сектами»), образовательные семинары, культурные фестивали.
Но это была лишь верхушка айсберга. Параллельно с тактическими ударами шла стратегическая работа — лоббирование и изменение самого законодательства.
Я углубился в историю российского законодательства о свободе совести. И обнаружил, что Дворкин и его сторонники, в том числе из религиозного круга, начали свою работу почти сразу после его возвращения в Россию. Уже в 1993-1994 годах они активно лоббировали отмену либерального закона 1990 года «О свободе вероисповеданий», который давал равные права всем религиозным объединениям.
Их усилия увенчались успехом в 1997 году, когда был принят новый, гораздо более жесткий федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Этот закон ввел понятие «традиционных религий» (православие, ислам, иудаизм, буддизм), поставив все остальные в положение второго сорта. Он создал массу бюрократических препон для регистрации новых групп, дал чиновникам широкие полномочия для отказов и проверок. По сути, он заложил правовую основу для дальнейших репрессий.
Именно на этот закон, как на фундамент, позже легли еще более репрессивные нормы, в частности, «пакет Яровой», который фактически криминализовал любую миссионерскую деятельность вне специально отведенных мест.
Ключевым инструментом для применения этих законов стала так называемая «религиоведческая экспертиза». И здесь круг замыкался.
Кто становился теми самыми «экспертами»? Как правило — люди, напрямую связанные с сетью Дворкина.: его ученики, последователи, сотрудники региональных филиалов РАЦИРС. Их предвзятые, написанные языком ненависти заключения, в которых любая неугодная группа объявлялась «деструктивным культом», «тоталитарной сектой», ложились на стол судье. И судья чаще всего принимал выводы такого «эксперта».
Так, частное мнение идеологически ангажированных «сектоведов» превращалось в судебное решение: решение о ликвидации организации, о признании ее литературы «экстремистской». А в конечном итоге превращалось в приговор к реальному тюремному сроку для ее членов.
Вдобавок ко всему этому, одна из вершин пути Дворкина — пост председателя Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. Подумайте об этом. Человек, чьи методы и терминология вызывают яростные споры в научном сообществе, был наделен реальной государственной властью. Властью решать, какая вера «правильная», а какая — «опасная». Властью, которая напрямую влияет на судьбы тысяч людей.
По сути, Дворкин и его сеть создали параллельную, псевдоюридическую реальность. В ней не действовали нормы светского права и академической науки. Вместо этого царили изобретенные им же термины вроде «тоталитарной секты». Эти «эксперты» получили право решать, кто является «правильным» верующим, а кто — «опасным сектантом», подлежащим изоляции.
Закон перестал быть щитом. Он стал дубинкой. И эта дубинка обрушивалась на головы реальных людей, превращая их жизнь в ад.
Если бы Александр Дворкин остался просто эксцентричным публицистом, автором конспирологических теорий, его деятельность, при всей ее деструктивности, не имела бы столь катастрофических последствий. Но произошло самое страшное: его личная, патологическая, картина мира, подкрепленная нацистской методологией, была принята на вооружение государственной машиной. Его одержимость инфильтровалась в коридоры власти и стала частью официальной политики.
Принятие печально известных «антимиссионерских» поправок в составе «пакета Яровой» в 2016 году также не было случайностью. Это была блестяще разыгранная многоходовая комбинация, кульминация десятилетней лоббистской работы. И началась она не в Москве, а в регионах.
Стратегия была проста: «обкатать» репрессивные законы на местном уровне, создать прецеденты, а затем вынести их на федеральный уровень. Этот процесс, где «антикультовые активисты» выступали лоббистами, отчетливо виден на примере нескольких ключевых регионов.
Архангельская область и Ставропольский край. В 2015 году, практически синхронно, эти два региона становятся пионерами в законодательном ограничении миссионерства. В Архангельске этому предшествовал визит Дворкина еще в 2011 году, где он, по сути, «учил власти воевать с сектами», после чего была создана специальная правительственная комиссия. К 2015 году местные депутаты, подстегиваемые «антикультовыми» настроениями, приняли областной закон «О миссионерской деятельности». Позже именно эти архангельские депутаты выйдут с инициативой в Госдуму и напишут обращение генпрокурору с требованием ликвидировать Свидетелей Иеговы. Ставропольский край, приняв аналогичный закон в том же году, быстро превратился в один из центров преследований за «незаконное миссионерство».
Ямало-Ненецкий автономный округ. Но, пожалуй, самое откровенное свидетельство прямого влияния Дворкина было зафиксировано на Ямале. В апреле 2016 года, когда местные депутаты рассматривали законопроект о миссионерской деятельности, региональное информагентство Ura.ru написало о том, что «Необходимость принятия такого закона обозначил известный сектовед Александр Дворкин во время своего визита на Ямал».
Дворкин был не просто «экспертом». Он был инициатором и идеологическим вдохновителем репрессивных законов. Он приезжал в регионы, «обрабатывал» местных чиновников, создавал информационный фон, и следом, как по команде, появлялся нужный законопроект. Его региональная сеть РАЦИРС обеспечивала поддержку «с мест».
Когда почва была подготовлена, в игру вступали федеральные лоббисты.
И вот, в итоге, в 2016 году наступает развязка. Принятие и начало применения «антимиссионерских поправок» в составе «антитеррористического пакета». Поправки тактически «прячут» вглубь это масштабного «антитеррористического пакета» Ирины Яровой, а не вносятся отдельным законопроектом, который вызвал бы бурные споры. Антимиссионерские поправки были внесены перед вторым чтением неожиданно и в нарушение порядка рассмотрения законопроектов, для их полноценного общественного обсуждения не оставалось времени. В короткий промежуток между их внесением и принятием религиозные организации, юристы и правозащитники пытались донести до разработчиков опасность их принятия, указывали на невнятные формулировки, допускающие различные интерпретации и, следовательно, могущие привести к злоупотреблениям в правоприменительной практике. Однако поправки, тем не менее, были приняты без существенной корректировки.
Это был гениальный ход и безусловно победа сети Дворкина. Ведь напротяжении многих лет до этого попытки законодательного ограничениямиссионерской деятельности заканчивались неудачей.