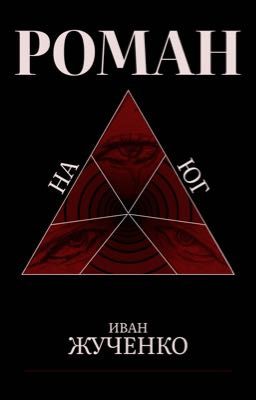ГЛАВА 3
После такой, если можно сказать, бурной ночи Мила решила пригласить Освальда в ресторан, хотя скорее его можно назвать забегаловкой на три звезды под пафосным названием "Рыцарская Трапеза". Окна были в романском стиле, обрамлённые разноцветными стеклышками, как фрески в католических соборах. Возле входа лежал вечно пьющий ветеран 1871 года, наверное, с того самого года его ноги и начали вонять французским пармезаном, или, может, потому что он не моется. Потолок был слишком низкий для ресторана, и в люстру можно было упереться головой, если вы предпочитаете носить цилиндр. В зале вместо стульев стояли старые 80-летние кресла, вешалок для вещей не было. Освальду она бы и не понадобилась, так как он уже оставил своё пальто в том переулке на радость какому-то из местных бездомных, а вот Миле не помешал бы крючок, куда можно было бы повесить её шубу. Освальд, будучи джентльменом, подозвал хлипкого официанта и попросил его положить куда-то верхнюю одежду фройляйн. За это господин сенатор отвернул карман пиджака официанта и положил туда одну марку в качестве чаевых. Освальд и Мила сидели минут тридцать в ожидании, пока на кухне этим утром заработают печи, чтобы можно было сделать заказ. Фройляйн и сенатор пустились в философские размышления о том, кто и почему убил эту проститутку.
— Может, преступник занялся с ней сексом и просто не захотел платить, — утверждала Мила.
— Вряд ли, — как всегда бледно сказал Освальд.
— Почему вы так считаете? — спросила Мила, намекая на то, что это частая причина для убийств проституток.
— Обычно, когда хотят заняться сексом и не хотят за это платить, заводят жену. Хоть в перспективе она и оказывается дороже, чем проститутка или даже множество проституток, но всё же заведено так. Во-вторых, удар ножом был нанесён раньше, чем произведён половой акт, — добавил Освальд, постукивая своими туфлями по ножке стола, чтобы стряхнуть остатки снега.
— Как вы это заметили? — спросила Мила.
— Всё проще, чем кажется. На платье был след крови, и ткань разрезана от ножа. То есть сначала её пырнули ножом, а потом подняли платье, чтобы надругаться, — сказал Освальд, слегка покашливая.
— Не надо было мне бросать ваше пальто на труп. Простите, это было так спонтанно. Теперь вы можете заболеть, — опустив глаза, сказала Мила.
— Ничего страшного, сейчас это меньшая из наших проблем, — сказал Освальд, отвернув голову в сторону, ища глазами официанта.
— Вы сказали "из наших проблем"? — покраснела Мила.
Освальд, поставив Милу в неловкое положение, так и не ответил. Непонятно, что интересовало его в тот момент больше — труп этой проститутки, работа, на которую он может опоздать, или Мила, которая сидела напротив. Также было непонятно, что делать дальше.
Подошёл юный официант и радостно картаво сказал: — Печь нагрета, жду ваши заказы, герр и фрау.
С маленькой дрожью в ногах, по нему было видно, что работает он здесь максимум день, может быть третий. Впервые видел людей, одетых дороже, чем его пятилетняя зарплата, что было в новинку как для такого заведения, так и для этого юнца.
Освальд спросил о качестве морепродуктов и из какого они моря привезены, смотря в глаза мальчику. После чего расслабленно сделал заказ салата из морепродуктов для Милы и чёрного чая для себя на завтрак. Официант записал и трусцой побежал в сторону кухни. Освальд посмотрел под стол, убедившись, что снег с туфель полностью стряхнут, встал с кресла, застегнул верхнюю пуговицу своего пиджака и, поправив брюки, стройно расправил плечи. Взглянув на Милу, он улыбнулся впервые за несколько часов и сказал: — Фройляйн, я пойду помою руки.
Развернувшись на девяносто градусов, сенатор пошёл в уборную. Зайдя туда, Освальд посмотрел на треснутое по диагонали зеркало, может, этим оно напомнило ему его сущность. Освальд увидел, что зря так поправлял костюм: он сидел уже не так хорошо, как сутки назад, он устал, и причёска его была растрёпана, а глаза украшали два усталых синих горбика. Сенатору явно нужна была тёплая ванна и хороший сон. Освальд, помыв синие от холода пальцы дешёвым мылом, уже собрался открывать дверь, как позади себя увидел знакомый силуэт в этом до ужаса маленьком туалете.
Позади Освальда стоял француз, его плечи тряслись как от смеха, только смеха совсем слышно не было. Освальд смотрел непонимающе, как он мог тут оказаться. Головной убор и плечи француза были с небольшой присыпкой снега, словно маленькие Альпы, только ростом метр семьдесят.
Освальд непонимающе долго смотрел на француза, осматривая его одежду и всматриваясь в глаза в надежде понять хоть малейшую капельку его намерений. Руки француза были запачканы какой-то чёрно-бардовой гарью, как у красильщика на сталелитейной фабрике неподалёку. Кутикулы вокруг ногтей были то ли обгрызены от нервов, то ли стёрты, а лицо украшали несколько неглубоких царапин.
— Что ты забыл в этом районе? Я совсем не ожидал тебя тут встретить, — сказал Освальд, приперев ногой дверь уборной, требуя ответа.
— Я словно твоя Мила, всюду следую за тобой, — ответил француз, покачнувшись вправо и присев на край раковины, готовясь к долгому душевному диалогу.
— Мила не моя... она мне подруга, ничего более. Для меня всем была жена и ребёнок, но не она, она не может стать их заменой, — возразил Освальд, протирая голову платком. У сенатора явно поднялось давление после острого, как наполеоновский штык, вопроса.
— А как же ваша прогулка? Ах да, ты показывал ей прелесть всего этого неба, что светит. Разве это не любовь? Скажи мне, сенатор, разве ты не влюбился?
Француз начал смеяться и, выходя из себя, приблизился к Освальду на расстояние двадцати, а может, даже десяти сантиметров и начал облизывать свои толстые губы, готовясь к новой штыковой атаке.
— Знаешь... а я даже не осуждаю. У меня ведь тоже есть любовь, и была любовь до этого, только своей теперешней любви я говорю, что прошлой не было, и любил только её. Вранье повсюду, Освальд, в тебе, во мне, в теле и душе соответственно. Для тебя приведу пример попроще. Та проститутка, которую убили, её тоже кто-то любил, не только трахал и насиловал за пару железных марок на прогнивших пружинах старого матраса. А именно любил. Может, её любил её отец или мать, не знаю её семью, но что-то такое точно было. Может, у неё вообще были дети, или может, близнецы. Любовь — это заведомо проигрышное мероприятие: ты кого-то любишь, а цель твоей любви умирает, или, что ещё хуже, уходит от тебя, что раздавливает в тебе всю ту личность, что ты формировал не только для себя, но и для человека, которого мы так сильно любим. Самое забавное, что когда человек по-настоящему одинок и в его жизни появляется любовь, одиночество пропадает, а когда пропадает любовь, она прожигает душу и оставляет такой пробел в жизни, что, будто одиночества до этого и не было, и вот оно истинное одиночество. Разве не это ты чувствовал, когда твоя жена сгорела и сожгла заодно и твоего сына? Как там говорится? Одним выстрелом два зайца?
Закончив свой небольшой монолог, француз стал дожидаться реакции на удары, облизывая свои губы.
— У тебя нет монополии на правду, француз. Я был неприятно удивлён твоим присутствием, — сказал Освальд, выходя из уборной.
Француз пошёл за ним по пустому, как пустошь, коридору. Они разменулись между выходом в зал и на улицу, француз пожелал сенатору удачи в своей манере и удалился под снова надвигающуюся снежную бурю, растворяясь за несколько метров в тени.
Освальд вернулся за стол к Миле. За столом сидел давний знакомый Освальда — Карл Лебрехт Иммерманн, местный писатель и публицист, а также владелец самой крупной газеты города Ганновера «Ганноверский трактат». В сопровождении его была фройляйн, на вид только поступившая в университет на журналиста, с блокнотом в руках. Возле входа покорно ждал помощник, лакей и лизоблюд с опытом — Фридрих.
Карл при виде подходящего Освальда махнул рукой своей фройляйн, чтобы та сделала какую-то команду, как собачка в цирке. Он поднялся и протянул руку сенатору.
— Крайне рад вас видеть, господин сенатор, не знал, что такие боги политики, как вы, могут снизойти в наш бедный район, — сказал Карл, поправляя нижнюю пуговицу своего напыщенного зелёного до ужаса приталенного пиджака итальянского кроя.
— Герр Иммерманн, тоже рад вас видеть. Вы не беднеете, всё носите костюм, который по цене квартиры в этом районе, — подметил Освальд, показав Миле взглядом, что долго не собирается вести данный диалог.
— Ответьте мне на один вопрос, я же журналист в прошлом, хочу по дружбе спросить.
— Какой же? Давайте ближе к делу.
— Что вы думаете о сегодняшнем убийстве?
— Я думаю, это квалификация для медийного отдела полицейского управления, — ответил сенатор.
— Но вы же всё-таки законодатель, и бюджет определяет ваша партия в сенате. Почему в городе настолько небезопасно, что вообще приходится задавать столь глупые вопросы про убийства? Это же сплошная чушь. Не лучше бы нам интересоваться модой, ганноверским барокко и оперой?
— Хорошо вы подметили, герр Иммерман, но наша партия утвердила самый большой бюджет за последние десять лет для финансирования полицейского управления. Может, ваша абьюдантка хочет задать мне вопрос? — сказал Освальд, посмотрев на девушку, стоящую за плечами Иммермана.
— Аааа, я хочу спросить вас... — промолвила девушка.
— Заткнись, Анджела, не позорь меня перед человеком, — сказал Иммерман, забрав у девушки блокнот. — Знаете, эта молодёжь совсем не держит уровень беседы. Ей пока многого не хватает, но я... я обязательно её натаскаю, — сказал герр Иммерман, похлёбывая свой виски ранним утром ноября. Девушка позади него совсем притихла, и он понимает, что она тут ради карьеры, а путь карьеры бывает очень тернист, если вы понимаете, о чём я.
— Знаете, герр Иммерман, вы очень небрежно относитесь к молодёжи. Когда-то мы с вами были такими же молодыми, и совсем скоро они нас заменят, — ответил сенатор Иммерману.
— Да никогда они меня не заменят, — сказал Иммерман, допивая свой виски.
Он встал, совсем забыв про мнимое приличие и не застегнув пуговицу. Фридрих уже открыл дверь перед публицистом в ожидании похвалы. Старик направился к выходу, держа в одной руке бутылку, а во второй — талию Анджелы, играя мерзкими пальцами по её талии как на пианино.
— Знаете, господин сенатор, статья будет с заголовком: «Потрошитель Яммера: городская власть бездействует». Ждите завтра утренний выпуск с большим заголовком и фото пострадавшей, — сказал Иммерман, удаляясь из помещения «Рыцарской трапезы».
Иммерман покинул зал. Освальд вздохнул с облегчением, а потом сразу же его накрыла зевота. Зевоту оборвал голодный взгляд Милы: то ли она смотрела так на Освальда, то ли на свой салат из морепродуктов — было непонятно.
Освальд выпил черный чай залпом, и на душе его стало чуть потеплее. В голову нагрянуло осознание, что вскоре на работу, и он немного опаздывает.
Сенатора начала накрывать какая-то странная паническая атака. Он начал кашлять изо всех сил, и через кашель пробирался смех. Глаза его немного пожелтели, как старые костяные пуговицы, а лицо еще никогда не было таким впавшим от усталости.
— Мила, рад был провести с тобой этот вечер, ночь и утро, но мне действительно очень надо на работу. Где бы я смог найти тебя? — спросил он.
— Отель недалеко от Сената, — ответила ему Мила, только начавшая есть свой салат.
— Тот, что с башней в виде часов? — спросил сенатор.
— Именно, — сухо ответила Мила.
— Я тебя найду. Хорошего дня, — сказал Освальд и выбежал быстрой походкой на улицу.
Вокруг проезжали экипажи такси, и все люди шли на работу. Кто-то разбирал снег после вечерней снежной бури, а кто-то шептался о новости про очередное убийство. Освальд махнул рукой и взял себе экипаж такси до здания Сената.
По пути Освальд часто вспоминал про тело проститутки, которое видел ночью. Его голова впечаталась в бордовое сидение кареты такси, а тело стало настолько расслабленным и одурманенным какими-то странными чувствами, что колеса кареты перестали отстукивать брусчатку, и движение стало похоже на прокатку утюга по рубашке. Сенатор на один маленький единственный миг подумал, небрежно или добросовестно он попрощался с Милой, как его мысли стукнулись о грязные нарративы дел в Сенате. Опять писать законопроект под новое управление налоговой и разбираться с жалобами горожан по трубопроводу... Трубопровод, точно... Сейчас почти зима, и уже снег лежит на улице. Скоро начнутся перебои с отоплением, и город накроет дым каминов и печей. Надо бы заложить под это еще финансовых средств из городского бюджета. Главное, чтобы финансисты и Блюхер дали согласие, и Монике надо это не забыть сказать, — подумал про себя Освальд.
— Мы прибыли, герр сенатор, — прервал тихое раздумье Освальда кучер, стуча рукой по крыше такси.
Сенатор расплатился с кучером и поднялся по массивным ступеням. Они никогда не казались ему настолько массивными, непроходимыми. Что-то все-таки было античное в этом здании, хоть до стиля античности ему было далеко. Власть всегда терниста, и об этом стоит помнить и учитывать.
Освальд промок от пота и легких капель моросящего дождя. Вы же еще не забыли, что он избавился от своей верхней одежды?
Блюхер уже ждал его, блестя у входа своими круглыми пенсне на золотой цепочке. Толстая пачка бумаги была готова на рассмотрение или на полный протест со стороны финансового комитета города. Понятно было одно: ждал Блюхер с самого открытия Сената, нервно отбивая мраморный пол железной вставкой на туфле. Цок-цок-цок проносился по залу, и нехотя люди оборачивались на Блюхера, как на обитателя психдиспансера. Честно говоря, пол Сената следовало бы туда отправить. Освальд сверил свои часы с часами в холле: он опоздал на 40 минут. Рядом с большими часами на втором этаже ждала Моника, но Освальд сделал вид, что не заметил ее.
Блюхер, не сильно скрывая свое долгое ожидание, начал торопить события и бежать впереди паровоза. Он протянул бумаги Освальду с формулировкой:
— Это ваши последние законопроекты. Их нужно пересмотреть и отправить на доработку. У финансового комитета нет на это средств, — сказал Блюхер.
— Для такой новости могли бы отправить ко мне кого-то пониже рангом, — заметил Освальд.
— Я жду вас с восьми утра. Мы должны работать как часы, как часы без опозданий, как единый механизм, понимаете? — Блюхер.
— И как это относится к тому, что вы мне лично это преподносите вместо ваших подчиненных? — Освальд.
— В том, что я отношусь к вам с уважением, и что эти законы нужно доработать вовремя и без опозданий. Власть не должна останавливаться, если вы опаздываете. Часы не должны отставать, понимаете?
— Часы отстают на 46 секунд.— Сказал Освальд Блюхеру, сделав вид, что не видит рядом с ними Монику.
— Почему это? И почему именно на 46 секунд?
— Часовщик ровно столько времени курит одну сигарету, и курит он каждый час. Он переводит их, подкручивает, но 59 минут из 60 каждый час они отстают именно на 46 секунд, когда он курит и останавливает механизм, и минутная стрелка замедляется, — сказал Освальд, забрав несколько помеченных томов бумаги с законопроектами по бюджету.
Моника всё так же стояла у часов напротив коридора с кабинетом сенатора и кабинетом главы собрания. Моника сменила наряд, что сразу бросилось в глаза: вместо сдержанности и компромиссов, что было обычным делом для любого официального или политического здания Нижней Саксонии, наружу вывелось что-то ярко вульгарное. Черные брюки из плотного шелка и белую, всегда выглаженную угольным утюгом рубашку заменило платье с вырезом до таза со стороны правой ноги. Низ платья и рукава от плечей до запястья украшали кружева, показывающие всю красоту и нетронутость тела Моники. На декольте был глубокий вырез, ярко подчеркивающий грудь третьего размера. А лицо, ах, её милое лицо. Теперь оно в темно-красной помаде, а щеки в румянах. В руках совсем не было бумажных дел, и она не прыгала с отчётами о выполненных заданиях перед боссом. Не хотела и забрать бумаги у слегка промокшего Освальда. Сутки, сутки Освальда не было в Сенате, а как много изменилось: убийство, ночь с Милой, теперь Моника цирк устроила.
«Этот ноябрь меня убьет», — подумал Освальд и увидел легко шатнувшийся листок бумаги с парой предложений. Он сразу понял, что к чему, и не стал тянуть с вопросом.
— Подписать? По собственному? — сказал он.
— Да, спасибо, герр сенатор, — ответила ему Моника.
Освальд достал перьевую ручку, подаренную мэром. Ей он обычно подписывал что-то чрезвычайно важное, и Моника знала об этом. Сделал росчерк пера и собирался вернуть лист обратно девушке, но сжал его и остановился в мыслях.
— Один вопрос: куда ты теперь пойдёшь? — сказал Освальд Монике, впервые поинтересовавшись о её делах и, наверное, в последний раз.
— Я пойду на прослушивание в оперу, герр сенатор.
— Что ж, удачи в достижении вершин на сцене.